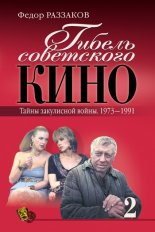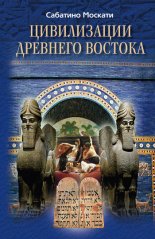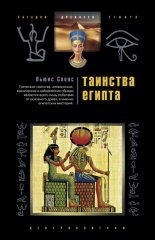Екатерина Великая. Сердце императрицы Романова Мария

Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военныя учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг; он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящий детския игры и постоянное ребячество; вообще он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло шестнадцать лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве.
Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему. Мне шел пятнадцатый год; в течение первых десяти дней он был очень занят мною; тут же и в течение этого короткаго промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие; помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора в виду несчастья ея матери, некоей Лопухиной, сосланной в Сибирь; что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Я слушала, краснея, эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах…
Глава 11
Многолюдно, но одиноко
Жизнь во дворце закружила Фике в бесконечных празднествах, балах и приемах. Танцы, скачки, мороженое, платья, сшитые по последней моде, – какое же выбрать: зеленое с кружевами или цвета слоновой кости с парчовой отделкой? – кавалеры, улыбки, поклоны, неприкрытая лесть придворных…
Сумасшедший водоворот новых лиц, дел, событий, казалось, совершенно поглотил Фике. Однако в глубине души девушка была растеряна до крайности. Она была одинока в этих роскошных декорациях – мать не в счет, она интересовалась чем и кем угодно, но не родной дочерью, – одинока и несчастна.
Даже поговорить было не с кем. Иногда по утрам, когда весь двор спал после бурно проведенного приема, Фике слонялась по огромным пустым залам, не в силах вернуться к себе и заняться чем-нибудь полезным. Не было ни одной живой души, которой была бы нужна она сама, маленькая принцесса Фике, а не София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, возможная невеста великого российского князя…
Пожалуй, только государыня Елизавета Петровна понимала ее состояние. Видя, что девушка не знает, на кого можно положиться и с кем завести даже не дружеские, а хотя бы просто непринужденные приятельские отношения (однако довольно успешно пытается это скрыть), она взяла дело в свои руки.
– Милое дитя, – как-то сказала Елизавета молодой княгине Румянцевой, – вы ведь уже знакомы с немецкой принцессой Софией?
– Мы встречались несколько раз, ваше величество, – весело ответила та, блеснув озорными серыми глазами.
Молодая княгиня была сверстницей Фике. Она была довольно хороша собой, чрезвычайно умна, ловка, но – что все же несколько смущало Елизавету, – не особенно строгого нрава. Казалось, ничто не могло смутить или поставить в тупик эту молодую, изящную девушку. Ей все было смешно – и каждый, кто встречался с ней, словно перенимал эту ее привычку даже самые серьезные вопросы переводить в шутку. Императрица считала, что такая подруга более чем подойдет молодой принцессе – она поможет ей освоиться при дворе, даст совет на первых порах, развлечет и, что самое главное, не сделает никакой подлости.
– Я бы очень хотела, чтобы София поскорее обрела здесь, в России, друзей, – продолжала императрица, пристально глядя на Прасковью. – Наша страна еще совсем не знакома ей, девочка далеко от родных и лишилась привычной ей обстановки…
– Фике мила и обворожительна, ваше величество. Я уверена, что ее дружбы скоро будут искать многие при дворе… Она освоится здесь очень быстро…
…Намек был понят, и Елизавета после ухода Румянцевой облегченно вздохнула. Пожалуй, Фике ей нравилась, и было бы обидно терять приличную невестку… Пусть она чувствует себя при дворе как нельзя лучше… К тому же никогда не помешает знать, о чем думает и к чему устремляется это пока еще невинное дитя…
Однако девицы, которым позволили подружиться, далеко не сразу нашли общий язык. Первые их беседы касались тем более чем удивительных. Как-то раз на прогулке Прасковья вспомнила о странствующих алхимиках.
– Говорили, что сии господа обещают любому, кто готов платить звонкой монетой, сделать груды чистого золота из любого мусора с помощью одного только «философического эликсира».
Фике усмехнулась.
– Так и есть. Уметь эти странники толком ничего не умеют, за исключением, быть может, ярмарочных фокусов. Уж это у них получается просто превосходно…
– Расскажете?
– Отчего же нет? Матушкин друг как-то рассказывал, что встречал одного такого «великого ученого», который применял сосуд, называемый «капеллой». Говоря простыми словами, горшок, на дно которого клал золотой порошок, а потом делал фальшивое дно из воска. Горшок он ставил на огонь, наливал туда «философический эликсир» и начинал неторопливо читать «тинктурные формулы»… Часами в сосуде что-то бурлило, кипело и воняло – и наконец, к радости польстившегося на обещания дурачка, там обнаруживалось золото. Правда, потом сей алхимик, всучив рекомому глупцу за кругленькую сумму флакончик эликсира, растворялся в безвестности. И этого новоявленный мастер златого дела золота почему-то получить не мог, сколько и чего он ни кипятил…
Прасковья не могла не улыбнуться этому рассказу. Да, шарлатаны неистребимы…
Фике же, видя интерес новой приятельницы, продолжала с воодушевлением – не каждый день можно встретить девушку, которой интересны столь странные темы для разговоров.
– Другие, рассказывали очевидцы, использовали выдолбленные палочки, помешивали ими варево, незаметно подбрасывая золотые опилки. Третьи демонстрировали всем и каждому гвозди, монеты и прочие мелочи, наполовину состоявшие из чистейшего золота: опустил краешком в «философический эликсир», и вот что получилось, никакого мошенничества, только наука, судари мои…
Румянцева расхохоталась. Ей удивительно славно было разговаривать в укромном уголке с немецкой принцессой не о женихах или нравах двора, но о предметах, удивительно далеких и необыкновенно ученых.
– Правда, иногда в алхимических опытах рождается нечто столь же нужное и важное, однако куда более потребное сегодня и сейчас, чем сотня золотых монет. Иоганн Бетгер, к примеру, искренне верил, что такой магический эликсир существует и открыть его можно при необходимом упорстве. Он, изрядно тронувшись рассудком от бесчисленных опытов, вообразил, будто все же изобрел «философический эликсир». Агенты саксонского курфюрста прознали об этом и засадили его в уединенный замок, оборудовали великолепную лабораторию. Приставили к нему двух подмастерьев и уверили, что не выпустят, ежели господин сей не сварит целого горшка золота.
Бетгер, конечно, ни крупинки золота не получил, но неожиданно для себя самого, да и для окружающих, придумал, как изготовить первоклассный фарфор. Фарфор, ни в чем не уступающий такому, какой ввозили из Китая и который стоил немыслимых денег. Так и появились на свет знаменитые мейсенские заводы, обогатившие Саксонию.
Прасковья кивнула – сей ученый анекдот она тоже слыхала, однако с удовольствием послушала еще раз из уст немецкой принцессы. Которая, к счастью, оказалась не только хороша собой, но и умна и некичлива.
«Какое счастье! Дружить с ней будет удовольствие на долгие годы! Дай-то Бог, чтобы судьба нас не развела!»
В другой раз у девушек зашел разговор об истории российской, о царях и царицах, кои правили еще совсем недавно.
– Вот хотя бы императрица Анна Иоанновна. Пасквили, коих, думаю, вы, принцесса, немало читали в далекой Пруссии, изображали сию правительницу тупой и злобной бабой, на деле же она вовсе таковой не была. Князь Щербатов, составляя записки об истории российской, писал о ней так: «Императрица Анна не имела блистательного разума, но имела сей здоровый рассудок, который тщетной блистательности в разуме предпочтителен… Не имела жадности к славе и потому новых узаконений и учреждений мало вымышляла, но старалась старое, учрежденное, в порядке содержать. Довольно для женщины прилежна к делам и любительница была порядку и благоустройства; ничего спешно и без совету искуснейших людей государства не начинала, отчего все ее узаконения суть ясны и основательны…»
– Отличные слова о правительнице – уважительные, но не подобострастные.
– Согласна с вами полностью, принцесса, именно что не подобострастные. Годы, когда она правила, для многих вполне свежи в памяти, да и императрица Елизавета не любит о ней вспоминать. Однако запретов на исторические мемуары никогда не делала. Должно быть, поэтому я запомнила сказанное князем почти дословно. Он рассказывал: «…Анною был устроен кабинет министров, где без подчинения и без робости един другому каждый мысли свои изъяснял; и осмеливался самой Государыне при докладе противуречить; ибо она не имела почти никогда пристрастия то или другое сделать, но искала правды; и так по крайней мере месть в таковых случаях отогнана была; да, можно сказать, и не имела она льстецов из вельможей, ибо просто наследуя законам дела надлежащим порядком шли…»
«Ох, как бы мне хотелось, чтобы после правления моего, буде таковое станет возможным, мои современники меня такими словами вспоминали…»
Однако не только ученые предметы были темой бесед двух столь юных особ. Много шума наделали сплетни о великом Казанове, который то ли был колдуном, то ли не был, то ли врачевал людей, то ли избавлял их от золотых излишков, предпочитая, конечно, тех, кто таковыми излишками страдал неизлечимо. К тому же двора Елизаветы достигла уже история о письме на Луну. Придворные постарше радовались тому, что суеверная императрица слухов о колдунах на дух не переносит. А придворные помоложе пересказывали друг другу эту историю со смехом.
– Маркизе д’Юрфе, сказывали, пришла в голову совершенно безумная идея: в следующей жизни (во что она верила упрямо аки ослица) родиться уже не женщиной, а мужчиной. Согласитесь, милая герцогиня, как не воспользоваться таким случаем? Казанова, вот уж не дурак, конечно, воспользовался. Для начала он помог маркизе отправить письмо на Луну, тамошнему духу-гению, чтобы с перерождением какой нелепой осечки не вышло. Для сего он поставил подлинную пиесу: в огромном чане с водой плавали тлеющие, распространяющие одуряющий запах можжевеловые ветки, Казанова голый, как Адам, в компании столь же голой маркизы торжественно и звучно читал заклинания, лунный свет загадочно лился в комнату…
– О, какое зрелище… – задумчиво проговорила Фике.
– Думаю, душечка, нам сего и представить невозможно. Так вот, собственноручно написанное маркизой послание сгорело в чане – и тут же неведомо откуда в воду упал ответ. Маркиза впала в совершеннейший экстаз. Письмо гласило, что перерождение не такая уж и недостижимая вещь: магу Казанове, так маркиза расшифровала послание с Луны, следует найти подходящую девственницу, проделать с ней заповедные магические ритуалы, а когда через девять месяцев на свет появится младенец, госпожа маркиза его поцелует и тут же помрет, и душа ее в означенного младенца немедленно переселится…
– И маркиза в такое поверила? – не то чтобы Фике удивилась, но определенно не стала бы верить вообще кому бы то ни было, не проверив все сама. Такой уж у нее был характер.
– Поверила, ибо глупость, душечка, встречается куда чаще светлого разума, а желания так быстро превращают нас в овец, что иногда страшно становится. Так вот, девственницу Казанова быстренько отыскал – и в присутствии маркизы совершил с ней рекомую магическую процедуру. Но потом… «Девственница» – умная, похоже, девица оказалась – начала ныть, что Казанова странно с ней поделил полученные от маркизы деньги. А родственники маркизы, люди более здравомыслящие, начали всерьез интересоваться, за что, собственно, за какую такую магию этот сомнительный итальянец взял с тетушки кучу денег, которые, между прочим, именно им по завещанию должны достаться?
– Сбежал чародей? Или жандармы его все же настигли?
– Сбежал. Однако к тому времени маркиза успела оплатить карточные долги Казановы и погасила – воистину нет предела глупости человеческой! – все выписанные им подложные векселя. Да вдобавок отдала «магу» фамильных драгоценностей на шестьдесят тысяч ливров.
– Улов более чем неплох…
Девушки посмотрели друг на друга с симпатией. Как же хорошо, когда в далеких странах находишь подлинно родственную душу!..
Глава 12
Пусть уж будет так!
Кто знает, насколько София могла доверять любой из новых подруг? Быть может, делать это не стоило вовсе. Однако прожить в одиночку, опасаясь подлости со всех сторон, просто невозможно. И тогда Фике решила, что некоторым из дам она будет доверять хотя бы потому, что не видит резонов в том, чтобы они ее предали. Ведь она пока никто – лишь принятая при дворе немецкая принцесса.
«Я должна стать русской! Я должна выучиться, дабы никто и никогда не мог попрекнуть меня тем, что не знаю страны, которая меня приютила!»
И в этом было, наверное, самое главное отличие Софии Августы от ее жениха, Карла Петера Ульриха, который не то что не желал становиться русским, он даже старательно не хотел понимать, что в родную Голштинию не вернется никогда!
Петр все еще предпочитал говорить по-немецки, хотя Елизавета приставила к нему самых терпеливых наставников. Презирал наследник русского престола и православие, в которое был крещен насильно, получив имя Петра Федоровича, но не став от этого менее немцем даже на гран. Никакого умения править страной Фике в нем не увидела, равно как и желания этим умением овладеть.
Да, конечно, Петр встретил ее с радостью, однако эта радость показалась Софии сродни той, что выказывает любое дитя, когда среди огромного числа взрослых находит своего сверстника.
– Ему бы поболтать да в солдатики поиграть, душечка, – усмехнулась как-то Румянцева. – Он просто с трудом выросший мальчишка, не мужчина и, конечно, не будущий император.
Как ни больно было слышать это, Прасковья была права в каждом слове. София вспомнила, как обрадовался Петр, увидев проявленный кузиной вежливый интерес. Ума наследнику хватило лишь на то, чтобы честно признаться, что ее, милую Фике, он любит как родственницу, что ему отрадно ее появление. Однако сердечную привязанность, о нет, подлинную любовь он питает к совсем другой даме – юной и прекрасной мадемуазель Лопухиной, которую изгнали после того, как заподозрили в заговоре и прилюдно лишили языка ее матушку.
– Ну да будет так, – вздохнул Петр и взял узкую руку Софии в свои холодные и влажные ладони. – Вы недурны, я бы сказал, что даже милы… по-своему. Раз уж тетушка так сильно желает, чтобы я женился на вас, я женюсь. В конце концов, это не худший из возможных союзов… Думаю, моя милая кузина, что я могу вам даже доверять – мы оба чужаки в этой стране, нас обоих здесь не ждали, нам обоим не рады, так не будет ли лучше, если мы объединимся, дабы защищать друг друга от врагов?
София с трудом удержалась от того, чтобы не дать кузену по губам. «Да как он не понимает, что следует быть осторожнее, пусть мы и беседуем по-немецки? Это вовсе не значит, что нашего разговора не услышат чужие уши, а буде услышат, что не доложат, всяко исказив смысл каждого слова!..»
Конечно, себе София могла и сознаться, что вовсе не из-за неосторожности Петра хочет дать ему по губам. Да, слова его ранили, против всех ожиданий, достаточно больно. Пусть с самого начала поездки было ясно, что их союз продиктован в первую очередь политикой, но все же слабая надежда на чувства кузена теплилась в сердце Фике. Пусть не всепоглощающая страсть, пусть лишь дружба! Ей бы и такого хватило, чтобы отдать душу своему мужу. Однако…
«Ну что ж, да будет так! Вы, ваше высочество, сделали сразу две ошибки. Во-первых, вы уверены, что я стану вашей союзницей, но это не так. А во-вторых, вы лишили меня еще одной надежды. И сие дает мне право избирать сердечную привязанность по своему вкусу! Пусть я телом буду принадлежать вам, дражайший мой кузен, но душа-то вам не нужна. Вот ее-то я и отдам тому, кто сего более вас достоин!»
Что ж, если Петр столь упорно считал себя немцем, то она была просто обязана в противоположность ему стать русской поболее, чем иные русские по крови.
– Правильно, Софьюшка, – улыбнулась Румянцева. – Такое решение поистине невероятно мудрое и достойное не принцессы, но настоящей наследницы престола.
София кивнула – она ладонями разглаживала лист бумаги, на котором печатными буквами были написаны трудные русские слова. Обычно она заучивала их по ночам, а утром Прасковья или вторая приставленная к ней фрейлина, Мария, проверяли, хорошо ли она усвоила очередной урок.
– Императрица тоже нашла мои резоны вполне весомыми. Вскоре ко мне будет приставлен наставник, который откроет мне мудрость православной веры. Матушка Елизавета говорила, что им станет господин Тодорский, которому она уже отослала в Ипатьевский собор повеление прибыть ко двору.
– Мудра императрица наша… – протянула Румянцева. Она знала, что настоятель Ипатьевского собора Симон Тодорский отличается поистине дьявольским умом, ангельским терпением и подлинной дипломатической изворотливостью. Да, такой найдет верные слова, дабы убедить кого угодно в чем угодно. – Однако отчего же мы должны медлить, ожидая отца-богослова, Софьюшка?
– Медлить?
– Конечно. Пусть из Ипатьевского путь и невелик, но все же займет не минуту. А мой добрый друг Василий может уделить внимание вашему высочеству, – тут Прасковья улыбнулась не без ехидства, – хоть прямо сейчас.
О Василии Богоявленском среди дам двора ходили легенды. София от той же Румянцевой уже была наслышана об этом молодом священнике (Фике очень не нравилось слово «поп»). Говорили, что он выбился в люди из самых низов, подобно многим иным, тому же Разумовскому к примеру. Говорили, что голос его глубок, речи значительны, а разум более чем изощрен, что он растолковывает любой ученице суть какого-либо стиха Библии так доходчиво, что не понять его невозможно.
София, конечно, уже обратила внимание на то, что отец Василий не чурается пристального внимания молодых дам двора, но не видела в этом ничего плохого. Ибо если Богу угодно, чтобы его учение было преподано именно так, а не иначе, что же тут дурного?
Прасковья же Румянцева от отца Василия просто сходила с ума. София слушала рассказы подруги с улыбкой. Сердечные дела – штука такая затейливая, что давать какие-либо советы не то чтобы опасно, но крайне неразумно.
– Ну что ж, Прасковьюшка, зови своего отца Василия! Но и сама не уходи – мне не по чину оставаться в комнате одной с мужчиною… – София с удовольствием ввернула новый для себя оборот.
– Софьюшка, душа моя, надо бы сказать иначе. Например, «мне не велит обычай» или даже «отцу Василию не по чину оставаться со мной наедине».
– Спасибо, добрый друг!
Прасковья убежала, а Фике старательно записала объяснение подруги.
Едва слышно скрипнула дверь покоев принцессы. Порог переступила Румянцева, а следом за ней появился ее амант – отец Василий. Одетый в светское платье, он, тем не менее, выглядел лицом духовным (быть может, самым духовным из всех, когда-либо виденных девушкой). Глаза его горели истинной верой, а богатырскому росту вкупе с невероятно красивым лицом могли бы позавидовать все сказочные герои, вместе взятые.
«Добрый мой друг Прасковьюшка, – мысленно улыбнулась София, – как же хорошо я понимаю тебя!»
В душе девушки, к счастью, не шевельнулось и тени зависти к подруге. Не дело делить мужчину с кем бы то ни было будущей жене великого князя. И уж тем более не дело отбивать мужчину, каким бы писаным красавцем он ни был. А вот дружить с таким человеком отрадно, прислушиваться к голосу мудрости – приятно, беседовать – достойно.
«Быть может, отец Василий останется при моей особе вместе с Прасковьей и после свадьбы…»
– Матушка государыня, – склонился в поклоне духовник.
София звонко рассмеялась.
– Ну что вы, друг мой, – с чудовищным акцентом, тем не менее по-русски проговорила она. – Ну какая же я матушка? Какая государыня? Я всего лишь принцесса, которую высокая политика привела в незнакомую страну.
Отец Василий улыбнулся.
– Да, принцесса.
– К тому же принцесса эта очень боится остаться чужаком в этой новой стране. Боится, что ее так и не примет народ, ибо она так и не приняла его традиций и веры.
София говорила от чистого сердца. Эта искренность не могла не тронуть Василия, хотя он до сих пор и не верил рассказам Румянцевой о странной принцессе, которая мечтает стать «настоящей русской».
– Ты преувеличиваешь, друг мой, – усмехался он, целуя нежные пальчики Прасковьи. – Такого не может быть! Она лютеранка, как и великий герцог. Не верится мне, что она захочет пойти поперек воли будущего своего супруга.
– Душа моя… – Девушка прижалась к Василию. – Да ведь никакой воли будущего супруга-то и нет. Есть глупые желания балованного мальчишки. Ведь он до сих пор все в солдатиков играет, только солдатики у него уже живые, а не оловянные. А София – девушка серьезная, основательная, много знает, о многом свое мнение имеет. Она, и сие вполне понятно, хочет, чтобы императрица Елизавета ни сейчас, ни в будущем не пожалела о том, что избрала ее невестою наследника. Мне кажется, решимость моей подруги столь велика, что она бы сутками училась, если бы сие было возможно.
– Не всякий мужчина столь упорен в своих деяниях, Прасковьюшка!
– О да. Но принцесса София Августа, думаю, многим из мужчин могла бы дать сто очков вперед и по упорству, и по решимости, и по самоотречению, с каким берется за дело.
– Похоже, великому князю очень повезет с женой, милая.
– Это нам всем повезет, если у великого князя будет жена, столь сильно от него, голштинского дурня, отличная…
Сейчас Василий видел, что Румянцева нисколько не преувеличивала. Глаза принцессы выдавали ее недюжинный ум и усердие, с которыми она готова была претворять в жизнь свои решения.
София сделала приглашающий жест. Отец Василий опустился на банкетку так, чтобы видеть лицо девушки.
– Прасковья, добрый мой друг, и ты садись поближе! Думаю, что беседа будет долгой. Не дело, чтобы мои друзья утомились попусту.
Слух отца Василия, конечно, резанул акцент принцессы, но ее рвение было непоказным. И не заметить этого мог только тот, кто слеп и глух от рождения.
– Должно быть, моя добрая подруга уже рассказывала тебе, Василий, что я мечтаю стать по-настоящему русской, что хочу принять православие. Матушка императрица назначила мне наставника из Ипатьевского монастыря…
Василий кивнул – во дворце слухи распространяются быстро, а в альковах – и того быстрее.
– Решение мое вполне твердое, и в поддержке я не нуждаюсь. Печалит меня строгий наказ моего батюшки, принца Христиана Августа, не менять своей веры. Ибо если я сменю веру, я потеряю и себя саму. А что может быть для человека страшнее, чем потеря самого себя, когда у него более ничего своего не осталось…
– Принцесса, позволено ли мне будет задать вопрос?
– Конечно. – Фике пожала плечами.
– Верно, вы хотели бы убедить батюшку в том, что веры наши схожи? Что, став православной, вы не перестанете быть самой собой, но обретете друзей и союзников столько, сколько вам бы и не снилось, оставайтесь вы лютеранкой.
– Верно! Именно этого я и хочу!
«Милая моя Софьюшка… – подумала Румянцева. – Печально, когда родители наши не понимают резонов наших… Ну да ничего, Васенька мой тебе поможет!»
– Думается мне, что вашему батюшке не весьма известны отличия в наших верах. И в словах его куда больше родительского упрямства, чем подлинной мудрости…
«Ой… Васенька, придержи язык-то! Не с простушкой, чай, разговариваешь!» Прасковья взглянула на Софию, опасаясь вспышки гнева. Но лицо принцессы было спокойно. Похоже, она не так высоко ценила своего отца.
– И кроме того, матушка принцесса, сдается мне, что ваши истинные цели вашему батюшке непонятны, ибо не в силах он своим умом властелина крохотной страны обозреть обширность ваших планов – планов под стать нашей прекрасной империи.
Румянцева снова сжалась. Вот сейчас София ка-ак призовет стражу… Однако принцесса лишь тонко усмехнулась, давая понять, что не видит дерзости в словах Василия, а видит только слова соратника, готового помочь в непростом, но важном деле.
– Ведь главное в нашей вере то, что Бог наш вездесущ, что он един и что все мы его дети… Как бы мы ему ни служили, на каком бы языке ни говорили, главное – что мы верим в его мудрость и справедливость, в то, что всякое наше деяние будет им взвешено, а, буде мы того достойны, в свой час призовет он нас к себе и воздаст нам по делам нашим.
София лишь кивнула. Ей почудилось, что Василий сейчас слишком упрощает, однако в этом была своя столь освежающая доступность. Да, такие слова, быть может, и смогут найти путь к сердцу Христиана Августа.
– Так в чем же тогда различие?
– Да, отец мой, в чем отличие?
– Лишь в том, что мы служим Отцу нашему Небесному по-разному – различие лишь во внешнем обряде. Лютеранский обряд суров и строг, а обряд православный пышен и ярок. Тому есть объяснения в истории наших стран, но сейчас стоит ли в них вдаваться?
София пожала плечами. Пожалуй, ей хотелось бы разобраться в истоках верований, понять, откуда пошел тот или иной обряд и почему. Но отцу, это истинная правда, сие вовсе неинтересно!
– Выходит, что в нашей вере самое главное – это порыв души, желание возвысить свою душу, создать себя по образу Отца нашего Небесного.
Принцесса подумала, что вот такое объяснение отлично подойдет для герцога. А отец Василий вполне сгодится на роль советчика в особо тонких делах, ибо, к сожалению, ей самой далеко не все будет по плечу.
– Более того, будет разумно отписать вашему батюшке, что столь пышные обряды нужны народу русскому, темному и непросвещенному, ибо этой пышностью дарим мы ему причастность к возвышенному и прекрасному.
– Но это же ложь, отец мой! Народ русский мудрый и работящий, просвещенный поболее, чем иные европейские монархи!
– Отрадно, принцесса, что вы понимаете это! Однако я не вижу большого греха в том, что мы чуть польстим вашему папеньке, унизив в его глазах подданных Елизаветы Петровны. От них, сдается мне, не убудет, а объяснения герцог Ангальт-Цербстский получит достаточные!
«Дай-то Бог, друг мой…»
София глубоко задумалась. Письмо нужно будет отправить как можно скорее, ибо решение ее невероятно твердо, а продлевать неприятное без крайней нужды она не желает.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
На первой неделе Великаго поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которыя все были очень набожны, и слушала утреню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великаго князя; он прислал мне своего карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду поста он не придет в этот день ко мне. Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания поста, по нашему обряду. Я ответила великому князю через карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа. В первый раз, как я увидела великаго князя, он начал с того, что надулся на меня; когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бранить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего карлу, как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось и чему все подчинялись и от чего нельзя было уклониться без скандала; но он был противнаго мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, т. е. тем, что каждый остался при своем мнении, и Его Императорское Высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться.
Глава 13
Не та мать, что родила, а та мать, что…
Истекал июнь 1744 года. Четыре с небольшим месяца назад София впервые увидела Россию. Много это или мало?
Для страны – ничтожный миг, кратчайший срок, о котором иногда даже не упоминает история. Но для жизни человека порой это срок гигантский. Особенно в том случае, если человек этот, приняв некое решение, все силы прикладывает для его осуществления…
Наконец дождалась София дня своего крещения в православие. Да, положенные для наставления в вере Христовой полгода не прошли, однако действовало уже весьма мудрое правило, что «этот шестимесячный срок не должен быть понимаем в смысле срока непреложного. При этом должны быть принимаемы в соображение как понятия, так и степень убеждения обращающегося».
Подписавшая указ Елизавета в убеждениях Софии не сомневалась ни минуты – девушка смогла доказать свое желание не словами, но самим делом.
София меры в делах не знала и потому посреди ночи вставала и учила русские слова целыми страницами. Наставник в изучении языка российского, Василий Евдокимович Адодуров, не мог нахвалиться – таковы были усердие и успехи девушки. Просьба же принцессы продолжать с ней уроки после истечения отведенного времени по-настоящему тронула его. Секретарь при Алексее Разумовском, он был учителем многих именитых людей, однако столь поглощенной своей задачей ученицы, какой была Фике, до сего дня не встречал.
Увы, долгие ночные часы в одной рубашке и босиком перед разложенными учебниками, кроме ошеломляюще быстрых успехов в обучении, принесли еще и жесточайшую простуду. София металась в жару, но Иоганна старательно не замечала недомогания дочери.
– Дочь моя, приведите себя в порядок и ни в коем случае не показывайте своих капризов придворным! – кричала она, пытаясь поднять Фике с постели.
Девушка с трудом открывала воспаленные, помутневшие глаза, пыталась сделать какое-то движение, бормотала что-то беззвучное и вновь откидывалась на подушки. Герцогиня приходила в ярость, срывала с дочери одеяло, тормошила ее за плечи, пытаясь привести в чувство. Но все повторялось сначала – Фике едва поднимала веки, шевелила сухими горячими губами и вновь теряла сознание…
Иоганна до смерти боялась, что малейшая слабость девушки будет причиной отказа императрицы, а значит, ей, Иоганне, придется покинуть блестящий императорский двор, отказаться от своей восходящей шпионской карьеры. Надо же, глупой девчонке вздумалось простудиться!
Но состояния Софии было уже не скрыть. Румянцева, узнав о болезни подруги и не на шутку встревожившись, бросилась к императрице.
– Разве София Августа больна? – удивилась Елизавета.
– Полагаю, от вас нарочно скрывают это, государыня.
Тонкие брови Елизаветы поползли вверх. Она рывком поднялась и быстрыми шагами направилась в покои Фике. Прасковья поспешила за ней.
Они вошли как раз в тот момент, когда обезумевшая Иоганна в ярости хлестала больную дочь по щекам. Румянцева слегка вскрикнула.
– Отойдите от постели! – раздался негромкий властный голос Елизаветы.
Иоганна застыла на мгновение, медленно обернулась… Глаза ее расширились настолько, что, казалось, одни только и остались на побелевшем лице. Елизавета стремительно подошла к кровати, отстранила жестом герцогиню, склонилась над Фике.
Чья-то прохладная ладонь легла на лоб, принося желанное облегчение. Девушка тихо, обессиленно застонала. Елизавета быстро оглядела ее лицо, крупные капли пота на шее и груди, погладила по волосам.
– Лестока сюда! Немедленно! – приказала она, вставая.
Лейб-медик незамедлительно прибыл. Все время, пока длился осмотр, Елизавета не выходила из комнаты, следя за каждым движением лекаря внимательными, тревожными глазами.
– Ну что ж, государыня, – сказал он наконец, оставив Фике и повернувшись к Елизавете, – жесточайшее воспаление легких. Необходимо кровопускание и полный покой. Рядом с девочкой неотлучно должны находиться врачи. Опасность для жизни очень велика.
Елизавета медленно повернулась к Иоганне.
Страшнее всего для герцогини было каменное молчание императрицы. Оно длилось всего несколько мгновений, пока застывшие глаза женщины холодно скользили по лицу Иоганны, ощупывая каждую черточку, не пропуская ни одной мелочи…
– Немедленно делайте кровопускание, Лесток, – спокойно, не повышая голоса, произнесла наконец Елизавета, не отрывая при этом взгляда от все более бледневшей Иоганны. – А ты, сестра, выйди отсюда – нечего тебе здесь уже делать.
– Ваше величество… – заикаясь, выдавила из себя Иоганна.
– Вон! – прикрикнула Елизавета. Холодные глаза ее блеснули.
Иоганны и след простыл. Румянцева, сделав реверанс, вышла тоже.
– Если, – медленно проговорила Елизавета, глядя теперь на Лестока, – не спасете принцессу, сам знаешь, что с вами всеми, лекарями, сделаю…
Вмешательство императрицы спасло Фике жизнь. Девушка выздоравливала, но очень тяжко и медленно. Слухи – о, какой же двор может обойтись без слухов! – мгновенно разнесли, что причиной ее болезни стало то, что она учила русский язык и днем и ночью, не обращая внимания на сквозняки, холодные дворцовые полы и усталость.
– Похоже, эта немочка не чета дурню-то голштинскому! – говорили придворные. – Из нее, поди, выйдет толк. Да и матушка императрица о ней печется не хуже, чем о дочери родной! Выходит, не повезло нам с наследником престола, так повезло с его невестой!
«Должно быть, – думала Фике, одетая в тончайшую ночную сорочку, лежавшая на пуховых подушках, под роскошным теплым и мягким одеялом, – мне суждено было встать на самый край могилы, заглянуть в ее черные глубины, чтобы понять, кто мне истинная добрая матушка, а кто – жестокая эгоистичная мачеха».
Иногда успех приходит к нам с самой неожиданной стороны. И пусть сейчас Фике этого не знала, но вскоре почувствовала, сколь разительно изменилось к ней отношение при дворе. Однако сейчас о выздоровлении говорить еще не приходилось – девушка была слаба и отделяла ее от небытия только тонкая грань.
Иоганна наконец осознала, что дочь в нешуточной опасности, к тому же совершенно четко поняла, что со смертью дочери о всяких интригах при всяких дворах придется мгновенно забыть. Гнева Елизаветы она не забыла и понимала, что императрица тоже все помнит прекрасно. В страхе герцогиня металась по дворцу в поисках лютеранского пастора. Когда же тот нашелся, Иоганна с удивлением узнала, что дочь никакого пастора видеть не желает, а желает побеседовать с настоятелем Ипатьевского монастыря Симоном Тодорским, а буде таковой окажется занят сверх всякой меры, с отцом Василием Богоявленским. Святые отцы, конечно, прибыли незамедлительно. Они смогли утешить девушку в ее нешуточном беспокойстве, смогли успокоить. И вскоре София окончательно пошла на поправку.
Для всей столицы становилось ясно, что в лице принцессы Софии Августы наследник Петр, да что там он – вся Россия обрела подлинную драгоценность. И как только девушка стала вставать с постели, исхудавшая, полупрозрачная, бледная, был подписан указ о крещении.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Мне дали уже троих учителей: одного, Симеона Теодорскаго, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия Ададурова, для русскаго языка, и Ландэ, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, который оставлял мне Ададуров; так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась – как вставала с постели, так и училась.
На тринадцатый день я схватила плеврит, от котораго чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь: в ту минуту, как я оделась, чтобы итти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа, послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим; они утверждали, что мне надо пустить кровь; мать ни за что не хотела на это согласиться; она говорила, что доктора дали умереть ея брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое. Доктора и приближенные великаго князя, у котораго еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели, между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бранила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль. Наконец, в субботу вечером, в семь часов, т.-е. на пятый день моей болезни, императрица вернулась из Троицкаго монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Лесток и хирург; выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала. Я оставалась между жизнью и смертью в течение двадцати семи дней, в продолжение которых мне пускали кровь шестнадцать раз и иногда по четыре раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату; она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят; однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы.
Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул, благодаря стараниям доктора португальца Санхеца; я его выплюнула со рвотой, и с этой минуты я пришла в себя; я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранскаго священника; говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «зачем же? пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора. … Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами; думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцова и находившияся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей. Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы. Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел пятнадцатый год, я была в состоянии появиться в обществе, в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом; я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились; волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшна, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться…
Глава 14
Не София, но Екатерина
Летний день, теплый и свежий, подарил Софии удивительные силы. Все вокруг она воспринимала так обостренно, словно и впрямь наступило начало ее новой жизни. В известной мере так оно и было: будущая великая княгиня из «немочки» превратилась в любимицу всех тех, кто любил свою страну и презирал Петра с его замашками немецкого фельдфебеля. Отлично выспавшаяся, ни секунды не сомневающаяся в правильности избранного пути, вошла София Августа в императорскую придворную церковь.
На ней было платье, весьма напоминавшее одеяния самой императрицы, – красная плотная ткань из Тура, серебряная вышивка, строгая и сдержанная. Черные волосы не тронуты пудрой, украшены лишь тонкой белой лентой. Вряд ли кто-то мог сказать, что Софию украшало платье, скорее, одухотворенное сосредоточенное лицо девушки украшало и платье и прическу.
В церкви было душно. Собравшиеся толпились даже во дворе. Однако Фике этого не замечала: она была поглощена своими мыслями, чувствовала, что делает один из самых важных шагов в своей жизни. Сейчас неуместно было обращать внимание на шепотки за спиной, сколь бы они ни были восхищенными и сочувствующими. Потом можно будет расспросить Прасковью Румянцеву или Машеньку Бутурлину, Като Загряжскую или еще кого-то из фрейлин о мельчайших подробностях: хорошо ли сидело платье, достойными ли показались манеры, насколько четко звучал голос. Но это потом, не сейчас…
Сейчас важно сосредоточиться на таинстве. Почувствовать его высокую истину, не сбиться в словах, не споткнуться о ступеньку, не запутаться в длинной юбке и роскошном шлейфе.
Вспомнились слова Симона Тодорского о водном крещении:
– Дитя, крещение сие существовало еще в ветхозаветные времена. Оно жило как особое церковное установление, каковое символизирует не только физическое, но и нравственное очищение. Спаситель освятил это крещение, приняв его от Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в водах иорданских…
– Водное? Меня обольют водою?
Наставник улыбнулся мягко:
– Нет, дитя. Святой водой тебе окропят голову и одеяние. Ибо важно следование традиции не дословное, но по сути. Капли святой воды есть символ твоего очищения, того, что отныне ты вручила душу свою Отцу нашему.
Оказывается, мысли бывают удивительно быстрокрылы. Всего несколько мгновений – и мысли вернулись в прошлое. Но вот уже твердым голосом и без запинок произнесен «Символ веры», вот капли святой воды остудили лицо и плечи, вот обойдена купель и сострижена специально оставленная свободной прядь волос.
– Сим крещается и нарекается раба божия Екатерина Алексеевна…
Ноги Фике подкосились. Свершилось! Принцесса София Августа Ангальт-Цербстская осталась в прошлом, на тех страницах истории, которые повествовали о ее детстве, родителях, веселых проказах, о ее восхищении королем Фридрихом и поклонении перед властительницей огромной России. Новую страницу жизни перевернет Екатерина Алексеевна, невеста великого герцога Петра Федоровича!
Необыкновенное ощущение, которому Екатерина ни сейчас, ни позже не могла дать объяснения, пронзило ее от высокой прически до каблуков – она может!
В ее силах преодолеть черные дни и добиться дней светлых. Причем не оттого, что великий князь вот-вот станет ее мужем, не оттого, что императрица полна к ней добрых чувств. Вовсе нет. У нее уже есть сейчас и дальше с ней пребудет – сила, которая позволит ей самой взять свою судьбу в собственные руки!
За распахнутыми дверями церкви плавилось высокое московское небо. Многочисленные царедворцы спешили на свежий воздух из душной церкви. Где-то среди них затерялась и Иоганна, наверняка изобретающая очередную интригу или в который уже раз выбирающая сторонников и противников в непонятных играх высокой политики.
Наконец путь был свободен – Екатерина, осторожно ступая, спустилась по ступеням. Улыбающаяся Елизавета обняла ее.
– Дитя мое!
Императрица больше ничего не сказала, но все выразили ее теплые объятия. Екатерина почувствовала что-то в руке и опустила глаза. Изумительной красоты бриллианты играли в изящной броши.
– Повернитесь, дочь моя!
Холод колье немного привел Екатерину в себя, но рассмотреть красоту камней она смогла только много позже. О, теперь она со всей полнотой поняла, насколько довольна ею императрица.
– Позволено ли мне будет просить государыню матушку? – едва слышно произнесла Екатерина.
– Все, чего пожелаешь, девочка, – тоже вполголоса ответила Елизавета.
Она отлично понимала, сколь велико потрясение, которое испытывает юная Фике, сколько сил отняло у нее таинство. Более того, она почти наверняка знала, о чем девушка будет ее просить.
– Позволено ли мне будет удалиться в свои покои и не появляться сегодня на обеде?
– Конечно, дочь моя! Отдохни, поспи. Завтрашний день будет ничуть не легче дня сегодняшнего.
Конечно, не легче. Напротив, даже тяжелее. Ибо уже на завтра было назначено обручение. Императрица спешила обзавестись наследниками, обвенчать Петра и Екатерину – Брауншвейгская династия жива, жив маленький Иоанн Антонович, жива его мать. Только обретя великокняжескую чету, Елизавета могла безбоязненно смотреть в будущее, не опасаясь ни яда в бокале, ни кинжала под плащом. Смотреть в будущее и спокойно править, ожидая появления внуков.
Новый день принес Фике, о нет, Екатерине, отныне и до самой смерти Екатерине, новые силы. Предстояла церемония столь же длинная, как и вчерашняя, хотя для нее уже не такая решающая. Словно для того, чтобы поддержать ее, или, быть может, подбодрить, первая статс-дама Елизаветы внесла на бархатной подушечке две миниатюры в бриллиантовом обрамлении – портрет императрицы и великого князя.
Девушка полюбовалась на портрет своей повелительницы и взяла в руки второй, где был изображен ее будущий муж. Сколько бы старания ни приложил миниатюрист, сделать Петра привлекательным он не смог. То же узкое лицо, те же глаза навыкате, то же выражение лица: обиженный мальчишка, которому пообещали, что после сеанса у художника ему позволят вернуться к своим шумным играм.
«Надежды нет, – подумала Екатерина, – он никогда не будет относиться ко мне иначе. Лишь как к родственнице, лишь как к приятельнице. Дай-то Бог, чтобы я никогда не стала в его глазах нянькой, которая вынуждена потакать его прихотям!»
– Императрица матушка ждет вас в своих покоях! Не мешкайте, дитя!
Екатерина поспешила в покои Елизаветы, на ходу пытаясь понять, враг ей первая статс-дама или нет. Если судить по сухому тону и поджатым губам – враг, и, значит, принадлежит она к кругу вице-канцлера Бестужева. Но если не обращать на тон внимания, а услышать лишь обращение, какого не слыхала в собственном доме, то, быть может, и друг.
«Ох, но как же тут разобраться? Кому решиться задавать подобные вопросы? Не матушке же Иоганне, в самом-то деле! Та, если и знает, все равно правды не скажет. Всей правды. А клочки истины столь же похожи на истину, сколь похож на красавца великий князь Петр Федорович…»
Да, придется разбираться во всем самой – или с помощью по-настоящему близких людей, пусть их куда меньше, чем врагов и недоброжелателей. И дело это необыкновенно, удивительно важно, как важно все, что сейчас происходит.
Мечта стать любимой женой давно уже стала несбыточной. Но на смену ей пришла другая – стать не марионеткой, но правительницей, взять в свои руки дело управления страной.
«Ведь Петр так никогда и не повзрослеет. Елизавета не вечна, хоть молода и, дай Бог, процарствует еще не один год! Но власть свою передать ей будет некому, ибо племяннику ничего не нужно. А если все же он станет императором, во что он превратит страну?»
Двери в покои императрицы были гостеприимно распахнуты. Екатерина, поправляя платье, вовсе в том не нуждавшееся, вошла внутрь, радуясь, что мысли ее никто подслушать не может.
– Ты вовремя, дитя! – Улыбка Елизаветы была торжественной и чуточку взволнованной. Сегодня должно было завершиться дело, начатое почти год назад. Дело, которое сделает ее неуязвимой и подарит стране (дай-то Бог!) не одну правительницу, а длинный их род.
Екатерина залюбовалась императрицей. Роскошная мантия на плечах, корона, горящее волнением лицо. Да, сегодняшний день для Елизаветы значит куда больше, чем может показаться поначалу.
– Пора, дети мои!
И все пришло в движение. Массивный серебряный балдахин навис над высокой прической, увенчанной императорской короной, Петр Федорович встал за спиной тетки и поманил Екатерину, указывая место рядом с собой. За ними стали торопливо выстраиваться придворные дамы – строго по незримой табели о рангах. Сегодня можно было позволить лишь одно исключение: герцогиня Иоганна шагала сразу следом за дочерью, сопровождаемая принцессой Гомбургской.