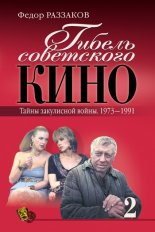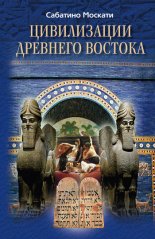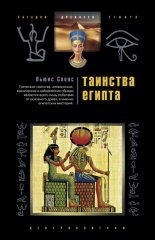Екатерина Великая. Сердце императрицы Романова Мария

– Вы с ума сошли, ваше высочество! – Екатерина не могла сдержаться. – Немедленно уходите отсюда! И вы подите прочь!
Последние слова были обращены к особо ретивым дружкам великого князя, уже привычно прильнувшим к дырам в стене. Те, вскочив, весьма поспешно покинули «театр», да и остальные стали, оглядываясь, покидать ссорящихся супругов.
– Не кричите так! – прошипел Петр. – Вся наша затея пойдет прахом, и все по милости вашего глупого высочества!
Екатерине, увы, сдержаться не удавалось. Она прекрасно понимала, что их крики могут расслышать и там, в покоях императрицы.
– Мало того что вы позволили себе столь грязную дерзость, вы еще и два десятка придворных замарали в своих мерзких проделках!
– Да что я сделал-то? – Великий князь искренне не понимал, что происходит.
«Он не понимает… Воистину, когда Господь хочет наказать нас, он лишает нас разума!»
– Немедленно отправьте всех прочь! И сами бегите отсюда! Вы представляете, что случится, если о вашей гадкой проделке узнает императрица? Вам это может дорого обойтись! Подите прочь и велите запереть эту комнату!
Должно быть, Елизавета и в самом деле услышала голоса. Не успела Екатерина вернуться к себе, как двери ее гостиной распахнулись и ворвалась клокочущая гневом Елизавета.
– Великого князя сюда сей же момент! – бросила императрица через плечо. – Да никаких отказов не принимайте! Приволоките его, даже если он будет прикидываться спящим!
Должно быть, Петр и в самом деле попытался прикинуться спящим и ничего не ведающим – через несколько минут его втащили в покои великой княгини в халате и с ночным колпаком в руке. Однако глаза его бегали, выдавая нечистую совесть.
– Вот и вы, племянничек! – Елизавету буквально трясло от возмущения. – Не зря же вся дворня вас только дурачком голштинским кличет! Додумались! Театры устроили! Забыли-с, сударь, кому вы всем обязаны, о благодарности забыли!
Петр попытался гордо выпрямиться.
– Я великий князь!
– Срамота, прости господи, а не великий князь! Да какой из вас князь? И где бы вы, князюшка, были, если бы я не вытребовала вас из вашей занюханной Голштинии?
Петр открыл было рот.
– Молчите! Для вас и Голштиния слишком хороша! Знала бы, вовек о вас и не вспоминала. Так бы и померли от розог вашего Брюммера!
Ох, это была более чем чистая правда. Нет места более отвратительного, чем дворцовые коридоры. Екатерине уже было преотлично известно, что наставник будущего великого князя, а тогда еще просто Карла Петра Ульриха, бил его за малейшую провинность. Поучительная история его детства и появления в России, однако, ничему Петра не научила.
Болезненный и недалекий мальчик жил в Киле, воспитанием его занимались гольштейнские сановники и офицеры. Он был выдрессирован по-военному, с семилетнего возраста упражнялся с ружьем и шпагой, сделанными по его росту, ходил в караул, проникался казарменным духом. Девяти лет стал сержантом.
Однажды его поставили с ружьем на часах перед дверью зала, где отец пировал с друзьями.
Мимо него проносили целые вереницы аппетитных блюд, ему стоило большого труда не заплакать от голода. Когда стали подавать второе, отец снял его с поста, публично присвоил ему звание лейтенанта и приказал сесть с гостями за стол. От неожиданного счастья ребенок потерял аппетит и не мог ничего съесть.
Говорили, что этот день Петр называл самым счастливым в своей жизни. В 1739 году отец умер, и главным наставником мальчика стал старший гофмейстер герцогского двора Брюммер. Не обращая внимания на слабое здоровье воспитанника, он наказывал его, лишая пищи и заставляя стоять на коленях на сушеном горохе. Колени мальчика распухали и кровоточили… А однажды приближенные еле успели вмешаться, чтобы Брюммер не забил кулаками юного принца.
Порой издевательства Брюммера доводили будущего великого князя до рвоты желчью. От такого обхождения он стал пугливым, скрытным, изворотливым и хитрым. Императрица, призвавшая племянника в Москву, была весьма огорчена, увидев в сопровождении Брюммера четырнадцатилетнего подростка, физически малопривлекательного и просто уродливого в нравственном отношении.
На миг Екатерине даже стало жаль своего супруга. Сейчас он был жалок, трясся от страха, втянув голову в плечи и ожидая очередного подзатыльника.
– Отец мой, великий царь Петр, такого бы не стерпел и минуты! Не следует тебе, убогому, забывать, что наказал он своего неблагодарного сынка, лишив наследства!
Петр еще сильнее вжал голову в плечи. Он это прекрасно помнил. Да и как такое забыть?
Ведь царь Петр царевича Алексея не просто лишил наследства – он подверг сына пыткам, от которых тот и умер…
Но Елизавета останавливаться не собиралась. Каждое следующее слово казнило не хуже самого опытного палача. Екатерина ощущала это так, словно не Петру, а ей самой были адресованы слова императрицы.
– Я при императрице Анне никогда не позволяла себе столь неуважительного отношения к коронованной особе! Если б не мое мягкосердечие, ты бы, дурачок, уже держал путь к самой дальней крепости, откуда только смерть лютая тебя бы выпустить смогла!
– Но, тетушка, я же ничего плохого не сделал!.. Я только хотел развеселить свою супругу, ибо она в последнее время пребывает в меланхолии…
– В меланхолии, говоришь? – Глаза Елизаветы презрительно сузились. – И ты, как добрый любящий супруг, захотел ее развеселить?
Петр закивал. Сердце Екатерины сжалось. Ох, похоже, буря-то еще и не начинала разыгрываться…
– Матушка императрица! – Великая княгиня упала на колени перед Елизаветой. – Позволь мне слово молвить…
– Молчи, глупое дитя! Поблагодари Господа нашего за то, что даровал тебе светлый разум!
И, обернувшись к племяннику, уже куда тише бросила:
– У жены бы поучился, урод несчастный, чадо неразумное…
«Неразумное… Да, матушка, совсем неразумное. И у жены, тут сомнений нет, учиться он не будет!»
Петр почувствовал, что гроза миновала. Он выпрямился, сколько мог, поджал губы, но молчал. Елизавета, уже от двери, сказала великой княгине:
– Мои слова вас, дитя, не касаются. Я знаю, что вы ни в чем не замешаны и о проделке своего супруга не знали.
Но едва за императрицей закрылась дверь, Петр процедил сквозь зубы:
– Не могли сказать, что это вы пожелали новых развлечений?! Злая вы, гадкая! Я… я ненавижу вас…
Великий князь покинул спальню супруги, изо всех сил хлопнув дверью.
«А ты неблагодарный мальчишка, – подумала Екатерина. – И защищать тебя тоже дело неблагодарное!»
Хотя в одном, тут девушка вынуждена была признаться, Петр прав: ей хочется развлечений. Хочется радости, хочется хотя бы простого человеческого тепла, милой дружбы, ни к чему особому не обязывающей.
Она о флирте и мечтать не смеет – так крепки ее зароки, пусть и перечеркнутые глупостью ее супруга.
Однако возраст берет свое: ей едва исполнилось шестнадцать. Среди приближенных «малого двора» более чем достаточно молодых мужчин, которые сочли бы великой честью просто побеседовать с Екатериной. Однако она со всеми одинаково ровна, выделяя, быть может, лишь старшего из братьев Чернышевых, Андрея. Еще когда она была невестой, с этим юношей у нее завязалось нечто вроде любовного фехтования, забавлявшего их обоих. Петр любит двусмысленности и поощрял свою невесту к этим игривым забавам. Не раз бывало, что, упоминая при Андрее о Екатерине, он в шутку называл ее «ваша суженая». Тот с улыбкой поддерживал игру – быть любимцем у великого князя весьма почетно и выгодно. Что же до чести Фике, то он всегда уважал девушку и ни разу не обмолвился при Петре, насколько близко сошелся с будущей великой княгиней.
После замужества Екатерина стала называть Андрея русским словом «сынок». Он же величал ее «матушкой», радуясь тому, что дружен с великой княгиней. Долгие беседы с этим высоким видным юношей удивительно радовали девушку, грели ее душу. Вслух же она благодарила Андрея за то, что долгие часы приятной болтовни с ним превращают русский язык из сложного урока в отрадный.
Эта дружба, слегка окрашенная кокетством, конечно, не осталась не замеченной придворными. Косые взгляды, завистливые шепотки… Екатерина уже почти привыкла к ним. Однако слова верного своего слуги Тимофея Евреинова восприняла всерьез.
Опасаясь скандала, тот решился:
– Матушка, молю вас, будьте осмотрительнее. Господин сей, «сынок» ваш, умен и отменно хорош собой. Со дня на день, думаю, императрице доложат о том, что вы пренебрегли супругом ради молодого и красивого офицера.
– Но ведь он же просто мой друг! О каком пренебрежении может идти речь, Тимоша?
– То, что вы называете доброй и чистой дружбой с человеком, вам преданным и услужливым, доброжелательные к вам назовут любовью, а недруги ваши – только изменою!
Пораженная таким суждением, Екатерина со страхом и радостью поняла, что помимо воли в ней родилось нежное чувство в этому славному юноше. Должно быть, Тимофей успел поговорить и с самим Андреем. Иначе как объяснить, что молодой и здоровый мужчина назвался больным и испросил отпуск, дабы отправиться на излечение?
– Да будет так, сынок! Отправляйтесь! – с благодарностью перекрестила его Екатерина, преотлично понимая мотивы, которые движут ее поклонником.
…Проходил день за днем. Сколько бы времени ни занимали занятия русским языком, как бы полно ни погружалась девушка в чтение, главным бичом и для нее и для всего малого двора оставалось утомительное безделье. Пытаясь занять себя хоть чем-то, Петр вновь и вновь обращался к игре в «солдатики». Однако «солдатики» у него теперь были не оловянные, а настоящие. Одну из дальних лужаек он превратил в плац, где часами гонял своих солдат. Клод Рюльер, историк, настроенный весьма критически, писал, что Петр не уставал при каждом удобном случае демонстрировать свое презрение к русским и пыжился изо всех сил, пытаясь показать всем свое истинно прусское величие. Он жестоко избивал собственных любимцев за малейшую провинность… «В пристрастии ко всему военному он не знал меры: желал, чтобы беспрерывный пушечный гром представлял ему военные действия и мирная столица уподоблялась осажденному городу. Он приказал однажды дать залп из ста орудий, и, чтобы отговорить его, придворные представили ему разрушенный город, исполненный с таким неподражаемым мастерством, что был неотличим от настоящего…»
Должно быть, от долгих часов одиноких размышлений в тишине в Екатерине развилась удивительная наблюдательность. Чтобы потом не отвлекаться описаниями, вспомним слова того же Рюльера:
«Сама натура, казалось, образовала ее для высочайшей степени. Наружный вид ее предсказывал то, чего от нее ожидать долженствовали, и здесь, может быть, не без удовольствия (не входя в дальнейшие подробности) всякий увидит очертание сей знаменитой женщины.
Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд – все возвещало в ней великий характер. Возвышенная шея, особенно со стороны, образует отличительную красоту, которую она движением головы тщательно обнаруживала. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок. Волосы каштанового цвета отличительной красоты, черные брови и… прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляет отличительную черту ее физиономии.
Замечательные в ней приятность и доброта для проницательных глаз суть не иное что, как действие особенного желания нравиться, и очаровательная речь ее ясно открывает опасные ее намерения. Живописец, желая изобразить сей характер, аллегорически представил ее в образе прелестной нимфы, представляющей одной рукою цветочные цепи, а в другой скрывающей позади себя зажженный факел…»
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшею вещью на свете. В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена, потому что эта дверь выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было подымать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приговлениями к своему так называемому спектаклю, услышал разговор в соседней комнате и, так как он обладал легкомысленной живостью, взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчевом шлафроке – он в этот день принимал лекарство, – и еще человек двенадцать из наиболее доверенных императрицы. Его Императорское Высочество, не довольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, который он так искусно проделал. Он сделал больше: когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы никогда не видели. Он не сказал нам, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как ему того хотелось, то он увел Крузе и других моих женщин; я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было такое, он побежал ко мне навстречу и сказал мне, в чем дело; меня испугала и возмутила его дерзость, и я сказала ему, что я не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большия неприятности, если тетка его узнает, и что трудно, чтобы она этого не узнала, потому что он посвятил по крайней мере двадцать человек в свой секрет; все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты; великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольнаго театра, а я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали никаких разговоров; но в этот день, не знаю, как это случилось, я пришла к обедне несколько позже обыкновеннаго; вернувшись в свою комнату, я собиралась снять свое придворное платье, когда увидела, что идет императрица, с очень разгневанным видом и немного красная; так как она не была за обедней в придворной церкви, а присутствовала при богослужении в своей малой домашней церкви, то я, как только ее увидела, пошла по обыкновению к ней навстречу, не видав ея еще в этот день, поцеловать ей руку; она меня поцеловала, приказала позвать великаго князя, а пока побранила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом; она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей, что часто для этого вставала при свечах; потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такою медлительностью, то она его прогонит; когда она с ним покончила, великий князь, который разделся в своей комнате, пришел в шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом, и побежал к руке императрицы, которая поцеловала его и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал; затем сказала, что она вошла в комнату, где была машина, и увидела дверь, всю просверленную; что все эти дырки были направлены к тому месту, где она сидит обыкновенно; что, верно, делая это, он позабыл все, чем ей обязан; что она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарнаго; что отец ея, Петр I, имел тоже неблагодарнаго сына; что он наказал его, лишив его наследства; что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божией; что эта императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения; что он мальчишка, котораго она сумеет проучить. Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего и пробормотал несколько слов, но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу, что с ней обыкновенно случалось, когда она сердилась, и наговарила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько гнева. Мы остолбенели и были смущены оба, и хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня слезы выступили на глаза; она заметила это и сказала мне: «То, что я говорю, к вам не относится; я знаю, что вы не принимали участия в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение успокоило ее немного, и она замолчала; правда, трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала; после чего она нам поклонилась и ушла к себе очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами. Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, только что слышанном. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном на половину смущенным, на половину насмешливым: «Она была точно фурия и не знала, что говорит». Я ему ответила: «Она была в чрезвычайном гневе». Мы перебрали с ним только что слышанное, затем отобедали лишь вдвоем у меня в комнате. Когда великий князь ушел к себе, Крузе вошла ко мне и сказала: «Надо признаться, что императрица поступила сегодня как истинная мать!» Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор, и потому замолчала. Она сказала: «Мать сердится и бранит детей, а потом это проходит, вы должны были бы сказать ей оба: “Виноваты, матушка”, и вы бы ее обезоружили». Я ей сказала, что была смущена и изумлена гневом Ея Величества, и что все, что я могла сделать в ту минуту, так это лишь слушать и молчать. Она ушла от меня, вероятно, чтобы сделать свой доклад. Что касается меня, то слова: «виноваты, матушка», как средство, чтобы обезоружить гнев императрицы, запали мне в голову, и с тех пор я пользовалась ими при случае с успехом, как будет видно дальше.
Глава 19
Всякий ли враг – враг?
Зачастую теперь ей достаточно было нескольких взглядов, чтобы понять, кто перед ней – друг или недруг, и если недруг, то чьим осведомителем он является: принадлежит ли к людям канцлера Бестужева, затеявшего против великой княгини настоящую травлю, или лазутчик самой императрицы.
Та уже давно перестала радоваться союзу Екатерины и Петра. Более того, с каждым днем Елизавета становилась все сварливее и подозрительнее. И девушка понимала, в чем причина всех бед.
Ведь после свадьбы прошло уже девять месяцев, а она все еще не была беременна. Императрица не видела даже признаков скорого появления первенца у великокняжеской четы.
«Да и откуда первенцу взяться, если мой муж бежит от меня как черт от ладана?»
Елизавета, в том не было ни малейших сомнений, усматривала в сем факте личное оскорбление. И виновата в этом, по ее мнению, была только она, великая княгиня, не сумевшая вызвать желание у своего супруга.
Изумлению Екатерины не было предела, когда императрица прямо сказала ей об этом.
– Ты, княгинюшка, свой долг не исполняешь! Только по твоей лености брак сей, надежда всей России, не дал долгожданных и отрадных плодов!
– Но, матушка императрица, отчего лишь одну меня вы почитаете виновной в том, чего не смогли достичь двое?
– Молчи, дура цербстская! Мне ли не знать, чего можно получить от мужчины, на что его можно сподвигнуть! Я, почитай, на добрых два десятка лет старше тебя и повидала в этой жизни всякого!
Екатерина молчала. Она видела, что императрица заводит сама себя, вернее, что некая «добрая душа» уже успела завести Елизавету, и теперь та изливает на девушку свой гнев. И изливать будет тем дольше, чем решительнее будет Екатерина возражать.
– И вот что я тебе еще скажу: не моя вина в том, что ты не любишь великого князя! Обручила я вас не против вашей воли, не против вашей воли поженила! Так что пора бы уж становиться взрослыми и перестать думать, что ваши игры будут продолжаться бесконечно! Мое терпение не беспредельно. Да и народ вскоре заропщет: отчего это у красавицы и умницы Екатерины Алексеевны дитя не родится? И что я смогу сказать народу? Что княгинюшка не любит мужа, что он ей так противен, что она супружеский свой долг исполняет без всякого рвения…
«Да я его и вовсе не исполняю, матушка!» – хотелось крикнуть Екатерине. Но мудрость вновь подсказала, что лучше держать себя в руках и не выказывать никаких чувств, кроме почтительного усердия.
– Да и как княгинюшке-то долг свой супружеский исполнять, если она по сю пору влюблена совсем в другого мужчину?! Аль, быть может, уже любезна тут многим?
Екатерина стояла не шевелясь. Здесь упрекнуть ее было не в чем: ни один из ее друзей не посмел даже руки ее коснуться, не говоря уже о большем!
– Но княгинюшка-то себе на уме! И ее небрежение мужем и долгом лишь кажущееся. Ибо долг-то свой она исполняет вполне ретиво – долг перед королем Фридрихом, долг перед своим никчемным княжеством! Долг, который велит ей ни в коем случае не производить на свет наследника престола российского! Во что бы то ни стало лишить великую страну ее будущего. Или, быть может, к тому же уморить и мужа своего, великого князя! Что молчишь, княгинюшка?! Чай, правда глаза колет!
«Ох, как же ты добр ко мне, всесильный канцлер Алексей, сын Петров, великий Бестужев… И не хочется видеть, а в каждом слове императрицы видно твое усердие в службе. Если б ты и в самом деле ретиво исполнял долг свой и провел должное расследование, ты бы видел, кто и как исполняет свой долг перед Россией и императрицей! Ты бы знал наверняка, что в письмах к матушке я немногословна и сдержанна. Ты бы, клянусь, с удовольствием лишил меня отчего дома, прикрываясь словами о том, что тобой, зверем, движет лишь любовь к родине и долг перед нею!»
Это была чистая правда: видя «успехи» Иоганны на поприще политическом, Екатерина взяла за правило не вмешиваться в государственные дела. В ее переписке, вскрываемой тайной канцелярией, не было ни слова, которое оправдывало бы упреки императрицы.
Молчание девушки Елизавету, похоже, не успокаивало, а напротив, злило все сильнее. Она уже не сдерживала себя. С багровыми щеками и горящими от гнева глазами Елизавета кричала, топала ногами, размахивала кулаками…
«Ох, дождусь я, что она меня поколотит… Так, как в гневе она бивала служанок, фрейлин и даже их кавалеров… Убежать отсюда мне невозможно – она загораживает выход… Да и чем я отличаюсь от иных фрейлин и служанок? Только лишь тем, что нахожусь в услужении не самой императрицы, а всей России…»
Однако Екатерина продолжала молчать – внутри вся трясясь от страха и гнева, внешне она была неподвижна. Быть может, только горящие румянцем щеки выдавали ее состояние.
Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, быть может, до рассвета следующего дня. Но тут уже силы стали покидать Елизавету. Злой огонь в глазах угас, она опустилась на козетку и вяло махнула рукой.
– Поди вон, княгинюшка! Уж я найду на тебя управу! И на тебя, и на твою мамашу, глупую гусыню!
Екатерина молча присела в низком реверансе, склонив голову. Должно быть, это снова и окончательно вывело императрицу из себя.
– Во-о-он! – заорала она. – Вон! Прочь!
Екатерина, не меняя выражения лица, внешне спокойно дошла до своей опочивальни. Сняла платье, набросила халат из ганзейского бархата и прилегла. Прошло три минуты, потом пять. Истекла уже и четверть часа – никто не беспокоил великую княгиню. И только тогда, убедившись, что посторонних глаз и ушей поблизости нет, Екатерина дала себе волю.
Тело ее сотрясли рыдания, слезы хлынули из глаз. Она плакала так, как не плакала, должно быть, еще никогда в своей жизни. Злость, обида, гнев, ярость, тем более бессильная, что показать ее ни в коем случае нельзя, – все, что накипело в душе за время аудиенции, смешалось в этих слезах.
Императрица сдержала слово. По совету канцлера со следующего утра она устроила и великой княгине, и великому князю невыносимую жизнь. Да, ее решение твердо: она их приструнит, изолирует и превратит в политические привидения! Отныне никому не придет в голову искать их защиты и покровительства, пытаться стать их фаворитами или просто приятелями. О-о-о, она знает, как поступить!
Следующее за нотацией утро доставило Екатерине неприятный сюрприз. Граф Дивьер, камергер, недобро усме хаясь, вручил ей писанный рукой самого канцлера внушительный рескрипт. Императрица извещала, что отныне к великокняжеской чете будут приставлены «высокопоставленные особы», коим поручается выполнять функции придворного наставника и наставницы при их императорских высочествах.
«Высокопоставленная особа» при великом князе, гласил этот документ, будет делать все, чтобы «исправить некоторые неуместные привычки его императорского высочества, такие, например, как выливать, сидя за столом, содержимое стакана на голову слуг, грубо окликать тех, кто имеет честь находиться поблизости, и проделывать с ними неприличные шутки, гримасничать и корчить рожи прилюдно, постоянно дергаясь руками и ногами».
Екатерина удивилась списку прегрешений, которые следовало искоренить этой, пока еще неизвестной «высокопоставленной особе» в Петре Федоровиче.
«Неужто не усмотрел граф Бестужев иных, куда более отвратительных черт характера и привычек, которые следовало бы искоренить в первую очередь?»
«Высокопоставленная особа» при великой княгине, продолжал документ, «должна будет поощрять ее в отправлении православного культа, препятствовать ее вмешательству в дела империи и запрещать любую фамильярность с молодыми дворянами, камергерами, пажами и слугами».
Кроме того, новой дуэнье предписывалось поощрять великую княгиню в проявлениях супружеской ласки и любви. «Ее императорское высочество была избрана, дабы стать достойной супругой нашего любимого племянника, великого князя и наследника империи. Ее единственной целью и намерением должно быть: своим разумным поведением, умом и иными достоинствами вызвать у его императорского высочества, великого князя, искреннюю любовь, привлечь к себе его сердце, отчего столь ожидаемый империей наследник и потомок высочайшей династии мог бы родиться».
Екатерина покачала головой. Ни одно из перечисленных качеств не могло вызвать любви к ней супруга. Напротив, каждое из них и само по себе могло лишь отпугнуть Петра от своей жены. И тут уж никакая дуэнья не поможет, будь она хоть добрая волшебница из сказки…
Последний пункт обширного рескрипта вызвал в душе девушки настоящую бурю: отныне ей запрещалось писать кому бы то ни было, минуя коллегию иностранных дел. Все письма, кои она желала послать отцу или матери, она обязана была переписать с образца, установленного канцелярией. Более того, указаний, о чем именно великая княгиня желала бы написать родителям, писарям приказано было не слушать – «коллегия иностранных дел знает это лучше ее».
«Ну что ж, Елизавета, дочь Петрова. В вашей воле было меня призвать и приветить. В вашей воле меня заточить. Однако даже пудовые замки не сделают затворницей мою душу!»
Девушка чувствовала – дворец медленно, но верно превращался для нее в тюрьму. Хотя заточена она не буквально, но почти никакой свободы ей не оставлено. Быть может, лишь приемы при «малом дворе», да концерты, устраиваемые в Летнем дворце…
Во время одного из таких концертов и произошло внешне ничем не примечательное событие, почти по-настоящему заточившее Екатерину в ее покоях.
Тут следует вспомнить, что музыка с детства была Екатерине мало интересна. Должно быть, виной тому стала блажь Иоганны, пожелавшей вкушать в главном зале Цербстского замка под сладкозвучные песни замковых музыкантов. Музыканты-то старались, но вот со сладкозвучием у них явно не все ладилось. Иногда настолько не ладилось, что отбивало у юной Фике аппетит.
Вот поэтому Екатерина не была почитательницей и оркестра, в котором играл великий князь. Солнце только стало клониться к вечеру, музыка наскучила Екатерине, она покинула кресло и на цыпочках удалилась. Тихи были анфилады, истомленные летним днем. На сей раз, против обыкновения, за великой княгиней никто не следил. Муж ее в оркестре играл на скрипке, императрица отсутствовала, придворные дамы были чем-то заняты. Екатерина вспомнила, что мельком увидела среди кавалеров знакомый профиль – ее «сынок» вернулся с лечения на водах. Однако Андрей проявил трогательную заботу о ней, сделав лишь едва заметный знак. Не дело возбуждать малейшие подозрения в ком бы то ни было… Да и она, Екатерина, успела остыть от этой милой дружбы – уж слишком долгим было лечение старшего Чернышева.
Великая княгиня укрылась в своей спальне. Отсюда был выход в большую залу, где маляры на лесах красили потолок. Вдруг сердце Екатерины замерло. В глубине залы она увидела Андрея Чернышева, который ускользнул с концерта следом за ней. Не в силах сдержаться, Екатерина сделала ему знак приблизиться.
Он поспешил последовать безмолвному приглашению, сделал несколько шагов в глубину опочивальни…
О, как же Екатерине хотелось уступить ему! Но мудрости (и осторожности) девушке хватило, чтобы указать в проем двери. Андрей беспрекословно вышел, став, однако, так, чтобы, оставаясь вне опочивальни, слышать даже самый тихий шепот Екатерины. Их разделял теперь едва ли локоть.
Шепот двоих почти не слышен посторонним, приоткрытая в опочивальню дверь яснее ясного показывает, что ничего настораживающего и уж тем более предосудительного в этой беседе нет. Однако уже через несколько минут чуткое ухо Екатерины уловило шорох. Умолкнув, она обернулась – из другой двери комнаты за ней следил камергер граф Дивьер.
– Великий князь просит вас к себе, мадам, – произнес он с поклоном.
– Благодарю, граф, – единственное, что произнесла Екатерина.
В покоях великого князя, конечно, никого не было – сам Петр еще пребывал в оркестре. Как только девушка вошла в гостиную великого князя, она услышала далекий щелчок замка: дверь, что вела из ее опочивальни в общие помещения дворца, была заперта снаружи. С этого мига Екатерина превратилась в подлинную пленницу.
На следующий же день все трое Чернышевых были отправлены лейтенантами в отдаленные гарнизоны Оренбургских степей. А во второй половине того же дня «высокопоставленная особа», обязанная по приказу Бестужева следить за поведением Екатерины, приступила к исполнению своих обязанностей. Ею была Мария Чоглокова, двоюродная сестра императрицы.
– Ей двадцать четыре, она хороша собой и туповата, – говорила Екатерина своей подруге Румянцевой за вышиванием.
Дамы беседовали чуть слышно, хотя новой воспитательнице Прасковья Александровна не внушала подозрений из уважения к безукоризненной древности рода и…
– Она боится меня, душечка, – впервые увидев Чоглокову, просветила великую княгиню подруга. – Я же кузина милейшей Машеньки Репниной…
Екатерина, конечно, знала об этом. Как и о том, что Петр Федорович сходит по рекомой Репниной с ума.
Она поняла, что Прасковья протягивает ей некий важный ключик, и не отказалась взять его.
– Как чувствует себя ваша сестра, друг мой? – громко спросила великая княгиня.
Румянцева улыбнулась: Екатерина отлично поняла ее и все сделала верно.
– Отменно, ваше высочество, отменно. Узнав о том, что мы собираемся провести за вышиванием все утро, она так хотела присоединиться к нам, но по воле супруга вашего вынуждена была отправиться с ним верхом к дальним озерам.
– Это так печально, душечка. Передайте ей, что завтра я с удовольствием приму ее и выслушаю ее занимательнейший рассказ о приключениях по дороге.
– Непременно, ваше высочество, непременно!
Увы, язык коварства и полунамеков без малейшего труда усваивается в дворцовых стенах – здесь он становится первым из языков, которыми овладевает их обитатель.
Чоглокова как завороженная улыбалась этим словам: имя Репниной, нынешнего «доброго друга» великого князя Петра Федоровича, для нее звучало отрадно и сладостно.
– Сказывали, друг мой, – куда тише продолжила Румянцева, – что ваша наставница безукоризненно добродетельна и до мозга костей пронизана чувством долга. Она обожает мужа (который уже почти год пребывает с миссией в Бене), у нее есть дети, она набожна, преклоняется перед Бестужевым и императрицей. Одним словом, ваше высочество… О нет, сей шелк сюда не подойдет, он слишком груб для ваших нежных пальцев. Возьмите лучше с моей иглою!
– Благодарю! Твоя нить и в самом деле куда нежнее! – громко ответила Екатерина.
– Так вот, – вполголоса закончила Румянцева, – полагают, что она будет живым примером для великой княгини, столь нуждающейся в руководителе.
Екатерина пожала плечами. Она находила свою «наставницу» просто отвратительной: у нее были холодные глаза и манеры бессердечной змеи.
– А еще, друг мой, – шепотом ответила подруге великая княгиня, – она чрезвычайно глупа, злобна, капризна и жадна. Достойный пример для подражания, воистину.
Дамы улыбнулись друг другу. О да, любимые слова Марии Чоглоковой они уже слыхали сегодня и будут слышать еще не раз за то время, что сестра Елизаветы прослужит при дворе великой княгини.
Услышав невиннейшую шутку, Чоглокова воскликнула: «Такие слова не понравились бы ее величеству!» На следующий день она запретила дамам прогулку под тем предлогом, что «такое императрица бы не одобрила!», хотя ларчик открывался куда проще: ей было невыразимо лень менять свое уютное кресло на садовую беседку.
Она же принесла новое распоряжение от императрицы: молодым супругам приказано исповедоваться у архимандрита Симона Тодорского.
О чем духовный наставник расспрашивал Петра, великая княгиня так никогда и не узнала. С ней же архимандрит завел беседу о детях, усердии в исполнении супружеского долга и послушании. Терпение Екатерины лопнуло, и она довольно резко ответила, что до сих пор невинна. Услышав эти слова, священник изумленно воскликнул:
– Так почему же императрица убеждена в противоположном?
Екатерине оставалось только пожать плечами.
– Увы, отец мой, я не знаю ответа на ваш вопрос. Думаю, однако, что виной всему злые и завистливые языки, коими столь полны дворцовые покои…
Теперь промолчал архимандрит Тодорский – трудно было спорить с таким замечанием великой княгини.
– Признаюсь вам, добрый мой наставник, мне временами кажется, что, сама не зная как и почему, стала я заклятым врагом императрицы…
– Полно, дочь моя, полно… – пробормотал архимандрит, которому временами казалось то же самое.
Тем же вечером он, пренебрегая тайной исповеди, рассказал обо всем Елизавете.
– Бедное дитя… – ахнула та. – Ежели это правда…
– Боюсь, матушка, что чистейшая.
– Однако я все же подошлю к ней Лестока. Ему сподручнее будет убедиться в этом. Но ежели это правда, великому князю несдобровать!
– Позволено ли мне будет возразить матушке императрице?
– Говори уж. – Та коротко махнула рукой.
– Первою вашей заботою должен стать наследник, который родится у великой княгини. Россия ждет этого малыша! А уж потом можете перевести свой взор на великого князя.
– Но Петр?..
– Разве я хоть слово сказал о великом князе, матушка? – развел руками архимандрит.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
…по имени Чернышевых, все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы; эти последние были поручиками, в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышевых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными. Великий князь очень любил их всех троих; они были самые близкие ему люди, и, действительно, они были очень услужливы, все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось итти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Евреиновым, и часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою, и часто я добывала через них сведения, которыя мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу, старший Чернышев сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великаго князя, который мне это разсказал, и с той минуты Его Императорскому Высочеству угодно было называть меня «его невеста», а Андрея Чернышева, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених». Андрей Чернышев, чтобы прекратить эти шутки, предложил Его Императорскому Высочеству, после нашей свадьбы, называть меня «матушка», а я стала называть его «сынок», но так как и между мною и великим князем постоянно шла речь об этом «сынке», ибо великий князь дорожил им, как зеницей око, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забезпокоились, одни из ревности, другие из страха за последствия, которыя могут из этого выйти и для них, и для нас. Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Евреинов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, к которой я, видимо для них, стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть; он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышева и заняты им». – «Ну, так что же, – сказала я в невинности сердца, – какая в том беда; это мой сынок; великий князь любит его также, и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен». – «Да, – ответил он мне, – это правда; великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права; что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры; Чернышев последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом. В Летнем дворце Андрей Чернышев снова появился; я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по новому распределить камер-лакеев: они служили во всех комнатах по очереди и следовательно Андрей Чернышев, как и другие. Великий князь часто тогда давал концерты днем; в них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату; эта комната выходила в большую залу Летняго дворца, в которой тогда раскрашивали потолок и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии, Крузе уехала к дочери, к Сивере; я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противопложном конце Андрея Чернышева; я сделала ему знак, чтобы он подошел; он приблизился к двери; по правде говоря, с большим страхом, я его спросила: «Скоро ли вернется императрица?» Он мне сказал: «Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале, впустите меня к себе в комнату». Я ему ответила: «Этого-то я и не сделаю». Он был тогда снаружи перед дверью, а я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную двери, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: «Великий князь просит Ваше Высочество». Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату, где у великаго князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на котораго была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас. На следующий день затем, в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышевых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга, а днем Чоглокова была приставлена ко мне. Чоглокова пришла мне сказать от имени Ея Императорскаго Величества, что она меня освобождает впредь от посещения ея уборной и что когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то делать это не иначе как через Чоглокову. В сущности я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин императрицы; впрочем, я не часто туда ходила и видела Ея Величество очень редко: с тех пор как я имела к ней вход, она показывалась мне всего три-четыре раза, и обыкновенно все женщины понемногу одна за другой выходили из комнаты, когда я туда входила; чтобы не быть там одной, я тоже не долго оставалась…. Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель Чоглокова надоедала нам и была отчаянием нашей кареты; на малейший пустяк, какой высказывали, она возражала словами: «Такой разговор не был бы угоден Ея Величеству» или «Это не было бы одобрено императрицей», иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет.
Интродукция
- Мимо рощи шла одинеханька, одинеханька, молодехонька.
- Никого в рощи не боялася я, ни вора, ни разбойничка,
- ни сера волка – зверя лютова,
- Я боялася друга милова, своево мужа законнова,
- Что гуляет мой сердешный друг в зеленом саду,
- в полусадничке,
- Не с князьями, мой друг, не с боярами,
- не с дворцовыми генералами,
- Что гуляет мой сердешной друг
- со любимою своею фрейлиной,
- С Лизаветою Воронцовою,
- Он и водит за праву руку, они думают крепку думушку,
- крепку думушку, за единое,
- Что не так у них дума сделалась,
- что хотят они меня срубить, сгубить…
Глава 20
Шаг к трону
Важные дела следует вершить с утра. Тогда все получится именно так, как следует. Во всяком случае, так думалось Елизавете.
После доклада Лестока, подтвердившего слова великой княгини, императрица задумалась. Размышления ее касались многих предметов, однако первым, как и советовал мудрый Симон Тодорский, должна была стать забота о наследнике великокняжеской четы.
«Бедная девочка, – подумалось Елизавете. – Скоро год, а ты все молчишь, ни словечка никому не сказала. Должно быть, только Прасковья-то Румянцева знает о твоей беде. Но и она молчит. И это хорошо, подруга, вишь ты, настоящая, хоть и болтушка по виду-то… А Петр, прости господи, великий князь… Урод проклятый, дурак голштинский… Слов не подобрать!»
Императрица одернула себя. Не дело бранью это несчастье поливать, о деле надо задуматься. Однако вместо дела подумала императрица о давней своей подруге Марье Алексеевне, урожденной княжне Голицыной. Многие годы дружбы связывали Елизавету Петровну и Марью Алексеевну – с тех давних уже пор, когда вступила тридцатидвухлетняя Елизавета на престол.
«Ох, давнее дело… Давнее…» – императрица улыбнулась, вспомнив, что именно Марья Алексеевна принесла ей впервые мужское платье – мундир измайловского полка, подобный тому, в какой любила наряжаться сама. Вспомнилось Елизавете, как подгоняли две дамы сей мундир и как это было весело и славно.
«Молодость, как же ты хороша…»
С воспоминаний об исколотых иглою пальцах мысли императрицы незаметно перетекли к мужу Марьи Алексеевны, генерал-аншефу Василию Федоровичу Салтыкову. И к их сыну, Сергею Васильевичу – умнице и красавцу. Поговаривали, что к своим годам сей камергер уже ведет счет третьему десятку амурных побед.
«Ну что ж, батюшка Сергей Василич, должно быть, не зря я маменьку твою сейчас вспомнила. Похоже, именно тебя-то мне и нужно, дружочек…»
– Свет мой, Сергей Васильевич… – Елизавета улыбалась, глаза ее сияли добротой и приветливостью… – Как вам живется при дворе, все ли радует, всего ли вдоволь?
– Благодарю, матушка императрица. Вам ведомо, я много объездил, много повидал… И каждый раз Россия, Петербург для меня – словно манна небесная, стремлюсь сюда каждодневно, скучаю и жажду увидеть дорогие лица… – Сергей Салтыков склонился в поклоне.
Красивое лицо, вьющиеся темные волосы, статная фигура… «Подойдет, – подумала Елизавета, – не может не подойти…» Не то чтобы он подходил по всем статьям, но внешность весьма недурна, да и умом не последний… «Ничего, – решительно сказала себе императрица, – дурное дело нехитрое… Была не была…»
– Я бы очень хотела, – произнесла она с теплой улыбкой, – познакомить вас наконец с наследником престола и его юной супругой. Право, они оба должны, не могут вам не понравиться… И у вас наверное есть что им рассказать… Вы ведь только на днях из Парижа?
«Из Парижа, матушка, а перед этим я посетил Флоренцию и Милан… Но вам-то что с этого?»
– Невеста нашего Петруши так привлекательна и умна, что, право же, не может вам не понравиться… Правда, правда, я редко восхищаюсь кем-либо, и вы это знаете лучше других. Но сейчас я, без преувеличения, очарована. Милая девушка, предмет восхищения пиитов и блаженство для людей, сведущих в тайнах разума…
«К чему вы ведете, матушка?»
– К сожалению, Господь не дает нашим детям наследника. Граф Алексей и я скорбим и молимся, но толку чуть. Если бы вы, любезный Сережа, смогли развлечь великого князя – и, может быть, его благочестивую супругу, – я была бы счастливейшей из смертных… Мне так жаль их… Сердце разрывается, когда я вижу их страдания из-за бесплодного брака…
«А больше всех страдаешь, конечно, ты, матушка… Кому, как не тебе, сожалеть о том, что после всех интриг, козней и усилий все разбивается о личность твоего племянника? Все очень просто: великий князь, говорят, не способен исполнять супружеский долг. Хотя слыхал я и другое: ему любы те женщины, которые как можно менее походят на его жену. Лесток сказывал, что Петр страшно мнителен и психически неустойчив, а как-то спьяну лейб-медик обмолвился, что даже душевно нездоров… Да и как же иначе, если бедный отрок все детство свое провел среди сумасшедших кирасир… А княгиня, право, недурна – видел ее на балу у Румянцевых… Молодая женщина, а мужу нелюба… Невыносимо сии муки терпеть…»
– С великою радостью, матушка, – поклонился камергер. – Служить вашему величеству при дворе великого князя честь для меня!
«А уж природа возьмет свое, – с некоторым облегчением подумала императрица. – Надо будет чем-то полезным занять Петрушу-то, чтобы не помешал службе Сергей Василича…»
Однако надеяться только на Салтыкова было глупо. Елизавета, раз уж за что-то бралась, всегда предусматривала и запасной ход – если, паче чаяния, основная ставка не сыграет.
«Надобен мне человек, который будет близок к великой княгине необыкновенно. Приятен ей и при этом не вызовет ни у кого никаких подозрений. Как Лесток, который политик куда более чем лекарь… Лекарь! Именно что лекарь!»
Воистину великие дела должны делаться с утра – теперь Елизавета в этом убедилась, ибо мысль о Салтыкове ей пришла в голову ранним утром. Как сегодня поутру и мысль о Лестоке…
– Друг мой, – проговорила императрица, едва лейб-медик закончил свой ежеутренний осмотр. – А хорош ли Алексей Кирсанов? Видала я его уже несколько раз в твоей свите.
– Моей свите, матушка? – Лесток деланно удивился.
– Ну как же еще назвать твоих помощников, как не свитою? Да не о названиях разговор сейчас. Хорош ли сей доктор?
– Матушка Елизавета, ты мне изменить желаешь? – Лесток шутил, но как-то настороженно.
– Лучше тебя меня никто не излечит. Да и не знает никто, – императрица вернула лейб-медику улыбку. – О невестушке своей тревожусь. Ей, сдается мне, давно уж персональный лекарь надобен. Дабы и телесные и душевные хвори врачевать.
– Кирсанов хорош, – лейб-медик, как всегда, понимал свою императрицу с полуслова. – Мудр и сдержан, знает много, честен, неболтлив. Чести женской никогда не предаст. Одно плохо – женат.
– Чем же плохо? Хорошо даже – уважение к женщине имеет.
«И забот будет меньше, в женихи, дай Бог все сложится, набиваться не начнет…» Грязное все-таки дело – высокая политика.
– Так тому и быть, друг мой. Прикажи ему – пусть пополудни войдет в малый кабинет – поручение для него у меня есть.
Когда Кирсанов вошел в кабинет, Елизавета перебрала, должно быть, не один десяток вариантов беседы. Но в конце концов решила обойтись вовсе без намеков.
– Видите, милейший Алексей Николаевич, – сказала она, чуть склонив голову и прищурив обычно насмешливые, но сейчас невероятно серьезные глаза, – видите ли, жена милого нашего Петруши в очень щекотливом положении… Виданное ли дело, столько в браке – а наследника все нет… Должно быть, как великая княгиня ни молода, однако, похоже, здоровья все же некрепкого… Думаю я, ей нужен врачеватель и конфидент. Иначе ей, голубке, никогда радости материнства не видать. Тут помочь надо, дело государственное…
– Как же… – пролепетал сконфуженный Алеша, которому давно и невероятно нравилась великая княгиня, – как же помочь?
– Ой, не знаю, милый Алексей Николаевич… И негоже между супругами влезать, и молчать не могу, вся душа изболелась – ведь мои же дети… Природа должна способствовать, Алеша, так думаю… Природа, молодая кровь, молодое тело…
Сергей положил теплые руки на живот Екатерины. Та ответила улыбкой.
– Душа моя, давно уж хотел поговорить с тобой, да все не приходилось…
– Говори, Сережа.
– Раздумывал я о нас с тобой, о том, какой стала моя жизнь после того, как увидел тебя, как стал твоим…
Великая княгиня нежно погладила Салтыкова по плечу. Да, с тех пор как при «малом дворе» появился Сергей, жизнь ее чудесным образом изменилась. Ей даже показалось, что матушка императрица немного смягчилась, перестала ее шпынять и в каждой беседе спрашивать, довольна ли княгинюшка своей жизнью, рада ли она супружеству своему.
Екатерина, конечно, смиренно отвечала, что жизнью довольна и что сердце ее исполнено благодарности матушке Елизавете Петровне за неустанную заботу, которую та проявляет о «своих детушках».
А уж после того как Екатерина понесла, императрицу словно подменили. Она вновь стала такой, как была, когда встречала только что приехавшую из Пруссии Фике. Куда-то волшебным образом исчезла глупая до одури Мария Чоглокова, зато разом ко двору великой княгини были допущены давние добрые приятельницы, с которыми она сблизилась, еще будучи Софией Августой Фредерикой. Стоит ли упоминать, что Сергей теперь всякий час был при ней – и на прогулках сопровождал, и долгие часы вечерних чтений не пропускал, даже перестал бурчать, что устает от бабской болтовни.
Если совсем уж честно, Екатерина тоже стала немного уставать – от Салтыкова, от его самолюбования, показной отстраненности на людях и навязчивости, даже прилипчивости, когда они оставались наедине. Что уж говорить о том, как высокомерно он всегда отказывался говорить с ней о политике, обсуждать давние победные сражения, кои когда-то вела Россия…
– Это дело мужское, бабскому разуму неподвластное!
«Ох, Сережа, друг мой сердечный, как же ты не прав… И отчего ты так переменился? Оттого, что власть свою надо мною ощутил? Так есть ли она, власть-то эта? Или сие тебе только кажется?»
Ее добрый гений, а с некоторых пор и доверенный друг Алеша Кирсанов (ох, снова Алеша), пользующий ее вот уже год, как-то сказал:
– Матушка Екатерина, будь с этим камергером поосторожнее. Уж всем он хорош, уж всем он приятен. Да только со стороны-то яснее ясного, что в первую очередь заботится он о себе, о грядущем своем, а уж все остальное рассматривает токмо через такой лорнет.
– Что ж тут удивительного, Алеша? Любому человеку сие свойственно – думать сначала о себе, а уж потом обо всех остальных.