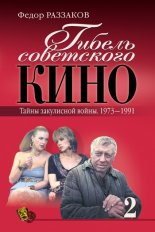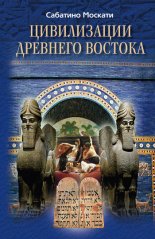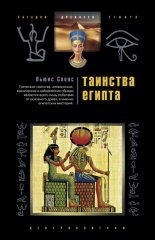Екатерина Великая. Сердце императрицы Романова Мария

– Оно-то так, Катюша, да только не все так по-волчьи на мир вокруг смотрят. А вот Сергей Василич как в покои ваши входит, так все по сторонам осматривается. Точно матерый зверь…
Екатерина улыбнулась: она тоже замечала за Салтыковым эту странную манеру: войти, оглядеться, кажется, даже принюхаться… А потом уж, не найдя ничего угрожающего, словно маску-то и снять, в другого человека превратиться.
– …опаска есть у меня, княгиня, что вскоре амант ваш станет на вас как на ключик к счастью посматривать.
– Спасибо, друг мой! Постараюсь я ловушку сию обойти…
– Так что, Сережа, надумал ты, о нас с тобой размышляя?
Салтыков осторожно отпустил руку Екатерины, встал. Зачем-то прошелся к распахнутым в сад дверям, вернулся обратно. Снова присел у ног Екатерины, а затем опять встал.
– Что ж ты суетишься-то, батюшка Сергей Васильевич? Аль что-то нехорошее думал, о счастии нашем в мечты уходя?
Салтыков оглянулся на Екатерину. За десять лет, проведенных в России, она удивительно похорошела, а за полгода беременности просто расцвела. Ныне ее улыбку можно было бы назвать солнечной без всяких поэтических преувеличений. Тем более горько будет сейчас расстраивать великую княгиню разговорами не ко времени.
– Не суечусь я, что ты. Просто подумал, что не следовало бы сейчас заводить разговор сей.
– Нет уж, душа моя, начал, так заканчивай! Пусть я что-то дурное услышу – все лучше, чем в неведении оставаться!
Сергей Васильевич длинно и тяжело вздохнул. Он и сейчас мечтал бы вернуться на час назад и не заводить этого разговора, но слово-то не воробей. Да и сколько можно тянуть?
– Раздумывал я о счастии нашем, матушка, раздумывал, да и стало страшно мне за малыша нашего, что ты под сердцем носишь. А ну как прознает великий князь, что ребенок не его?
Екатерина с тревогой взглянула в лицо аманта.
– Ты что сказать-то хочешь, Сережа?
– Страшно мне, матушка. И за малыша нашего любимого страшно. И за тебя, душа моя ненаглядная… Боюсь я, что не позволит великий князь жить нашему крохе, убьет, как только тот родится.
Екатерина про себя усмехнулась. Да, отношения с Петром у нее были непростыми, но в чем его нельзя было упрекнуть, так это в дешевой мстительности. Почти два года прошло с тех пор, как Петр со смехом предлагал:
– А давай, княгинюшка, будем дружить семьями. Я с Лизанькой своей ненаглядной и ты с амантом Сергеем свет Василичем. Веселая компания, поди, получится. Да и поучиться, сдается мне, сможем друг у друга…
Тогда Екатерина промолчала, а сейчас, вспомнив тот странный разговор, порадовалась, что Сергею о нем не рассказала. Быть может, еще успеет – однако же сейчас надо дослушать Сережу до конца.
– Не тревожься об этом, друг мой! Думаю, Петру и в голову не придет поднимать руку на мое дитя. Да и Елизавета Петровна защищать будет его, аки львица.
– Только этой надеждой я себя и тешу, матушка! Однако все же беспокойно.
– Говорю тебе, выбрось из головы, Сергей!
Но тот не слушал. Отойдя как можно дальше от Екатерины, полуобернувшись и глядя в сад поверх деревьев, он проговорил:
– Насколько отрадней было, Катюша, свет жизни моей, если бы не стало вдруг великого-то князя, Петра Федоровича… Насколько спокойнее и мне, и тебе, да и многим в стране этой…
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Я уже несколько времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновеннаго при дворе; он всегда приходил со Львом Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью, – я уже привела некоторыя черты ея. Сергей Салтыков был ненавистен княжне Гагариной, которую я очень любила и к которой питала даже доверие. Льва Нарышкина все терпели и смотрели на него, как на личность совсем не значащую и очень оригинальную. Сергей Салтыков заискивал, как только мог, у Чоглоковых; но так как Чоглоковы не были ни приятны, ни умны, ни занимательны, то его частыя посещения должны были иметь какия-нибудь скрытыя цели.
Во время одного из этих концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я не сразу ему ответила; когда он снова стал говорить со мной о том же, я спросила его: на что же он надеется? Тогда он стал рисовать мне столь же пленительную, сколь полную страсти картину счастья, на какое он разсчитывал; я ему сказала: «А ваша жена, на которой вы женились по страсти два года назад, в которую вы, говорят, влюблены и которая любит вас до безумия, – что она об этом скажет?» Тогда он стал мне говорить, что не все то золото, что блестит, и что он дорого расплачивается за миг ослепления. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли; я простодушно думала, что мне это удастся; мне было его жаль. К несчастью, я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какой дают большой свет и особенно двор. Ему было 26 лет; вообще и по рождению и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся; свои недостатки он умел скрывать: самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил; но они тогда еще не развернулись на моих глазах. Я не поддавалась всю весну и часть лета; я видала его почти каждый день; я не меняла вовсе своего обращения с ним, была такая же, как всегда и со всеми: я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила: «Почем вы знаете, может быть, мое сердце занято в другом месте?» Эти слова не отбили у него охоту, а наоборот, я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге и речи не было, ибо это было дело известное, что он не любезен даже с теми, в кого он влюблен, а влюблен он был постоянно и ухаживал, так сказать, за всеми женщинами; только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания.
Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновеннаго. Он нарисовал мне картину придуманнаго им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню», и пришпорил лошадь; я крикнула ему в след: «Нет, нет», а он повторил: «Да, да».
В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною, и наговорил еще множество подобных вещей; он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива; тысяча опасений смущали мой ум и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою; я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их, а тут поняла, что и то, и другое очень трудно, если не невозможно.
Сергей Салтыков вернулся из своего добровольнаго изгнания и сообщил мне приблизительно, в чем дело. Наконец, благодаря своим трудам, Чоглокова достигла цели, и, когда она была уверена в успехе, она предупредила императрицу, что все шло согласно ея желаниям. Она разсчитывала на большия награды за свои труды, но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали; между тем она говорила, что империя ей за это обязана. Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великаго князя прервать переговоры с Данией; я ему напомнила совет гр. Берни, который уже уехал в Вену; он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякаго решения, что и было сделано. После недолгаго пребывания в Летнем дворце мы перешли в Зимний. Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мною ухаживать, что он становился невнимательным, подчас фатоватым, надменным и разсеянным; меня это сердило; я говорила ему об этом, он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находила его поведение довольно странным. Нам велели готовиться к поездке в Москву, что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 г. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправилась из Петербурга с кое-какими легкими признаками беременности.
Глава 21
Мать наследника
Екатерина чуть распустила шнуровку платья. Наследник (о, она не сомневалась в том, что родится мальчик!) несколько раз повернулся, наверняка укладываясь спать, и затих. Великая княгиня погладила живот:
– Спи уж, непоседа!
Волшебные белые ночи подходили к концу, июль уже вступил в свои права. Великая княгиня вышла в сад. Вновь мысли вернулись к тому разговору с Салтыковым.
Тогда, третьего дня, слова камергера были весьма туманными. Собственно, упомянув великого князя, Сергей замолчал вовсе. Еще несколько минут смотрел в сад, ожидая, видимо, ее ответа. Но Екатерина не сказала ни слова. Годы жизни в России приучили ее к сдержанности. Более того, она чувствовала, что в ее натуре появилась преудивительная привычка – не вскрикивать, не восклицать, не вздрагивать, услышав даже самые странные вести. Теперь она на все реагировала чуть поднятыми бровями и внимательным взглядом в лицо говорившего.
Вот и тогда Екатерина, услышав слова Сергея Васильевича, лишь приподняла брови. Тот, стоя спиной, конечно, этого не увидел – иначе непременно пустился бы в объяснения. Но так все прошло в молчании.
Через несколько минут Сергей откланялся, не произнеся более ни слова. Он и в ее покои больше не заходил, должно быть опасаясь расспросов. Однако великая княгиня отсутствию аманта отчего-то радовалась. Екатерина пыталась понять, почему это происходит, но пока ответа не находила. Однако же, однако…
В словах Салтыкова она сразу же услыхала вовсе не то, что тот, вне всякого сомнения, в них вкладывал. Конечно, преступно даже представить, что великого князя, наследника престола, вдруг не стало бы. Это истинная крамола, даже помыслы такие ведут не в крепость, а сразу на эшафот. Но Салтыков прав – многим в этой стране стало бы житься куда спокойнее.
И ей в первую очередь. Императрица, получив наследника, не станет очень уж долго печалиться об утере племянника, ради которого ей приходится содержать немалый штат соглядатаев и воспитателей. Убедившись, что корона будет передана привычным образом, назовет ее, Екатерину, матерью наследника, а, буде решится отойти от дел, регентшей при малолетнем царе.
Что ж, быть регентшей куда лучше, чем просто великой княгиней и осмеиваемой всем двором неугодной женой. Да, даже в таком положении она, Екатерина, сможет наконец применить столь многочисленные знания, кои все эти годы терпеливо собирала, сможет обратить хотя бы часть их на благо страны, которую давно уже считает своей второй родиной, которую полюбила, неожиданно для самой себя, даже больше, чем обещала малышке Фике – себе самой – долгих десять лет назад.
Екатерина прошлась в серебристой тени, вышла из-под деревьев, присела перед клумбой с роскошными пионами, чей тонкий запах столь мало подходил к их скандально неухоженному виду. Придворные садовники, конечно, ни за что бы не высадили столь… недворцовые цветы, если бы Екатерина впрямую не распорядилась об этом. И Елизавета Петровна (вот уж чудо из чудес!) даже разок пришла полюбоваться «сиими простонародными цветами».
Великая княгиня усмехнулась: сейчас императрица готова была позволить невестке вообще все, что угодно, лишь бы получить долгожданного наследника.
«Однако думается мне, что счастье сие долго не продлится. И императрица вновь сделает дворец моею темницею, как только родится малыш».
Что ж, этого следовало ожидать. И наверняка так и произойдет, как бы Екатерина ни мечтала об ином. А уж о том, чтобы самой растить дитя, можно не только не мечтать, даже не вспоминать об этом. Уж слишком долгожданным будет сей отпрыск, слишком нужным высокой политике.
– Бедный ты мой малыш… Прости уж матушку свою. Прости и пойми.
Сынок спал и, конечно, не слышал слов матери. Глубокая тишина белой ночи, однако, странно подействовала на Екатерину. Сон не шел к ней, мысли приобрели какое-то странное направление. В первый раз за последние годы она стала думать о будущем.
Хотя нет, чуточку не так. О будущем она думала всегда, однако не отделяя себя от своей новой семьи, не отделяя собственные интересы от интересов императрицы. Защищалась лишь от нападок великого князя, предугадывать направление мыслей которого так и не научилась.
А сейчас, в тишине ночи, Екатерина вдруг подумала о собственном своем будущем. К сожалению, в нем не будет места радостям воспитания любимого первенца – увы, сие ясно как день было с того мига, когда Елизавета узнала о беременности великой княгини. Но ничего иного ожидать и не приходилось: «Интересы державы, княгинюшка, превыше твоих интересов!»
Не будет в нем и радостей общения с любимым мужем – за неимением такового в принципе. Великого князя и супругом-то можно было называть лишь оттого, что памятны были долгие часы стояния под венцами в церкви.
Однако будут дни и ночи с любимым, даровавшим ей малыша. И, дай-то Бог, он подарит еще не одного.
Но все это мысли лишь о будущем ее как женщины. Жены, матери. А вот что ждет ее как члена императорской фамилии? И ждет ли?
Мысли Екатерины обратились к Елизавете Петровне. Та стала единоличной правительницей в неполных тридцать два, свершив дворцовый переворот, и уже второй десяток лет управляет страной, не допуская к рулю мужчин. Да, Разумовский, ее муж, мудр и рассудителен, да, канцлер Бестужев и врач Лесток думают, что вершат высокую политику. Однако решающее слово-то остается за императрицей. И страна от сего матриархата отнюдь не проигрывает, не впадает в крайнюю бедность, не терпит в сражениях непрерывных поражений. Должно быть, не столь уж сладка участь правительницы, однако же, думается, она зачастую довольна тем, что называет плодами своих усилий.
Но неужели же ей, Екатерине, так и не придется никогда ощутить, что сие такое – отрада при виде успеха своих усилий? Неужели она вот так всю жизнь и просидит в парадных туалетах на троне без всяческого права, кроме права милостиво и молча улыбаться?
Многие годы чтения, письменных бесед с мудрецами родом со всего света сделали разум Екатерины изощренным и критическим. Она вовсе не склонна была идеализировать кого бы то ни было, а уж Елизавету-то Петровну в первую очередь. Однако видела в императрице для себя множество уроков, которые следовало исполнить на отлично.
Великий же князь, наследник престола Петр Федорович, – это Екатерина заметила уже давно – уроков никаких из лет жизни рядом с императрицей для себя не вынес и, вне всякого сомнения, ничего не усвоил, кроме, должно быть, головокружительного вкуса власти как таковой. И вкус этот он ощутил с первых же минут правления, пусть правит он сейчас лишь своим «малым двором» и игрушечными лейб-солдатиками. Как с первых же минут этого странного правления стало отчетливо видно, что именно он будет делать со страной и в какую пропасть может ее увлечь просто тем, что не будет делать ничего. Если же придет ему в голову сотворить хоть что-то, то сие будет более чем ужасно, ибо великий князь привык за образец брать деяния Фридриха Второго, не обращая внимания на то, что Пруссия столь же разительно отличается от России, как король прусский от него, Петра Федоровича, наследника престола российского.
Самое же скверное, что Петр, ставший старше на добрых полтора десятка лет, ни на минуту не повзрослел, оставаясь таким же злобным, капризным и недалеким мальчиком, каким был в Эйтине. И точно так же почитает мнение свое единственно верным, не прислушивается ни к чьим советам, заставляя, впрочем, всех, кого может заставить, плясать под собственную фальшивую дуду. Конечно, не будет он слушать и советов жены. Быть может, ее-то слова он и отвергнет в первую очередь.
Мысли Екатерины, против всякого желания с ее стороны, стали паническими. Но чего будет стоить жизнь-то этой самой жены, стоит лишь Петру прийти к власти? Без сомнения, он и его приспешники весьма быстро найдут и в российской, и в европейской истории более чем многочисленные примеры того, как следует поступать с постылыми венчанными женами для того, чтобы они не мешались под ногами.
Сердце Екатерины забилось быстрее. Да что там с женами! Он и детей-то может за здорово живешь лишить жизни! Просто оттого, что те, выросши, смогут забрать у него трон. Или по любой иной причине.
Да, сие есть уже куда более серьезная опасность. И вероятность того, что Петр решится на убийство или ссылку для жены и детей, взойдя на трон, весьма и весьма велика.
«А Сережа-то нисколько не преувеличил, говоря, что без великого князя многим вздохнется спокойнее».
Да, ни на йоту не преувеличил. Сейчас Екатерину мало интересовал вопрос, собственная ли это мысль Салтыкова, или кто иной подсказал ее. Как бы то ни было, что бы ни двигало Сергеем Васильевичем – искренняя забота о ней и ребенке или иные устремления, – мысль была весьма и весьма разумна. От исчезновения Петра Федоровича страна ничуть не проиграет. А иные из ее подданных даже выиграют.
– Не просто иные, многие…
– Матушка княгиня, что ж это такое! – в дюжине шагов послышался голос камеристки Софьюшки. – Ночь глухая, а вы все бродите, а вы все мечтаете. Спать давно пора, сны сладкие видеть, а вы все в размышлениях. Хорошо хоть мне сердце подсказало, где вас искать! А что было бы, ежели ж вас хватился кто иной?
– Да кому ж я нужна, Софья Васильна, добрая ты душа?
– Не скажи, матушка! Многим нужна! И добрым людям, и злым. И ведь подумать-то могут всякое! Это я знаю, что вы просто в размышлениях о грядущем покоя не знаете. А ить иные могут решить, что вы с полюбовником шашни крутите в саду…
Екатерина расхохоталась.
– Великая княгиня не нашла другого места, как дальние дорожки дворцового сада… Ох, Софьюшка, ну насмеши-и-ила. Однако правда в твоих словах есть – на дворе ночь глубокая, и впрямь пора возвращаться.
Софья еще что-то бормотала о том, что не след так торопливо идти, дитя страшно выронить. А это все же наследник престола! И что скажет лекарь Кирсанов, коему приказано и денно и нощно печься о здоровье наследника и его матери?
– Софья, не глупи! Матушка моя, Иоганна, до последних дней на балах плясала, а мне уже и по саду пройтись нельзя! Иди уж, опочивальню приготовь.
– Да ить давно готово все, Катерина Лексевна!
– Ну вот и ладно! Тогда помолчи, дай подумать в тиши. Иначе выпорю и не поморщусь!
(Ах, Фике, ты ли это?)
«Иные выиграют… И многие! Сие есть чистейшая правда, как ни крути…»
Но она, Екатерина, выиграет более всех. Ибо что может быть дороже сохраненной собственной жизни? Хотя, кроме жизни, она выиграет и еще нечто более чем драгоценное – престол российский, империю, куда можно вложить все силы на благо ее процветания. Вложить без опаски, что каждое из твоих слов будет истолковано превратно, а любое твое повеление отменено в следующий же миг.
Прельстительные, сладостнейшие картины единоличного правления закружились перед глазами Екатерины. Она едва заметила, что уже вернулась во дворец, что Софья закрыла изнутри двери опочивальни, помогла сменить свободное платье на ночную рубаху и чепец. Мысли ее были несказанно далеки от сегодня и сейчас.
«А ведь Сергей-то Василич прав, ох, и прав! Или тот, кто сию забавную мысль в его разум вложил. Вот только, друг ты мой ситный, даже если божеским попущением великий князь и исчезнет, ты на место моего супруга не сядешь. Пусть ты и происходишь из рода древнего, пусть умен, хорош собой и предприимчив, однако не по тебе, Васильев сын, титул великого князя. А уж о титулах более громких и вовсе говорить нечего!»
Екатерина откинулась на подушки. А ведь раньше или позже Петр-то придет к власти – матушка государыня не вечна, как любой человек. И тогда угроза ее жизни вновь станет не пустым философствованием, а вполне реальной опасностью. Как и жизни ее детей – кто бы ни был их родителем, пусть даже сам Петр Федорович.
«Забавно все-таки устроена жизнь… Хочу я этого или нет, но когда-то я буду вынуждена вновь вернуться думами к тому, что тревожит меня сейчас. Вновь на одну чашу весов положить жизнь своего венчанного супруга, а на другую – собственную жизнь. И как бы ни бежала я от этой мысли, она все же меня нагонит…»
А следом за именем Петра пришло в голову великой княгини и еще одно соображение. Пусть не Петр Федорович, которому она не нужна, пусть кто-то иной, но ведь должен же в ее жизни появиться мужчина! Такой, как Разумовский у Елизаветы. Должен появиться не амант, а друг и советчик, опора и душевное отдохновение, единственная любовь и судьба.
«Мне же всего двадцать шесть! Неужто не найдется моего мужчины? Неужто так до конца дней своих суждено искать мне того единственного, о ком душа моя будет тосковать в разлуке и радоваться во всякий совместно прожитый день?»
Пока это все были лишь вопросы, не имеющие ответов. Однако важность размышлений Екатерина чувствовала уже сейчас. Равно как и необходимость принятия решения, быть может, и не сиюминутную.
…Торжествующая Елизавета подхватила на руки наследника престола, закутанного в батистовые пеленки.
– По здорову ли, батюшка?..
Императрица подняла глаза на доктора. Тот кивнул и принялся вытирать руки.
– Младенец совершенно здоров. Думаю, он вырастет в крепкого здорового мальчишку, при этом копию отца.
– Вот и славно, вот и хорошо!..
Елизавета не могла расстаться с малышом и на мгновение – сбылась ее мечта, венец десяти лет упорного труда лежит у нее на руках и… Малыш сморщил нос и громко закричал.
– Да-а, батюшка, кричи! Кричи, касатик! Твой голос отныне первый в России…
– Не надо, – шепотом попросила Екатерина. – Не надо баловать мальчика. Иначе он и впрямь вырастет во всем похожим на отца.
Но государыня уже вышла из натопленных покоев – с малышом на руках и сопровождаемая добрым десятком мамок и нянек. Екатерина осталась одна. В первые минуты после столь важного события рядом не осталось никого из друзей, которые могли бы разделить радость от появления на свет ее сына.
На глаза набежали слезы. «Неужели они оставят меня совсем одну?» Но тут хлопнула дверь в дальние покои – вернулся доктор Кирсанов с большой чашкой в руках.
– Выпей, Софьюшка, это теплый ягодный компот. Тебе нужно сейчас много пить.
Софьюшкой называл ее только он, ее Алеша, доктор, который вот уже год помогал ей и в телесных, и в душевных недугах. Высокий, статный, умелый, заботливый… Временами излишне мягкий… Он с первого же визита заставил ее сердце забиться чаще – таким был и тот Алеша, Темкин.
Далекий, уже почти забытый образ все еще преследовал ее в кошмарах. Опять отголосок далекого пожара будил ее среди ночи. Екатерина уже привыкла к тому, что явление сие предвещает какие-то треволнения. Словно Алеша Темкин предупреждает: будь осторожна, милая моя Фике.
Екатерина пригубила компот. Сладко, но в меру.
Откинулась на подушки, позволила отереть с лица выступивший пот.
– Спасибо, Алеша.
Доктор присел рядом, вглядываясь в лицо великой княгини. В глазах его Екатерина увидела какую-то странную смесь чувств, словно к ликованию примешивалась тоска. Или, быть может, беспокойство.
– Что случилось, мой добрый лекарь?
– Я хочу поговорить с тобой, душа моя. Но боюсь начать – ты еще очень слаба.
– Не бойся, начинай уж.
Алексей, не в силах усидеть, встал, прошелся по комнате, вновь сел, молча взглянул в лицо Екатерины.
– Ах, будь что будет! Свет мой, знаешь ли ты, кто отец твоего сына?
Екатерина из-под ресниц взглянула на доктора.
– Мне ль не знать, душа моя… А вот знаешь ли это ты?
Алексей кивнул – едва младенец родился, он сразу обратил внимание на родимое пятно на плече, прямо над ключицей. Такое было у него самого и у его младшего брата.
– И всегда знала, Лешенька, – продолжила великая княгиня. – Ты оказался рядом в самые тяжелые для меня дни, и ни разу я не услышала слова худого.
– Но отчего же весь дворец гудит, что ты Салтыкову мила? Что он влил новую кровь в голштинские и цербстские вены?
– Потому что так хочется императрице, друг мой. Она, добрая душа, узнав, каков на самом деле ее племянничек, решила за меня решить мою судьбу. И подослала Сергея Василича.
Доктор покачал головой – ему было больно. И больно в первую голову оттого, что Екатерина все столь хорошо понимает. Ведь и его-то тоже попросили быть поближе к великой княгине люди императрицы. «Елизавета Петровна ничего не пускает на самотек…»
– Вот только Сережа-то при всем его обаянии, всей веселости, душевной красоте – человечек мелкий, пустоватый. Не достает ему чего-то очень важного, чтобы я назвала его мужчиной с большой буквы.
– А я?
– А ты, друг мой, в некоторых вещах куда более знаешь, куда более чувствуешь. Тебе я могу довериться – поверь, одному из весьма немногих.
– Но они же все считают Салтыкова отцом наследника! – В голосе Кирсанова звучали отчаяние и обида.
– Да и пусть считают, Алеша. Пусть императрица уверена, что она смогла угадать мои вкусы, пусть Салтыков уверен, что теперь-то я никуда от него не денусь. Пусть великий князь уверен, что теперь-то я ему не буду докучать. Наконец я смогу быть с тем, с кем хочу, а не с тем, с кем обязана!
«Но и ты, мой друг, не радуйся преждевременно… Надолго ли я захочу остаться с тобой – вот что ныне должно более всего беспокоить!»
«Бедная моя Софьюшка, ты, к счастью, не знаешь, что императрица не просто уверена, что угадала твой вкус, она подготовилась к тому, что может и не угодить тебе, с первого-то раза!..»
Екатерина поудобнее устроилась на подушках – все тело болело, словно она не один час таскала по дворцовому саду тяжелые камни.
– Еще попить?
Великая княгиня кивнула. Что-то беспокоило ее в поведении Алексея. Она чувствовала, что и этот человек сейчас выискивает для себя выгоду в новом положении. Быть может, оттого, что ревнует к возможным преимуществам, которые, как ему кажется, обретет Салтыков? Или жалеет, что не ему достанется непростая слава отца наследника престола?
– Но с кем же ты хочешь быть, матушка княгиня?
– Сейчас, друг мой, только с самыми близкими мне людьми.
Екатерина, конечно, чувствовала, что Алексей спрашивает совсем о другом. Но серьезные разговоры об эту пору заводить было не к месту и не ко времени. Да и велика ли честь – воспользоваться женской слабостью для выпрашивания каких бы то ни было привилегий?
– Это отрадно, душа моя Катюша… – вполголоса проговорил доктор. – А верно ли сказывают, что Салтыков отставлен от двора?
– Верно и неверно. Ему поручено дело важнейшее – с депешами императрица отослала Сергея Васильевича к шведскому двору. Должно быть, он уже достиг столицы. А если и не достиг, то со дня на день передаст верительные грамоты королю.
– Так вот отчего я не вижу графа уже месяц при малом дворе!
– Так он, поди, уже больше двух месяцев как покинул столицу.
«И это просто прекрасно – его мечтания о том, чтобы стать супругом царицы, были слишком утомительны…»
– Помоги мне, Алеша!
– Тебе нельзя вставать, матушка!
– Я и не собираюсь, просто спина затекла, лягу чуть повыше, и все.
– Больше двух месяцев… Но, должно быть, гонец-то отправлен к нему, дабы сообщить о рождении сына?
– О нет. – Улыбка Екатерины стала жестокой. – Гонец отправлен, чтобы сообщить Европе о рождении наследника престола. Да и разве может быть иначе?
– Однако он примчится, как только сможет!
– Нет, он не посмеет. Наказы, данные ему, удержат его вдалеке от России ровно столько, сколько будет потребно!
– Это жестоко, Екатерина.
– Это политика, Алеша…
– Самая жестокая из всех жестокостей…
– Ты прав, друг мой! И здесь, в стенах дворца, навсегда умолкают любые чувства, кроме одного: нужно для страны!
Екатерина произнесла это и поняла, что говорит от чистого сердца. Да, Алексей ей не противен, отнюдь. В его объятиях она пережила лучшие мгновения своей жизни, благодаря ему стала матерью. Но сейчас, она чувствовала это, все в прошлом. Теперь она свободна! И ее свобода не в том, что она может избирать себе аманта, сообразуясь со своим собственным вкусом, а не с соображениями династического толка, а в том, что она может планировать саму свою жизнь, сообразуясь с собственными понятиями о необходимости и справедливости.
Физически она была невероятно слаба – как новорожденный котенок. Однако духом – Екатерина чувствовала это – удивительно, сказочно сильна. О, сейчас она могла планировать все! И понимала, что сможет добиться осуществления любого из своих планов.
Но тут великая княгиня с удивлением прислушалась сама к себе. В этих планах было все: университеты и школы, победоносные сражения и долгие годы мира. Но не было лишь мужчины, который может встать рядом с ней, дабы вместе они создали неделимое целое.
Екатерина усмехнулась: мало найдется мужчин, столь же сильных духом, как женщина. А потому обретение такого даже самой царицей – дело ох какое непростое. И быть может, пройдет не один год, прежде чем такой мужчина появится.
Конечно, это не ее несчастный муж – взрослое дитя, который до сих пор не может вдоволь наиграться в свои игрушки. Не Салтыков, навсегда отставленный от двора и прекрасно понимающий, что возврата ему нет, быть может, ошибочно вздумавший, что виной тому тот разговор об исчезновении Петра Федоровича. Не ее добрый доктор Кирсанов, с нежной душой, с отнюдь не бойцовским характером. Нет, не видала она еще мужчину столь же сильного, как она сама, столь же уверенного, как она сама, строящего столь же обширные планы, кои строит она.
И только тут Екатерина поняла, что готова быть императрицей, готова править страной, отдавая ей всю себя. Править в одиночку – ибо на это есть и силы, и желание. Что такое правление, подобное правлению императрицы Елизаветы, сулит множество отрадных и спокойных лет. Пусть оно будет не лишено ошибок, однако сии ошибки будут не чета тем, какие сможет совершить оказавшийся императором «голштинский дурачок».
Но что же сказать Алексею? Да и следует ли хоть что-то говорить? Особенно сейчас, в первые часы после рождения их малыша? Наверно, лучше сейчас не думать ни о чем, отдохнуть немного, набраться сил.
И хорошо, что рядом нет ни фрейлин, ни череды бормочущих лекарей, никого. Хорошо, что рядом только Алексей, с которым можно молчать и думать. Думать, увы, не о нем и видеть перед собой будущее, слишком… высокое и недоступное для него.
«Но сейчас я тебе этого говорить не буду… Я хочу просто отдохнуть!..»
Екатерина откинулась на подушки и прикрыла глаза. Сон незаметно окутал ее.
А Алексей все так же вглядывался в ее лицо, надеясь услышать, что уж теперь-то ему уготована участь много выше нынешней…
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
…пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все еще лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже заливавшейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, при чем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться. Шувалова тотчас же ушла, и, вероятно, она послала за акушеркой, потому что последняя явилась полчаса спустя и сказала нам, что императрица была так занята ребенком, что не отпускала ее ни на минуту. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец меня положили в мою постель и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне. Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика.
Кроме того, я не любила, чтобы меня жалели, и не любила жаловаться; у меня была слишком гордая душа, и одна мысль быть несчастной казалась мне невыносимой. До тех пор я делала все, что могла, чтобы не казаться таковой.
Наконец великий князь, скучая по вечерам без моих фрейлин, за которыми он ухаживал, пришел предложить мне провести вечер у меня в комнате. Тогда он ухаживал как раз за самой некрасивой: это была графиня Елизавета Воронцова; на шестой день были крестины моего сына; он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и, как только он кричал, она сама к нему подбегала и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавши во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом чернобурой лисицы; его покрывали стеганым на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое, бархатное, розоваго цвета, подбитое мехом чернобурой лисицы. Я сама много раз после этого видела его уложеннаго таким образом, пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшаго ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которыя безтолковым уходом, вовсе лишенным здраваго смысла, приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы.
В самый день крестин императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему Кабинету выдать мне сто тысяч рублей; к этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша и я была вся в долгу; ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления: там было очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камерфрау. Александр Шувалов пришел мне сказать, что ему приказано узнать от меня, как мне понравился ларчик; я ему ответила, что все, что я получала из рук Ея Императорскаго Величества, я привыкла считать безценным для себя. Он ушел с этим комплиментом очень веселый.
Глава 22
Прельстительный шелест страниц
И вновь нам надлежит покинуть опочивальню, где Екатерина отдыхает после рождения наследника, и вернуться на годы назад, к тем дням, когда Фике – еще Фике! – только завоевывала доброе отношение императрицы и двора.
Ко двору Елизаветы Петровны прибыл граф Гилленборг, официальный посланник двора Швеции. Он прибыл в Россию, чтобы оповестить о женитьбе наследника шведского престола Адольфа-Фридриха, дяди Екатерины, на прусской принцессе Ульрике. С графом, известным книжником и мудрецом, Фике встречалась в Гамбурге, и молодой дипломат (тогда ему было тридцать два года) за несколько минут был очарован умом этой девочки.
Ныне же граф почти не узнавал ее.
– Мадемуазель, вы только и думаете что о нарядах, – между фигурами обязательного котильона прошептал он, на всякий случай переходя на французский, который при дворе императрицы Елизаветы особо не жаловали. – Ваша любовь к роскоши понятна. Она происходит от скудности вашего детства. Но сие есть лишь мишура, уверяю вас. Вернитесь в естественное состояние вашей души. Вы рождены для великих деяний, а здесь ведете себя как ребенок. Готов спорить на собственное годичное жалованье: с тех пор как вы в России, вы и книгу в руках не держали!
– Увы, граф, вы проиграли свое жалованье, даже не поставив его на кон. – Фике подала руку для второй фигуры. – Хотя, тут уж следует признать вашу правоту, по большей части это были книжки препустые: романчики о высоких чувствах или о приключениях в далеких странах, кои, впрочем, также происходили из-за высоких, но не понятых предметом страсти чувств…
Граф тонко улыбнулся. Да, годы прошли, но острый ум девушки никуда не исчез: он словно спит в ожидании дня, когда понадобится.
– Мадемуазель, я счастлив этим проигрышем. – Вторая фигура плавно перешла в пассе из шестнадцати шагов. – Вы уже понимаете, что тратите цвет своего разума впустую. Осталась самая малость: обратиться от высоких чувств к высоким мыслям, отставив романы, пусть ненадолго, ради подлинно мудрых произведений.
– Быть может, сударь мой, вы подскажете, к чему обратить свой разум, дабы вернуться в естественное состояние души моей? С чего начать?
– О, это просто, герцогиня, начните с великого Монтескье. Сей мудрый муж, раздумывая о веках прошедших, множество дельных советов дает тем, кто живет ныне.
– Монтескье?
– Да, «Жизнь Цицерона» или, быть может, для начала все же «Размышления о причинах величия и падения римлян».
Третья фигура подошла к концу. Вскоре закончился и котильон. Граф проводил великую княгиню к ее месту и поклонился.
– Счастлив буду, сударыня, если вы окажете мне сегодня честь еще раз танцевать с вами.
– Это будет честью и для меня, ибо не только отрада для тела, но и великое удовольствие для разума есть беседа с вами, граф.
Гилленборг церемонно поклонился и отошел к столику с пуншем. «О, какой может стать страна, если эта девочка станет для императора подлинным другом и советчиком! И сколь выиграет император, если сумеет воплотить советы ее в жизнь!»
Конечно, ни графу, да и вообще никому и в голову не могло прийти, что принцесса Ангальт возжелает самолично править страной. Как, впрочем, не думала об этом и сама Фике. На том балу она еще дважды танцевала с Гилленборгом. Хотя куда правильнее было бы сказать, что они беседовали между фигурами танцев.
Мудрость совсем нестарого дипломата столь поразила девушку, что она на следующее же утро и в самом деле раскрыла «Размышления…». Хотя уместнее здесь было бы сказать, что девушка набросилась на эти серьезнейшие книги, как изголодавшийся на фруктах тигр, наконец догнавший пугливую серну. Фике с наслаждением вкушала общение с великими умами, не остановившись на одном лишь Монтескье. Она не раз обращалась за советом к Ивану Бецкому, вернувшемуся в Россию. Тот, к своей чести, не удивлялся столь необычному для девушки выбору. Лишь, передавая Фике книги великих мудрецов, он всегда советовал не читать их как дешевые любовные романы – останавливаться, обдумывать прочитанное, быть может записывая в дневник мысли, которые при этом приходят на ум.
Девушка следовала и этим советам. Через несколько недель она нашла в себе силы взглянуть и на самое себя и написала эссе, которое решилась назвать «Портрет пятнадцатилетнего философа». И отослала это эссе графу, приложив просьбу указать на ошибки и присовокупить иные замечания. Граф Гилленборг труд прочел трижды – он к этому сочинению отнесся крайне серьезно. В восхищении возвратил труд автору, приложив двенадцать страниц замечаний с комментариями, коими хотел возвысить и укрепить дух невесты великого князя.
Передавая замечания, Гилленборг произнес:
– Вы можете разбиться о встречные камни, если только душа ваша не закалится настолько, чтобы противостоять опасностям.
Судя по событиям последующих лет, будущая Екатерина совет этот запомнила на всю жизнь…
Одинокая во дворце, Фике была счастлива, что нашелся такой добрый учитель. Она раз за разом читала и перечитывала его рекомендации, проникалась ими… Следуя советам графа и подсказкам Бецкого, все глубже окуналась в мир серьезной философской литературы, мир исторических исследований. Ей всего шестнадцать, но ее разум ничуть не уступает разуму мужчин вдвое старше, а по изворотливости значительно их превосходит. Но, увы, девушке всего шестнадцать, и она по-прежнему мечтает удивить свет своей культурой и благородством.
Она ни на секунду не подумала отказываться от слова, данного при обручении, хотя новоиспеченный муж, переболев оспой, стал вызывать откровенное отвращение. Ведь вышла замуж она не за человека с изрытым лицом, а за того, кто страною владеть будет. Не зря же тогда в ее дневниках появились записи подобного рода: «Принципом моим стало нравиться людям, с которыми мне предстояло жить. Я усваиваю их манеру поступать и вести себя, я хочу быть русской, чтобы русские меня полюбили».
Однако, как бы ни старалась Фике нравиться тем, кто жил бок о бок с ней, отношение к Ангальтской принцессе было зеркалом отношения Елизаветы: стоило ей высказать недовольство, как двор поворачивался спиной к девушке, а стоило императрице мило побеседовать с будущей великой княгиней, как у Фике появлялись десятки верных закадычных друзей. Ума Софье было не занимать, она с легкостью читала все эти движения и даже находила в себе силы улыбаться прозрачности их помыслов.
А в дневнике в те дни появилась еще одна запись: «Я стараюсь не показывать никакого сближения с кем-либо, стараюсь ни во что не вмешиваться. Стараюсь иметь ясное лицо и доброжелательный взгляд, быть всегда предупредительной и внимательной ко всем, со всеми равно вежливой… Мечта моя – делать все, чтобы завоевать любовь народа».
Следуя советам Гилленборга, в чем-то пытаясь противопоставить себя пустым дамам с их временами препустейшей болтовней, юная принцесса училась. Она читала взахлеб, причем отдавала предпочтение сочинениям, которые могли бы вызвать ужас у многих мужчин и несомненное уважение у люда ученого: историков, философов, естествоиспытателей. Платон и Монтескье, Цицерон и Бейль… Тацит, «Записки» Брантома и Вольтер, «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера, «История Генриха IV» Перефикса и «Церковная история» Барония, «История Германии» отца Бара… Не самое легкое чтение, менее всего подходящее юной девушке. Однако труды эти ею были не просто осилены – она перечитала их несколько раз. И через много лет вновь возвращалась к ним, чтобы несколько «привести мысли в порядок», как записала уже в поздних дневниках.
Однако, думается, сейчас пришла пора заглянуть в эти записки. Сделанные не для публики, а исключительно для себя, они куда больше скажут нам, чем сотни описаний. Сама великая княгиня описала свой характер и свои намерения куда отчетливее, чем сотни историков и жизнеписателей, заработавших немалое состояние на славословиях в адрес Екатерины. Стоит привести кое-какие отрывки…
«Когда на своей стороне имеешь истину и разум, тогда это следует высказывать перед народом, объявляя ему, что такая-то причина привела меня к тому-то; разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он победит в глазах большинства».
«Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты; вот начало, от которого я отправляюсь».
«Свобода – душа всего на свете, без тебя все мертво. Хочу повиновения законам; не хочу рабов; хочу общей цели – сделать счастливыми, но вовсе не своенравия, не чудачества, не жестокости, которые несовместимы с нею».
«Власть без доверия народа ничего не значит. Легко достигнуть любви и славы тому, кто этого желает: примите в основу ваших действий, ваших постановлений благо народа и справедливость, никогда не разлучные. У вас нет и не должно быть других видов. Если душа ваша благородна, вот ее цель».
«Хотите ли вы уважения общества? Приобретите доверие общества, основывая весь образ ваших действий на правде и общественном благе».
Эти слова принадлежат молодой и привлекательной женщине, а не умудренному старцу. Как же, должно быть, ей было больно, когда она видела, что ее усилия имеют обратное действие, а ее мечты разбиваются о лень и равнодушие сподвижников. Вернее, тех, кого она числила своими сподвижниками. Быть может, здесь мы и найдем ответ на вопрос, кого же искала красивая молодая женщина, какого мужчину хотела видеть рядом.
Мы возвращаемся к великой княгине Екатерине, напоследок решившись еще на одну цитату. Со времен бала и беседы на балу с Гилленборгом прошло два десятка лет. В одном из писем того времени Екатерина писала графу: «Я считаю себя очень и очень обязанной вам, и если имею некоторые успехи, то в них вы участвуете, так как вы развили во мне желание достигнуть до совершения великих дел».
Сильная и красивая, она помнит своих учителей, в ее душе велика благодарность. И у нее достало сил, чтобы эту благодарность выразить вслух.
Из «Собственноручных записок императрицы Екатерины II»
Немного времени спустя приехал еще граф Гюлленборг, чтобы объявить императрице о свадьбе Шведского наследного принца, брата матери, с принцессой Прусской. Мы знали этого графа Гюлленборга; мы видели его в Гамбурге, куда он приезжал со многими другими шведами во время отъезда наследного принца в Швецию. Это был человек очень умный, уже немолодой, и которого мать моя очень ценила; я же была ему некоторым образом обязана, потому что в Гамбурге, видя, что мать мало или вовсе не обращает на меня внимания, он ей сказал, что она не права и что я, конечно, ребенок гораздо старше своих лет.
Прибыв в Петербург, он пришел к нам и сказал, как и в Гамбурге, что у меня философский склад ума. Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендовал мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье.
Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала ему, что набросаю ему свой портрет так, как себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я изложила на письме свой портрет, который озаглавила: «Портрет философа в пятнадцать лет», и отдала ему. Много лет спустя, и именно в 1758 году, я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, во время несчастной истории графа Бестужева, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф Гюлленборг возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала несколько раз его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе обещала, не помню случая, чтобы это не исполнила. Потом я возвратила графу Гюлленборгу его сочинение, как он меня об этом просил, и, признаюсь, оно очень послужило к образованию и укреплению склада моего ума и моей души.
С тех пор как я была замужем, я только и делала, что читала; первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием «Tiran le blanc», и целый год я читала одни романы; но, когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма г-жи де Севинье: это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера; после этого чтения я искала книг с большим разбором.
В течение этого лета, за неимением лучшего и потому, что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде; остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку.
В десять часов, а иногда и позже, я возвращалась и одевалась к обеду; после обеда отдыхала, а вечером или у великого князя была музыка, или мы катались верхом. Приблизительно через неделю такой жизни я почувствовала сильный жар и голова была тяжелая; я поняла, что мне нужен отдых и диета. В течение суток я ничего не ела, пила только холодную воду и спала две ночи столько, сколько могла, после чего стала вести тот же образ жизни и чувствовала себя очень хорошо. Помню, что я читала тогда «Записки» Брантома, которые меня очень забавляли…
Я переехала из Летнего дворца в зимнее помещение с твердым намерением не выходить из комнаты до тех пор, пока не буду чувствовать себя в силах победить свою ипохондрию. Я читала тогда «Историю Германии» и «Всеобщую историю» Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать, между прочим два огромных тома Барониуса, в русском переводе; потом я напала на «Дух законов» Монтескье, после чего прочла «Анналы» Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время. Я стала видеть многие вещи в черном свете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах.