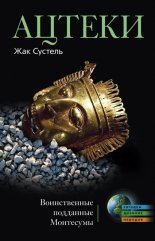Елизавета. В сети интриг Романова Мария
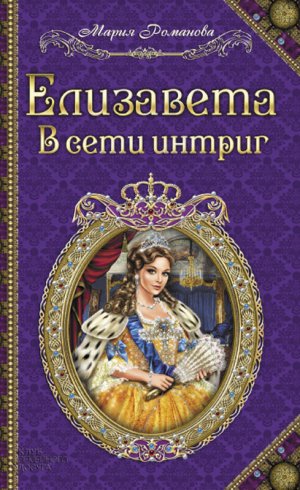
– Дома? Да где ж он теперь, дом-то наш?
Антон одним движением опрокинул вино.
– Это все она, гадина, – опять завелась Анна. – Ежели б знала я, до чего она додумается, на какие подлости способна станет, то упекла бы…
– Прекрати, дурища… Тебе только ленивый не повторял по сто раз на дню, чтобы опасалась ты тетушки-то своей. Даже Юлечка, любимица-то твоя подколодная, и та не раз просила тебя поосторожнее быть с Елизаветою Петровною.
– Я же беседовала с ней… Она ж мне сама в верности клалась, плакала даже…
– Да что те бабьи слезы, – махнул в сердцах Антон Ульрих. – Вода одна. Ты им поверила, и потому мы теперь изгнанниками ждем ее, императрицыного рескрипта да позволения…
Анна открыла рот, чтобы что-то сказать, но осеклась – уж очень страшен был сейчас Антон Ульрих, очень на себя не похож. Да и что теперь говорить-то было – до Риги день пути, в Санкт-Петербург не вернуться уже никогда. С детьми оставили, с мужем, и довольно. Путь так и будет – не увидит тетушка ее, Анниных, слез! Пусть и не надеется! А детушки еще узнают всю подноготную о царице Елизавете, что у них все украла, всего лишила. Уж они-то будут знать наверняка, какова на самом-то деле доброта и мягкосердечность царская!
На Соловки!
– Антон, что же это такое, отчего нас уже третьи сутки везут почти без остановок? И что это за дороги такие?
Принц Брауншвейгский Антон Ульрих безучастно смотрел в окно. Распутица, в этой стране всегда распутица и грязь непролазная. Он-то еще до отъезда из Рижской крепости знал, что никакой Европы никому из них более никогда не видать. Да и забыли, поди, в Европах о сверженном семействе тотчас же… Следует учиться жить изгнанником, ибо счастье уже в том, чтобы жить.
– Антон, да ответь мне, что происходит?!
– Пров сказывал, что Корф привез из столицы новое распоряжение – мы будем жить в Соловецком монастыре.
Анна ахнула – даже до заоблачных дворцовых высот доходили слухи о Соловках. Страшные слухи…
– За что нас так? Да как она…
– Анна, господи, успокойся. Уж второй год ты все причитаешь да приговариваешь… Что «она»– то? Елизавета? Анну Иоанновну, дурищу, во всем вини!
– Как ты можешь, о покойной…
– Да нам-то что с того, что упокоилась твоя тетушка давным-давно? Жизнь и твою и мою она испортила, причем, душенька, испортила, как только меня в Россию пригласили в женихи наниматься.
– «Наниматься»? Да как твой язык поганый поворачивается? Вот ежели б я тебе тогда отставку-то дала, то-то ты бы радовался!
– Что ж толку сейчас обо всем этом говорить? – Антон Ульрих плотнее завернулся в шубу, не столько оттого, что мерз, сколько оттого, что сырость пробирала до костей, хотя еще и лед на реках не стал. – Что толку бурю в стакане воды затевать? Жизнь сложилась так, как Господу нашему угодно было. На трон села настоящая наследница… Да не кричи ты попусту – настоящая, единственная дочь Петра Великого! Тетушка-то твоя, Анна, только потому царицею стала, чтобы ее, Елизавету Петровну, к трону-то не подпускать? А толку? Все одно ж теперь она царствует, а все семейство, что от Анны Иоанновны осталось, теперь или на погосте, или вскоре туда отправится.
– Ах она ж гадина…
– Ну снова ты за свое. Елизавета просто восстановила правильный порядок вещей. И обижаться теперь, виновных искать так же неразумно, как пытаться руками солнышко притянуть аль босиком в Европу сбежать.
Усталую тираду Антона Ульриха прервал детский плач – маленькая Екатерина, родившаяся уже в изгнании, похоже, замерзла и требовала внимания и ласки.
– Как бы не застудилась малышка-то… – пробормотал он.
– И то… Может, попросишь, чтобы остановились ненадолго?
– Посредь чиста поля? Уж лучше до постоялого двора подождать. Возьми вот шубу мою, укутай детку поплотнее.
Антон Ульрих снял шубу и укутал ею дочь так, чтобы и жене на плечи легла меховая полость. Маленькая Катюша, угревшись, снова уснула, прикорнула с малышкой на руках и Анна.
Серые сумерки грозили вот-вот превратиться в серую ночь, когда, наконец, поезд с изгнанниками загрохотал по камням дороги. Здесь, на севере, многие деревни, да и города могли похвастать тем, что имеют мостовые не хуже столичных, и заведенные, к тому же, пораньше оных.
Наконец лошади встали. Очнулась Анна.
– Приехали? Где мы, Антон?
– Приехали куда-то… – тот выглянул в окно. – Городок… Дома каменные да срубы. Чистота. Городок в Швабии напоминает чем-то. Если б не просторы вокруг… Да степь…
– То не степь, Антоша, то тундра… – в окошко заглянул Пров. – Мы прибыли, вашество. Какое-то время пробудем здесь, в Холмогорах. А как путь на острова получше станет, так через волны и направимся…
– Так что, можно выходить?
– И можно, и должно. Ваш домик ужо ждет – и натоплено там, и еды вдосталь, и прислуга найдена.
На крыльце показалась высокая статная женщина. Присмотрелась, отвесила поклон, но не поясной, а просто уважительный.
– Милости просим, хозяева дорогие. Входите…
Дверь осталась открытой, словно повторяя сдержанное приглашение.
Антон Ульрих осторожно вышел из кибитки, помог выйти Анне, которая все так же куталась в шубу и прижимала дочь к груди.
Уже на пороге Анна оглянулась на вторую кибитку, откуда с трудом выбирался единственный оставленный им слуга.
– А где Иван? Где Ванечка?
– Принц Брауншвейг с моими людьми нашел приют в другом месте, – за спиной у Анны раздался сухой ответ незнакомого военного.
Антон едва успел подхватить дочь – руки Анны опустились, в глазах потемнело.
– Она отняла у меня сына, – прошептала бывшая владычица. – Она отняла у меня сына…
Маленькая Екатерина расплакалась. Студеный ветер леденил кожу и взрослым и малышам.
– Но у нас осталась жизнь и Катюша… Бог даст, будут еще дети.
– Но Ванечка… Как же я без него? Мой маленький Ванечка…
Только сейчас, впервые с той ноябрьской ночи, Анна заплакала о сыне. И только сейчас дрогнуло сердце Антона Ульриха – такая, обессилевшая, заплаканная, она показалась ему милее всех женщин на свете. Слезы ее не портили, а возвысили. И только сейчас Антон Ульрих впервые понял, что любит эту женщину.
Узник номер один
– Брауншвейгов разместили в архиерейском доме. Недостатка они не испытывают, прогулки им дозволены, слуги тож. Обустраиваются, не буянят, смирились, думается мне.
Корф прошел из одного угла избы в другой.
– А что мальчик?
Собеседник пожал плечами.
– Мальчик как мальчик… Играет деревянной сабелькой, капризничает, когда невкусно, рассматривает Библию… Любопытный растет, ему все интересно – обо всем у надзирателя спрашивает, а тот все твердит «Не положено знать…» да «Не положено знать…»
– Любопытный… Это хорошо. Найди ему учителя местного, да не из болтливых. Пусть занимается с ним каждый день, да и по воскресеньям тоже. Надзирателей смени – найдутся, поди, офицерики-то разжалованные, которые знают побольше таких вот солдафонов. Пусть они тоже с мальчишкой занимаются. Грех душу живую-то заключением мучить. Пусть ума набирается, хоть книжную премудрость одолеет.
– Так ведь дозволение-то спросить надобно, узник номер один все же.
– Испросим, как же не испросить. Только ожидание может надолго затянуться. А нам важно, чтобы малыш душевной хворью-то не заразился, чтоб как все детишки рос.
Собеседник кивнул – его тоже немного беспокоило, что мальчика от родителей отделили да в глухом пятистенке поселили. Но идти противу установлений тоже невместно… Но живой же человек – не по-людски с ним, как с сундуком-то, обращаться.
– Родители знают, где сын?
– Никак нет-с, не ведают. Мать убивалась очень по первости. Потом вроде попривыкла, к дочери нежнее стала, с мужем тоже мягче. Сказывают, опять она в тягости, может, душу рождение младенца успокоит.
– Но вот и хорошо…
Корф вновь прошелся из угла в угол.
– Значит, ты завтра же находишь принцу учителей. Не тяни с этим, а я прошение составлю, вестовым в столицу передам. А теперь вели, чтобы меня к узнику проводили…
– Да я сам проведу, что ж тут велеть-то? Мальчишку в соседней избе поселили, тут и идти десяток шагов если будет, то уж много.
– Ну тогда пойдем.
Собеседники вышли в выстуженные сени. Корф надел шубу, повел плечами, чтобы села поудобнее – с войны осталась привычка обмундирование так надевать, чтобы в бою не мешало.
– Морозы какие!
– Февраль лютует, батюшка…
– Да, вот еще что… Как малыш научится писать, родителям весточку от него передай. Хоть картинку…
– Сделаем, ваше превосходительство.
– Ну вот и славно. Пошли уж…
Аз есмь царь
– Ох, Ванюшка, совсем ты меня, старика, утомил.
– Старика? – Мальчишка усмехнулся совсем по-взрослому. – Думается мне, поручик, что вы еще и четвертый десяток не разменяли. Да и не разменяете еще лет пять…
Унтер-офицер Вяземский, разжалованный из поручиков Преображенского полка в солдаты, а затем кровью вернувший себе звание в сражениях с войсками Надир-шаха, кивнул.
– Так и есть, Ванечка, двадцать шесть мне.
– Так какой же вы старик? – Мальчик утер пот и тоже присел на бревнышко рядом с наставником.
– Ну-у, по сравнению с тобой я уж точно старик. Вон, даже седина пробивается.
Иван усмехнулся совсем по-взрослому.
– Старик – это отец Феофан… Вот у кого седины– то аки вод в океане.
– Да, отец Феофан немолод, это верно. Он и учитель, поди, замечательный?
– Это воистину так, – Вяземскому до сих было непросто привыкать к речи маленького Ивана – уж очень книжной и солидной она была. Но откуда же взяться детским словечкам, ежели растет он в окружении надсмотрщиков, да вот их с отцом Феофаном – учителей и наставников. – Его уроки суть наслаждение для ума и души.
– А мои уроки?
– А ваши, поручик, отрада для тела и разума.
– Ты мне льстишь, малыш.
– О нет, ни в малейшей степени. После наших уроков я чувствую, как становятся сильнее руки и ноги, как свежесть омывает разум, утомленный чтением или письмом. А после наших бесед о мире вокруг я понимаю, сколь мало знаю, сколь много может дать книга, но сколь важно увидеть мир своими глазами.
«А вот до этого, малыш, тебе не дорасти никогда. Хорошо бы, чтобы ты об этих своих чаяниях и говорил-то поменьше. Не всем, а лучше бы вообще никому…»
– Однако, – между тем продолжал Иван, – думается мне, что увидеть мир своими глазами мне не суждено. Вряд ли мне позволено будет увидеть даже Холмогоры, которые лежат прямо за забором. Ведь я царь, ссыльный, опальный. Меня держат под замком и никогда не выпустят на волю.
«Ох, вот как тут не поверить в провидцев да ясновидцев? Кто проболтался?»
– Откуда ты знаешь, Ванечка?
– Третьего дня слышал разговор за воротами…
«Ох, наплачутся они у меня, ох нашагаются, ох, землицы-то поедят, болтуны…»
– Не обвиняйте своих солдат, поручик. То две какие-то женщины разговаривали. Солдаты молчат. Однако же все это ни к чему – я давным-давно знаю, что рожден царем, что царство мое – Русь бескрайняя. Знаю, что правит сейчас узурпатор кровавый, но придет и мой черед, когда узурпатора я смещу от того дня до самой своей смерти буду править мудро и справедливо, как то дедами нашими заведено было.
Вяземский поежился – он ни в привидения, ни в черта, ни в бестелесные голоса не верил. Особенно после встречи с войсками Надира, кои и сами выглядят похлеще та пострашней любого черта. Однако сейчас ему стало так неуютно, словно за спиной спряталось не одно, а целая ватага привидений – да привидения сии маленькому Ванечке прекрасно видны.
«Узурпатор кровавый… Ну, так можно о ком угодно сказать, особенно ежели запомнил он разговор матери с отцом. Пусть прошел не один год, однако же, говорят, детская память – штука страшная…»
– Мудро и справедливо, Ванюша?
– Мудро и справедливо, – кивнул мальчик. – Я так и матушке с отцом написал, пусть и ответа от них не дождусь.
– Что написал?
– Что аз есмь царь, что править буду непременно, что они смогут гордиться мною, пусть и не узнают сначала… Написал, что жизни самой не пожалею, но на трон взойду да узурпатора уничтожу.
Свести с ума, чтобы спасти
– До устья Двины ста двенадцать верст! Вокруг десяток островов, больше сотни домов, приют, собор, церковь, лавки… И неужели не нашлось ни одного мальчишки семи или восьми лет?
– Ты забыл еще о том, что улицы в городке длинные, извилистые, на версту добрую тянутся, а то и на две версты! Да только народ детишек своих любит, за ними присматривает да охальничать пришлым не позволяет. Хоть и россияне, но не безумцы же, не тати какие…
Корф немного остыл – что-то в словах собеседника натолкнуло его на новую мысль, но она пока не оформилась.
– Ну пусть будет так, – камергер Корф опустился на скамью. – Так, говоришь, растет смышленым да сильным?
– Я бы сказал, барон, пугающе смышленым. Он прекрасно осведомлен, кто он такой, хотя никто, я сам проверил это трижды, никто из охраны ни разу не сказал ему ни слова. Книги читает быстро, пишет отменно грамотно, отец Феофан на него нахвалиться не может. Поручик Вяземский, что занимается с мальчиком гимнастикой и бегом, не раз говаривал, что несколько боится своего ученика. Не из-за сил или умений – поручик войну прошел, а именно этого самого всеведения боится. Если к мальчику обращаешься «Григорий», как велено, он смеется в лицо и говорит, что он царь Иоанн и не след его называть чужим именем. Хотя, это тоже его слова, родится еще на свет Григорий, который для России сделает немало хорошего да еще более дурного. Хотя это и не он.
– Однако же…
– Да-да, барон. Нельзя сказать, что мы балуем нашего узника. Однако же служба здесь людей моих на два лагеря поделила: одни считают мальчика провидцем, царем и пойдут за ним в огонь и в воду. А другие, напротив, утверждают, что он душевно болен, что болезнь сия неизлечима и место ему в приюте…
Собеседник заканчивал свою речь, но камергер Корф уже знал, на что его натолкнул этот рассказ.
– Ты говорил, что здесь, в Холмогорах, есть приют…
– Есть, и приют есть, и странноприимный дом.
– И для кого приют? Чьим попечительством живет?
– Сирые да убогие на излечении, душевнобольные тоже есть. Опекается им губернатор Архангельский, щедро заботится, чтобы бедняги ни в чем отказу не знали. Сказывают, в год пересылает для нужды приюта цельных тыщу рублев ассигнациями…
– Ох, и щедро… Должно быть, богат губернатор-то Архангелогородский?
– Да уж не беден. Особливо теперь стал, когда на содержание Брауншвейгов казна ему пятнадцать тысяч рублей да золотом, а не ассигнациями платит.
– Ну, об сем мы подумаем позже. А сейчас скажи-ка мне, братец, в приюте сем только взрослые содержатся? Или дети тоже есть?
– Есть, барон, как не быть. И девочки и мальчишки…
Говоривший осекся. Он преотлично понял, что хотел ему сказать камергер.
– Ну, а раз есть приют и болезные, то не след ли нам посетить это место? Чтобы убедиться, что нашим-то узникам от этих людишек больных угрозы нет?
– Это крайне необходимо сделать – таков уж порядок службы. Но как же принц?
– Принц? – Корф недоуменно поднял бровь. – А что с ним?
– Он же…
– Ты же сам только вчера рассказывал, что стал он жаловаться на головокружения, что сны ему страшные приходят. Что по ночам встает он и на луну страшно воет. А проснувшись, на солдат охраны кричит, сетует, что они ему по ночам ноги грязью мажут…
– Бывало такое, – собеседник кивнул, стараясь не сводить все же взгляда с лица камергера и барона. – Но все же…
– Таким образом, мы приют должны освидетельствовать, дабы от болезных угрозы узникам нашим не было, а заодно уж и доктора оттуда позовем, чтобы облегчил он страдания маленького Григория.
– Не Гри… О да, конечно, маленького Григория…
– Ну вот и замечательно! Завтра поутру и отправимся – не след мешкать. Григорию растущему помощь нужна, а нам след убедиться в безопасности.
«Там, где мох, там север»
– Я впервые за долгие годы покидаю свой приют. Зачем, поручик?
Вяземский, который к этому времени не только вернул себе звание поручика, но даже, перепрыгнув через несколько ступеней, стал ротмистром, пожал плечами. Не объяснять же мальчишке, какую многоходовую комбинацию придумал и сколько чудес свершил камергер барон Корф, прежде чем удалось просто задуматься о спасении узников Архангельской губернии.
– Пора уже, Ваня, перейти от теории к практическим занятиям. Ведь отец Феофан наверняка тебе давал уроки географии, рассказывал, как ориентироваться на местности, где нет дорог, как выйти к людскому жилью в поле иль в лесу…
– Рассказывал, конечно. Однако, думал я всегда, для меня это лишь книжные ненужные знания. Географию своего узилища я знаю преотлично.
– Ну что ж, и знаешь, как оно расположено относительно сторон света? И какие дороги к нему ведут? И как от твоего мирка до… ну хоть Двины добраться?
– Зачем? Я же узник…
– Друг мой, ни одно заточение не длится вечно! Пока человек жив, в нем живет надежда на обретение свободы. Не знаю, когда этот произойдет для тебя, но я, как твой наставник, просто обязан подготовить тебя к жизни.
– К жизни?
– Конечно, Ваня. Ведь ты же уже вполне уверенно управляешься с оружием, свободно владеешь языками. Не далее как вчера мы с тобой целый день упражнялись в картографии. Теперь пришел черед выйти за стены и посмотреть, каким бывает мир для человека, обреченного не с правителями, а с самой природой сражаться за свое существование…
Глаза мальчика горели. Ротмистр с удовольствием следил за тем, как его ученик, заметно вытянувшийся за эти годы, поправил панталер так, чтобы он не мешал в движении, пусть к нему и не крепилось оружие, вывернул чуть вперед гусарскую ташку, чуть повел плечами под мундиром без знаков отличия, чтобы тот сел поудобнее.
«Ого, а Иван-то учится у всех, даже не замечая этого. Вон и у Корфа чему-то выучился, хотя и видел его, поди, всего десяток раз…»
Для узника четырех стен двигался Иван удивительно хорошо, спокойно, несуетливо – Вяземский в который уже раз мысленно порадовался, что не щадил своего ученика, гонял до седьмого пота. Вот они, плоды тех усилий – мальчишка ведет себя, как его сверстники, не думает, куда и как ступить, чего беречься. Не ведет себя как дикий зверь, всю жизнь проведший в клетке и лишь теперь благостию хозяина выпущенный на волю.
Длинная улица, замощенная бревнами, обрывалась у городской заставы. Дальше лежало огромное пространство, у самого горизонта сливающееся с черным по весне лесом. Земля под сапогами чуть подавалась – близость болот да пришедшее весеннее тепло давали о себе знать.
– Мы сегодня попадем туда? – Глаза Ивана горели совершенно мальчишеским восторгом, хотя он изо всех сил хотел казаться сосредоточенным и по-взрослому серьезным.
– Ну-у, думаю, друг мой, не сегодня все же. Далековато для первой экспедиции – версты три, а то и все четыре. Нам бы для начала с картой освоиться, да с компасом, определить, какой откуда ветер дует, да хорошо ли мы подготовлены, может быть, надо будет снаряжение-то перед далеким путешествием сменить.
– Ладно. – Иван кивнул. В словах наставника он видел смысл, хотя далекий черный лес на горизонте манил и звал так, как иных мечтателей зовут бескрайние моря или высокие горы.
– А теперь вынимай карту и определи направление дороги, по которой мы вышли.
– А потом?
– А потом попробуем понять, как далеко на самом деле тот лес и где же он находится?
– На севере?
Вяземский расхохотался.
– Не жди подсказок, мы в походе, каждая примета впору будет.
– Но где же все-таки север?
– Там, где мох на деревьях, дружок!
Ловлю на слове, брат
Опустошенные оловянные стопки дружно опустились на деревянный стол – давно не чищенный, изрядно закопченный и заставленный немытой глиняной посудой.
– Да, братец, сколько лет прошло, а ить помнится, как сейчас. Вот я выхожу на поляну… Медку, вишь ты, дураку захотелось…
– А вот навстречу иду я… Смотрю – кто ж это так ломится сквозь чащобу-бурелом, как ни один зверь не ломится. А то человек, казак, только весь в лохмотьях…
– А каким я должен был быть после трех почти месяцев скитаний – до самого Яика вознамерился дойти, наглец. Спасибо, шел по лесам – лихие люди так и не проведали, что денег несу немеряно, ибо войско ж не токмо идеей собирать надобно, но и звонкой монетой держать.
– Лихие люди не проведали, а мишка косолапый сразу почуял.
– То он не денежки почуял, а меня, давным-давно немытого. Вот говорила же Крыся, добрая душа, – путешествуй с купцами, будешь и сыт, и умыт, и в безопасности спать. Так ить нет же, решил, что дорого выйдет купцом прикидываться.
– Что болтаешь, наливай! – высокий собеседник ухмыльнулся. От своего собутыльника он отличался чуть более плавными движениями да армяком поновее. – Ну потерял бы немного денег, зато бы спокойно спал…
– Но тогда бы я не только мишку, но и тебя бы, брат, не встретил…
– Да, это верно – и я бы не полез вызволять тебя из медвежьих объятий с одним токмо ножиком. И не получился бы шрам через полспины…
– Да и я бы тогда не получил шрама через все правое плечо… Ежели б вообще жив остался…
Уровень мутноватой жидкости в темно-зеленой четверти заметно упал. Село солнце, последние половые из трактира на окраине уже убрались домой – и только эти двое все разговаривали да разговаривали, вспоминали да вспоминали.
Стороннему наблюдателю, вне всякого сомнения, интересно было бы послушать о злоключениях побратимов. Так он узнал бы, что юноши казаками принимали участие в Семилетней войне, что воевали с турками и один за другим получили чин хорунжего. Потом был Дон, потом Кубань, где осели терские казаки, потом станица казаков-некрасовцев, потом вновь они оба оказались в Польше, какое-то время им у себя дали приют старообрядцы, крошечная община которых под Черниговым перестала существовать уже на следующее лето после ухода этих странных, ни на кого не похожих мужиков.
– И до сих я, брат, не понимаю, чем ты их всех берешь, отчего тебя не токмо бабы безголовые слушают, раскрывши рот, но и мужики важные да степенные.
– Беру? Правдой я их беру, братец ты мой Емелюшка! Стоит мне сказать лишь, что зовут меня Иоанном Антоновичем, что рожден я принцем Брауншвейгским, как народишко ко мне лицом поворачивается, слушает меня, ибо правды сыскать желает.
– Да где ж ее, правды-то, сыскать, ежели нет ее нигде, ни здесь, в забытом тракте, ни в самих столицах…
– Ну откуда в столицах правде-то быть, ежели на троне узурпатор сидит да трон свой ретиво охраняет?
– А вот ежели б смог ты собрать армию да пойти-то на узурпатора войной, чтобы вернуть себе престол, подлым узурпатором отобранный?
– Ежели б я нашел всего сотню смельчаков, то еже завтра бы в путь двинулся. Токмо нужны мне люди лихие, до самой грани дойти готовые. За правду-то бороться до последней капли крови след!
– Сотню смельчаков, говоришь? – Емельян подпер буйную растрепанную голову и с тоской посмотрел на опустевшую четверть. – Всего сотню?
– А с двумя сотнями я б столицу за день занял, мне бы царицы-императрицы уже к утру ноги бы мыли да воду бы ту пили…
– Может, и найдем сотню, Ванятко. Таких смельчаков, как ты ищешь, – их немного, но уж сотня-то найдется. И первый из них пред тобой, брат.
– Ох, Емелька, да о тебе-то я первом подумал – ты-то не подведешь, знаю.
– Да я ж за тебя и в огонь, и в воду, и на плаху!..
– Ловлю на слове, брат!
Эпилог. Тайну сердца храни, дитя
Софья, горничная, еще раз коснулась плеча Екатерины Алексеевны, великой княгини.
– Матушка Катерина Алексеевна, проснитесь, Христом Богом прошу…
Та наконец повернула голову.
– Что случилось, Софья?
«Ох, какое же счастье, все-таки, что великая княгиня умна да спокойна… А ить другая за столь невместное поведение уж запорола бы до смерти… Вот ведь счастье у ней служить, вот ведь радость…»
Что бы ни проносилось в голове Софьи, но медлить все равно не следовало.
– Дурные вести, матушка, страшные. От императрицы за тобою прислали, велят сей же секунд…
– Ох ты беда…
Да, это была беда. Императрица Елизавета, увы, не становилась моложе. И здоровье ее временами вызывало серьезное беспокойство у докторов, что пользовали императрицу – приступы головокружения, дни, когда они ничего не помнила, едва могла устоять на ногах, становились все чаще.
Как-то Екатерина услышала слова лейб-медика, сменившего на сем нелегком посту старика Лестока, удаленного всесильным Бестужевым в далекий холодный Углич. Собеседником был ее, Екатерины, многолетний друг и усердный лекарь:
– А чего же вы хотели, коллега? Годы, неумеренность крайняя, странствия эти в Лавру, а потом невоздержанность, отмоленная наперед… Не молодица, чай. Вести себя, аки пятнадцатилетняя дворовая девка, уж только во вред, а матушке меру знать надобно.
Сейчас, торопясь в сторону покоев императрицы, Екатерина склонна была простить той любую невоздержанность – лишь бы Елизавета Петровна как можно скорее выздоровела. Уж великая-то княгиня отлично представляла, что случится, если императрица покинет сей мир. Представляла, похоже, много лучше кого бы то ни было.
Да, порой Елизавета вела себя с ней, как со злейшим врагом, порой ласкала ее, как любимую дочь. Но всегда при этом оставалась для Екатерины примером для подражания, ибо она была императрицей, властительницей великой страны. Однако оставалась при этом женщиной – заботливой и ранимой, взбалмошной и властной, всякой… Хотя всего этого, конечно, мало, чтобы объяснить беспокойство, которое сейчас буквально разрывало душу Екатерины.
Вот она миновала последний поворот – и только тут поняла, что за эти долгие годы привязалась к императрице, как можно привязаться если не к матери, то к тетушке или старшей сестре, одним словом, близкой родственнице. Причем близкой не столько по крови, сколько по духу. Она приняла Елизавету Петровну в свою душу – и теперь именно о здоровье этой любимой близкой родственницы столь сильно тревожилась.
Лакеи предупредительно распахнули дверь – ее появления ждал и ждал достаточно нетерпеливо Алексей Разумовский, любимый муж императрицы.
– Ну вот и ты, дитятко, – он распахнул объятия. – Мужайся, доню, плоха Лизанька, ох, плоха. Оттого и желает видеть тебя, повелела не только с постели поднять, а даже из объятий аманта вытаскивать…
– Полно, граф, я понимаю. Опять головокружения?
Разумовский кивнул.
– На ногах матушка не стоит совсем, в голове все перемешалась, временами в беспамятство впадает. Кровопускание уж третье делают со вчерашнего утра. Однако не помогает… Ты войди, она уже сколько раз спрашивала о тебе…
Екатерина вошла, стараясь ступать потише.
– Ну наконец, – проворчала Елизавета. – Где гулять изволила, княгинюшка? Из чьих объятий я тебя вынула?
– Ох, матушка императрица… – Екатерина только головой покачала.
Да, как бы тяжко ни хворала Елизавета, но дух ее был более чем бодр. «И этому ты тоже меня научила, добрая моя императрица» – такое, конечно, вслух Екатерина произнести не могла.
– Не жалей, дитя, не жалей меня. Это мне надобно жалеть вас, добрые мои детушки. И тебя особенно, голубицу. Хотя не всегда ты мне и мила была. Но теперь-то уж глупо счеты сводить, мелочами мериться.
– Добрая моя матушка, – великая княгиня опустилась на колени перед ложем императрицы.