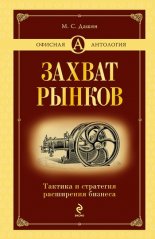Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе Нартов Ким
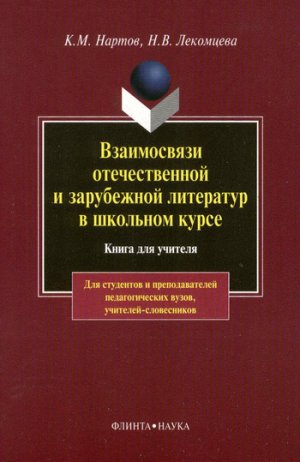
На примере этого рассказа Сартра с его эмоциональным антивоенным пафосом, можно подробно рассмотреть с учащимися основные положения эстетики экзистенциализма. В художественной ткани рассказа автором реализуются основные постулаты экзистенциального мировидения: «объективность» изображения материала достигается соотнесением информации, пропущенной через сознание нескольких персонажей («поток сознания» каждого из героев); превалирует мотив тотального одиночества человека в мире; используется прием «депоэтизации» в описании окружающего (например, откровенно натуралистические картины психофизиологического состояния человека).
Герои Сартра из рассказа «Стена» задаются вопросом, интересующим каждого смертного на Земле: «неужели мы исчезнем бесследно?» Этот непростой вопрос и ряд других, поставленных Сартром в рассказе, могут стать предметом обсуждения в классе. В качестве материала для работы над текстом и философскими аспектами литературы экзистенциального направления старшеклассникам можно предложить ряд цитат из текста рассказа: «Они хватают каждого, кто думает не так, как они»; «Мы стали похожи друг на друга, как близнецы»; «Я почувствовал, что стал бесчеловечным»; «На злодея он похож все-таки не был» (о враче); «Но рядом с Хуаном и Томом я чувствовал себя одиноким».
Теме активного противостояния фашизму – коричневой чуме XX века – посвящены произведения Альбера Камю (1913–1960): роман «Чума» (1947) и пьеса «Осадное положение» (1948)[199]. Избрав для романного повествования стиль хроники (жанра, требующего выполнения определенных условий – жесткой фактографичности, скупости описаний, контурообразной очерченности явлений и т. д.), автор способствовал созданию у читателя ощущения достоверности изложенных фактов. События, описанные в романе, происходят в городе Оран на алжирском побережье. Проставленная на страницах рукописи дата — 194… – недвусмысленно подчеркивает, что речь идет о событиях середины XX столетия. Жанр хроники позволяет сосредоточить внимание читателя на широком диапазоне событий и привлечь внимание к судьбам отдельных людей лишь в той мере, в какой они принимали участие в этих событиях. В роли беспристрастного летописца («историка растерзанных и непримиримых сердец») выступает доктор Риё – организатор борьбы с чумой в Оране. Риё, беседуя со своим другом Тару, определяет собственное кредо как врача и гражданина: «когда видишь, сколько горя и беды приносит чума, надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтобы примириться с чумой». Событийная канва дневниковых записей доктора повинуется неторопливо-размеренной поступи чумы по улицам Орана.
Чума – это верно найденный автором образ-аллегория, образ-мифологема, позволивший придать хроникальному повествованию вневременной характер притчи («В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума и война, как правило, заставали людей врасплох»). Чума в книге французского писателя – «иероглиф вселенской нелепицы, одно из разительных обнаружений которой Камю усматривал в европейской военной трагедии 1940–1945 годов»[200]. Чума, по Камю, – «безликое вредоносное чудище, распыленное в незримых микробах. Оно обрушивается на людей, когда ему вздумается, и исчезает без всяких резонов. Вековечная напасть, в отличие от своего исторического прообраза, не поддается исследованию, оно убивает – вот и все, что дано знать о нем жертвам»[201]. Книга завершается предостережением, что «микроб чумы никогда не умирает, не исчезает… он терпеливо ждет своего часа.» и может в любой час вернуться на горе и в поучение людям.
Вместе с тем мифологема образа чумы гораздо глубже, нежели его изначальное понятие (олицетворение болезни, эпидемии). Чума выступает эмблемой тех глобальных бедствий, которые постоянно угрожают человечеству. По мнению героев романа Камю, друзей Риё и Тару, «зачумленный» образ человеческого существования и мышления связан с массовой гибелью людей от войн, эпидемий, массовых расстрелов, фанатизма клерикальных кругов, безответственности политических сектантов. Чума ограничивает естественные права граждан, ибо, по мысли Риё, «никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия». Только объединившись в благородно-гуманистическом порыве («Стыдно быть счастливым одному»; «Эта история касается равно всех нас») и каждодневно рискуя собственной жизнью, герои романа Камю – доктор Риё, журналист Рамбер, умудренный жизненным опытом философствующий пацифист Тару, немолодой служащий Гран, священник Панлу и др. – все вместе подключившись к работе санитарных дружин, преодолевают беду и спасают город от чумной заразы.
Примечательно, что книга со зловещим названием-символом заканчивается в оптимистической тональности. Народ празднует освобождение. Пережив вместе с соотечественниками страшные дни карантина и достаточно хорошо узнав многие физические и душевные слабости горожан, доктор Риё отнюдь не разочаровывается в людях. Наоборот, он находит, что «есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их» (пер. Н. Жарковой).
Роман «Чума», как и все творчество Камю, обнаруживает черты экзистенциального мировидения автора. Пик чумной эпидемии в городе сопровождается все большим отчуждением и разобщением людей. Обреченных на безвременную кончину перед лицом смерти охватывает настроение тотального одиночества и безучастности к другим («Чума лишила всех без исключения любви и даже дружбы»). Предощущение массовой гибели порождает абсурдность поведения горожан («пир во время чумы»). Мотив «депоэтизации» реального мира прорывается через символико-натуралистические картины последствий чумного заражения (кладбища, крематории, массовые захоронения). Но экзистенциальное мировидение Камю заметно отличается от сартровского, поскольку оно основано «на отчаянии, которое вызвано не мыслью о мерзости жизни и человека (как это видно у Сартра), а мыслью о величии личности, не способной найти связь с равнодушным (но прекрасным!) миром»[202]. Страницы романа «Чума» изобилуют философскими размышлениями. Многие из них облечены в форму афоризмов, парадоксальных высказываний, последовательной цепочки силлогизмов-опровержений. Некоторые из этих фраз в качестве заданий проблемного типа могут стать основой для развернутых ответов-рассуждений старшеклассников: «Любая радость находится под угрозой»; «Единственное оружие против чумы – это честность»; «Эта история касается равно всех нас»; «Стыдно быть счастливым одному»; «Наш мир без любви – это мертвый мир»; «Никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия».
Так или иначе в литературе XX в. антивоенная тематика художественных произведений оказывается тесно переплетена с сочинениями антифашистской и антиимпериалистической направленности, а также с литературой, взывающей к защите мира и демократии. Многие произведения антивоенной тематики охватывают события, произошедшие уже после Второй мировой войны. Лучших писателей планеты серьезно интересует внутренний мир человека, попавшего в зону локальных политико-вооруженных конфликтов во Вьетнаме, Венгрии, Чехословакии, Польше, Чили, Афганистане, Чечне (Г. Грин, Л. Мештерхази, А. Гёнц, П. Когоут, М. Кундера, Э. Базен и др.) Особый пласт представляет японская литература, свидетельствующая о последствиях атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцами («Человеческие лохмотья» Ё. Ота, «Посев дьявола» X. Агава, «Суд» Ё. Хотта, «Американский герой» М. Иида, «Комья земли» М. Иноуэ, «Чужое лицо» К. Абэ и др.).
В зависимости от авторской установки, тематического диапазона, стилистической манеры изложения материала, среди сочинений эпико-повествовательного жанра можно выделить несколько типов произведений антивоенного содержания:
Романы/повести-предостережения («Верноподданный» Г. Манна, «Железная пята» Дж. Лондона, «Война с саламандрами» К. Чапека и др.);
Романы/повести-свидетельства («Семья Опперман» Л. Фейхтвангера, «Седьмой крест» А. Зегерс, «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика, «Голый среди волков» Б. Апица, «Молчание моря» Веркора и др.);
Романы/повести-исследования (дилогия о короле Генрихе IV Г. Манна, «Марио и волшебник» Т. Манна, «Братья Лаутензак» Л. Фейхтвангера, «Прогулка мертвых девушек» А. Зегерс, «Где ты был, Адам?», «Бильярд в половине десятого» Г. Бёлля и др.).
Литература XX столетия, противостоящая милитаризму, фашизму, любым формам агрессии, отстаивает гуманистические идеалы.
3
Изучение произведений со сходным мифологическим сюжетом
(Материалы для сопоставления)
На протяжении столетий изначальный вариант мифологического повествования видоизменялся, обрастал дополнительными сюжетными линиями, пополнялся новыми участниками событий. Древнейшие сказания, в которых наблюдалась попытка объяснения окружающего мира и роли человека в нем, со временем попадают в письменную литературу, используются авторами в сюжетах произведений. В частности, история конфликта Прометея с небожителями была интерпретирована в творчестве целого ряда писателей, начиная от античности (Гесиод, Эсхил, Эзоп) и кончая XIX–XX столетиями (Гёте, Байрон, Шелли, К. Чапек, Л. Мештерхази), когда вновь возродился интерес к мифу и мифопоэтике. Образ греческого титана Прометея превратился в своеобразный символ-архетип. К древнегреческому мифу об огнедарителе-титане в XX в. обращались и национальные писатели России: Элляй (якутск.), К. Кулиев (балкар.), Ю. Шесталов (манс.), М. Карим (башкир.) и др. В произведениях-реминисценциях о Прометее сохранен возвышенный облик античного героя-титана, подчеркнуто его высокое предназначение, звучит восхищение мужеством и волей героя, умением терпеливо сносить удары судьбы. Восхваляется подвиг, совершенный в древности во имя просвещения неразумного человечества. С мифом о Прометее соотносится миф о Геракле, освободившем страдальца-титана.
Лейтмотив драмы «Прометей Прикованный» Эсхила (525–456 до н. э.) – небходимость борьбы против тирании и деспотизма. Их олицетворение – верховное божество, Зевс, что делает пафос трагедии реально-предметным и эмоционально персонифицированным. Предмет неустанной заботы и постоянного беспокойства для Эсхила – судьба все еще слабого, угнетаемого стихиями, прозябающего в невежестве человечества. Только просвещение, только цивилизация способны дать людям достойное существование, укрепить жизненно, возвысить нравственно, раскрепостить духовно.
В этом смысле Прометей стоит ближе к типу освобожденого и просвещенного человека, нежели к богу-олимпийцу. Это в сущности образ человека-борца, неустрашимо следующего благородным внутренним побуждениям, перед которыми бессильны муки и угрозы. Колебания и противоречия неведомы герою, путь его очевиден и прям. Его благородная жертвенность трагически осознана. Жалобы на испытываемые муки только оттеняют твердость и непреклонность Прометея, не желающего изменить своей миссии, вступить в сделку с Зевсом и таким образом добиться облегчения участи[203].
Героями новеллы «Наказание Прометея» чешского писателя Карела Чапека (1890–1938) становятся противники Открывателя Огня. В сцене суда над Прометеем участвуют его антиподы: Гипометей, Аметей, Антиметей, Апометей, каждый выступает с обвинениями в адрес Прометея. Автор использует прием «говорящего имени». В корне своем их имена сходны. По-своему все герои – «мыслители», собратья достойно молчаливого Прометея-Промыслителя. Особенно яростен в обвинениях Антиметей («Обвиняю Прометея в государственной измене!. Предлагаю покарать его смертью»). Глуп, но предельно изощрен в придумывании наказания Аметей («Можно. приковать Прометея пожизненно к скале и. пусть коршуны клюют его безбожную печень»). Бездумно-кичлив Апометей («Огонь сумел бы открыть каждый лентяй, бездельник и козий пастух; мы не сделали это лишь потому, что у таких серьезных людей, как мы, разумеется, нет ни времени, ни желания развлекаться какими-то камешками, высекающими огонь»). Заниженный склад ума Гипометея, возглавляющего судебный фарс, подчеркнут его чревоугодием и «кулинарными открытиями», в конечном итоге следующими за открытием свойств огня (додумывается посолить и натереть чесноком уже поджаренное мясо). Сын Гипометея – Эпиметей – инфантилен. На свой вопрос о том, за что приговорили Прометея к смерти, он вполне удовлетворяется ответом: «Не твоего ума дело». Собственно, все сенаторы олицетворяют представителей человечества, для которого и принесен огонь с небес. Но их фантазии хватает только на осмысление отрицательных результатов применения божественного пламени.
Используя прием трактовки образа «от обратного», К. Чапек восхваляет изобретательный ум гения: его Прометей изобрел способ добывания и сохранения пламени. Изображая судей, считающих, что огонь – это «самые обыкновенные естественные силы, возиться с которыми недостойно мыслящего человека», автор новеллы осуждает их ничтожество и тупоумие. Прометея судят не потому, что он выдал величественную тайну богов людям, обвиняют Прометея в том, что, вручив свое знание простолюдинам, он якобы утаил его от власть имущих: «Прометей украл у нас огонь, потому что дал его всем!» (пер. М. Зельдович).
Фантазии так называемых служителей Фемиды хватает лишь на то, чтобы увидеть отрицательную силу пламени, но не признать, что бесчеловечные проявления огня (войны, пожарища, ожоги) зависят от его обладателей, придающих плазменной стихии антигуманную энергию. Антиметея осеняет: «Огонь, господа, дает нам, людям, новую силу и новое оружие: с помощью огня мы будем почти равны богам». Авторская ирония в тексте строится на утонченных контрастах на уровне слова, соотношения фраз внутри предложения, сопоставления образов с героями традиционного мифа. Уже не боги Олимпа судят равного им бога, а скудоумные представители человечества устраивают фарс судилища над Богом-Изобретателем. Неразумные посягают на свободу Мыслящего.
Произведение Лайоша Мештерхази (1916–1979) «Загадка Прометея» являет собой пример современного романа-гипотезы, романа-исследования историко-литературной проблемы. Реконструируя миф о Прометее, венгерский писатель в деталях воссоздает эпизоды его освобождения могущественным Гераклом (как и предначертано судьбой, – лучшим из представителей человеческой цивилизации). Фантазия художника изображает греческого героя на обратном пути из Скифии после очередного батального подвига, победы над амазонками. Проходя по Кавказскому хребту (в районе горы Арарат), Геракл уничтожает стрелой, отравленной в яде Лернейской гидры, громадного орла, который тысячелетие подряд клевал печень страждущего за человечество бога. Прометей Освобожденный, который некогда принес беззащитным людям искру божественного пламени с целью посеять в их сознании дух творчески созидательного огня («Я дал ему огонь и ремесла, чтобы он выжил. Выжил и совершенствовался»), теперь, по прошествии веков, с интересом взирает на окружающих Геракла воинов. Он любуется их одеждой, оружием, снаряжением, украшениями – всем, что искусно выделано руками человека, обучившегося мастерству и ремеслу.
В диалогах с Прометеем Геракл настаивает на примирении титана с Зевсом. Он пытается убедить собеседника в том, что «власть Зевса – это мир и справедливое устройство жизни». Геракл подчеркивает, что свое служение Зевсу связывает не с тем, что тот является его отцом, и не со страхом перед громовержцем: «Я служу Зевсу умом и сердцем, пока живу, и в этом служении – моя гордость» (пер. Е. Малыхиной).
В чем же, по мысли венгерского писателя, состоит з а г а д к а Прометея, того, кто больше всех из богов сделал для человечества в целом, но не стал повсеместно восхваляемым? Писатель предлагает свою версию. Он находит, что Прометей, вторично возвратившись на Землю, растворился среди людей. «. жил на свете бог, самый лучший, какого только способен вообразить человек. Единственно добрый бог. Единственный целиком и полностью – бог человека. Тот, кто все беды и страдания запер в ящике и запечатал, чтобы они не терзали нас. (Увы, мы знаем: Зевс с помощью Пандоры ящик этот открыл). Кто дал нам ремесла, чтобы мы превратились в Человека. Кто дал и огонь, чтобы мы стали совершенны. Он работал. А поскольку знал, что от плохой работы плох и созидаемый мир, работал точно, красиво. Сам же он ел хлеб, какой едят люди, пил вино, какое пьют люди, поэтому и умер смертью, какой умирают люди. И исчез в глубине безымянного времени.»
Во многих кавказских сказаниях содержатся мифы о героях, подобных Прометею. Наказывая за богоборчество или соперничество с другими богатырями, их на долгие века приковывают к голым скалам цепями и насылают хищных птиц (орлов, грифов) клевать печень. В предании о воинственном племени нартов говорится о том, как злые великаны (иныжи, эмегены) лишают людей живительной силы огня. Богатырь Сосруко хитростью одолевает противников и возвращает огонь соплеменникам.
Древнегреческая легенда о Прометее Огнедарителе и сыне нартского племени Сосруко, возвратившем этот огонь людям, по-своему интерпретируется в произведении балкарского поэта Кай-сына Кулиева (род. 1917 г.) «Огонь». В его версии очаги тепла и света были погашены злобными великанами-эмегенами (одноглазыми, густоволосыми, звероподобными чудовищами), задумавшими полностью истребить род людской, отняв источник тепла и света у женщин и детей в тот момент, когда все мужчины ушли сражаться на войну: «уничтожим их огонь священный: смерть ужасна, если мертв очаг!» (пер. С. Липкина). Однако коварному замыслу чудовищ седовласый и немощный нарт Сосруко противопоставляет разум и хитроумие. Проникнув в заваленную скалой пещеру, где был спрятан огонь, Сосруко просит эмегенов помочь разобраться в том, кто живет дольше – орел или ворон? Во время завязавшегося между великанами спора Сосруко уносит из пылающего костра горящую головню и с этим факелом в руках скачет к соплеменникам («Разум человеческого сына / победил бессмысленную тьму»). Люди славословят своего спасителя и тот живительный дар небес, «огонь многоязыкий», который им возвратил Сосруко: «Ты, огонь, всегда извечно молод, / жизни светлый друг и смерти враг. / Ты, огонь, развеял лютый холод, / ты, огонь, прогнал кромешный мрак». По мысли поэта, величайшее назначение огня состоит в том, чтобы «тьмы не стало на земле».
В стихотворениях К. Кулиева выражается и озабоченность тем, что огонь часто используется для массового истребления людей («Он в силах уничтожить все на свете»). В стихотворении «Монолог Прометея» из уст самого титана, принесшего великий дар с неба («Я взял огонь, чтоб на земле отныне / Светились звезды, как на небесах»), звучит гневное осуждение использования огня в негуманных целях, который «уже родил довольно много слез», превращая в пепел дома соседей, уничтожая хлебные колосья и др. Прометей, вытерпевший испытание болью ради спасения человечества («…Но я любил вас, люди, вас, которых / Я одарил божественным огнем!») и не помышлявший о неразумном использовании пламени, испытывает величайшие муки совести: «Не плакавший, когда меня терзали, / Я, видя ваши огни, слезы лью». В заключительных строках стихотворения звучит набатом слово величайшего из богов, обращенное к разуму Человечества: «И снова говорю я вам в печали: / Огнем горит и камень, и металл. / Чтоб землю вы огнем моим сжигали, / Не для того я жил, Не для того страдал» (пер. Н. Гребнева).
Боль за человечество, использующее во вред себе величайшие открытия ума, слышна и в стихотворении «Герострат» литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса (род. 1919 г.): «И сам Эйнштейн, терзаясь и мертвея, / Трет зябко пальцы. Как подешевел, / Как черен стал ты, пламень Прометея!» (пер. Л. Шершевского).
Мансийским поэтом Юваном Шесталовым (род. 1937 г.) сочинен лирический цикл под названием «Полярный Прометей». Стихотворение с этим названием является центральным в цикле. Прежде, чем сказать о живительной функции огня, поэт помогает читателю проникнуться его великой значимостью для Севера. Он рисует холодный свет луны, отрешенность от надежд человека света высоких звезд, морозный блеск снежных просторов и неприступную стену многоцветного северного сияния: «На Севере луна особая. / День и ночь на небе висит она»; «Сияет луна – и снег неспокойно искрится.»; «В морозном небе звезды хохлятся, / Лучами зябкими звеня». Используя метафорику «огненного» слова, Ю. Шесталов воспроизводит ощущуние лютого холода: «Я сгорал в огне метелей.»
Вместе с тем поэт обнаруживает искры светозарного пламени в глазах друзей-геологов, «добытчиков огня». В стихотворении «Полярный Прометей» геолог назван Вечным Прометеем. Ему уготован тернистый путь по земным просторам («По снегам, по топям и по льдам, / И по стуже, жгущей до костей»). Буровые вышки нарекаются стальными ногами Прометея, нефтяной трубопровод соотносится с руками титана. Благо, принесенное Прометеем, – свет и тепло, прорывает кромешную мглу полярной ночи: «Волнами расходится кругом / Свет в полярной ненасытной мгле, / Согревая каждый-каждый дом, / Все живое на большой Земле». В сознании лирического героя стихотворения Ю. Шесталова деятельность геологов соотносится по назначению с мифом о великом божественном дерзании, «сжигавшем неверие людей»: «Пламя Прометея, как звезда, / Рядом с солнцем засияло вдруг». И потому геолог воспринимается в ореоле славы творца: «Вот идет Полярный Прометей – / И летит / Сиянье / От него!» (пер. А. Аквилёва).
Интересна версия трактовки образа Прометея у Мустая Карима (род. 1919 г.). Собственно, трагедия «Не бросай огонь, Прометей!» строится на основе древнегреческих мифов и повествует о событиях, которые предшествуют воссозданным в произведении Эсхила «Прометей Прикованный». Композиционно сочинение башкирского писателя строится так, что мотивы сновидений героя (картина вторая) проецируются на сюжет эсхиловского текста (сцены наказания): лишь контурно обозначается, как Власть, Сила, Гефест уводят Прометея на казнь. Вместе с тем в этих эпизодах возникают новые персонажи и своеобразные сюжетные дополнения. Власть приказывает Гефесту изготовить для орла, клюющего печень титана, клюв и когти из стали. Богини Мойры предсказывают Прометею его трагическую судьбу: «Взгляни на высь Кавказа! Ты видишь гору Каф… /Все тридцать тысяч лет продлятся муки. / Тебя пытать прикажет громовержец». Прометей М. Карима проходит через искушение в беседе с матерью Фемидой. На ее уговоры попросить прощения у Зевса Прометей с упреком восклицает: «Вы заодно, все матери вселенной! / Зачем же вы даете нам такие / Горящие сердца? Не для того ли, / Чтобы потом об этом пожалеть?» Сон Прометея во всем его драматизме открывается находящейся рядом возлюбленной – земной девушке Агазии. Отмеченная с детства отблеском искр Возвышенного Огня, упавших в ее колыбель, Агазия (единственная из людей союзница Прометея) одухотворена его идеей соединения земной энергии человека с мощью небесного Разума («Огонь, созревший в глубине Земли, / Ждет сочетанья с пламенем небесным»). И тем трагичнее ее судьба: ради осуществления замысла Прометея просветить неразумное человечество Агазия, как только огонь будет спущен на Землю, погибнет, превратившись в пепел прямо на глазах своего возлюбленного. По предсказаниям Мойр, Прометей будет уведен на казнь еще и с чувством вины перед возлюбленной. Но именно Агазия вселяет дух твердости в титана, бросая ему из-за спин обезумевшей толпы:
- Мой Прометей! Не отдавай тростинки!
- И не бросай небесного огня!
- Во мне – огонь Земли!
- Я загораюсь,
- Я чувствую, что вся уже горю!
- (Ярко воспламеняется)
- Горю! Прощай навеки, мой любимый!
В произведении М. Карима более подробно развернуты сцены конфликта между богами. Их разногласия и споры богиня раздора Эрида переносит и на Землю, в среду людей. Метафора Божественного Огня пронизывает все произведение башкирского писателя. Огонь ассоциируется у Прометея со светом Разума. В руках безвольно покорного кузнеца Гефеста Огонь превращается в причину мук (в горниле выковываются цепи для дерзкого Прометея). Для небесного правителя Зевса Огонь является символом безграничной власти над миром. Оттого-то он и устрашается, когда узнает, что и в недрах Прародительницы-Земли возгорается пока еще слабый очаг. Огонь – дух деятельности, который может быть передан от матери сыну. Его пламя служит также символом влюбленности (Агазия, сгорающая в объятиях Прометея; свечение одежд самой Афродиты при приближении к Прометею). Огонь связан с эстетическим восприятием мира: его лучи освещают для людей красоту в природе.
И сегодня мужественный облик Прометея, сознательно подвергшегося мучениям ради совершенствования человечества, не оставляет равнодушными наших современников.
С течением времени в мировой литературе сформировался конгломерат художественно-типологических образов, которые, обладая общечеловеческой значимостью, относятся к числу «вечных» (Прометей, Дон Кихот, Фауст, Отелло и др.). Символическая абстрагированность «вечных образов» позволяет нарекать их «призраками» (К. Бальмонт), которые, однако, для читающего человечества «более живучи, чем миллионы так называемых живых людей, нераздельно слиты с нашей душой, они составляют ее часть и влияют на наши чувства и наши поступки»[204]. К великим типам мировой литературы относятся «похититель небесного огня Прометей, обративший свою неземную душу к земножителям», «несчастный отец неблагодарных детей король Лир», «смешной и трагичный рыцарь мечты Дон Кихот», «гений сомнения Гамлет», «царственный себялюбец и убийца Макбет», «демонический Ричард Третий, полный разрушительного сарказма», «злой дух обмана Яго, этот дьявол в образе человека», «красивый соблазнитель женщин Дон Жуан» и др[205].
Одним из таких «вечных образов» в литературе предстает «чернокнижник» Фауст, вступивший в сделку с мифологическим персонажем – Мефистофелем. В мировой литературе эти образы получают широкий резонанс после создания Иоганном Вольфгангом Гёте (1749–1832) знаменитой трагедии «Фауст»
В имени Мефистофеля явно прослеживается связь с немецким «ТеиМ», что в переводе означает «черт», «дьявол». Другие версии толкования имени Мефистофеля встречаются в словаре Д.А. Брокгауза, И.А. Ефрона, где имя гётевского персонажа возводится к латинскому «mephitis» и греческому «philos» корням, из которых составлено «mephistopilos», что означает «любящий адский серный запах». Подтверждение этой версии можно найти в высказываниях гётевского Фауста, который называл своего спутника «порождением грязи и огня». С другой стороны, в имени «Мефистофель» можно обнаружить слова из еврейского языка: «mephiz», означает «разрушитель», а «tophel» – «лжец»[206].
В конечном счете все три варианта толкования имени Мефистофеля позволяют глубже осмыслить самую суть гётевского персонажа. Характеристики «лжец» и «разрушитель» по-своему дополняют понятие «черт», выявляя наиболее существенные черты этого персонажа из народных поверий (Ср. выражение: «бес попутал»). Оперирование словами «бес», «черт», «дьявол» в гётевском тексте позволяет говорить об иерархии в сонме представителей нечистой силы, подводит читателя к пониманию отличия образа Мефистофеля и от черта из народных поверий, и от дьявола из библейских сюжетов. Работа с текстом трагедии «Фауст» подтвердит предположение о собирательности образа Мефистофеля, потому что он предстает на страницах произведения не только всесильным демоническим существом («Часть вечной силы я, всегда желавшей зла…»), но и не совсем могущественным злодеем («Ведь скольких я уже сгубил, а жизнь течет своей широкою рекою»; «…ведь не все же силы земли и неба в моей власти»).
Из предположений Фауста рождается характеристика Мефистофеля: «хаоса странное творенье», «коварный бес» в образе пуделя, черт с эгоистически шпионской натурой и т. д. Холодно-отстраненные рассуждения Фауста постепенно приобретают иную эмоциональную тональность, в них уже проступает возмущение поступками Мефистофеля («Шпионство, видно, страсть твоя…»). Только подумав, не сразу, Фауст принимает предложение Мефистофеля о совместном путешествии по странам и векам. Рассудком своим он понимает, что «Черт – эгоист, нельзя ждать от него, /Чтоб даром стал он делать одолженья…». И вслед за этим читатель действительно может услышать вкрадчиво-коварный голос искусителя, предлагающего ученому в обмен на дьявольские услуги дать расписку кровью: «Кровь – сок совсем особенного свойства».
Под влиянием встречи с Гретхен, колдовства ведьмы и нашептываний Мефистофеля происходит помрачение разума Фауста. Умудренный жизненным опытом старец превращается в молодого повесу: «Будь бес как бес, не размазня! /Чтоб был подарок у меня!». Лишь после гибели Гретхен и ее родных наступает отрезвление Фауста, и он проклинает Мефистофеля, называя его «порождением грязи и огня», «отвратительным чудовищем», «постыдным спутником, который во зле видит свою жизнь, а в убийстве наслаждение».
В своих суждениях о Мефистофеле Фауст предстает как земной человек с его сомнениями, болью, стремлением вырваться за пределы человеческого сознания: «Что дашь ты, жалкий бес, какие наслажденья? / Дух человеческий и гордые стремленья / Таким, как ты, возможно ли понять». В высказываниях же о себе Фауст предстает как гражданин мира, как представитель всего человечества: «Мой дух от жажды знанья исцелен, / Откроется всем горестям отныне: / Что человечеству дано в его судьбине, / Все испытать, изведать должен он». В суждениях Фауста о Мефистофеле и самом себе оказываются представлены две различающиеся позиции на саму жизнь, человечество, мир.
Суждения Гретхен о искусителе раскрывают чувства человека, общающегося со злодеем: присутствие Мефистофеля холодит сердце, сковывает волю, не позволяет раскрываться добрым душевным порывам, порождая страх, лишая возможности различать добро и зло. Зло Мефистофеля всесильно и всевластно, оно прочно приковывает к себе людей, неспособных противиться демоническим силам и в конце концов подчиняющихся злому року, делает их послушными орудиями в руках злого гения. Гретхен, добросердечная от природы («Ко всем и ко всему питаю я любовь»), испытывает в обществе Мефистофеля страх, скорбь, уныние, ужас и даже ненависть («Он ненавистен мне от сердца полноты!»). Устами Гретхен автор оценивает Мефистофеля как существо, чуждое всему земному:
- Глядит вокруг насмешливо всегда,
- В глазах его таится что-то злое,
- Как будто в мире все ему чужое;
- Лежит печать на злом его челе,
- Что никого-то он не любит на земле!..
Гретхен верно улавливает эту отверженность, чужеродность человеку и даже миру в целом: это подтверждается и словами самого демонического героя. И если в начале произведения Мефистофель отказывает человеку в праве жить на земле («Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, /Годна вся эта дрянь, что на земле живет»), то в конце он уже лелеет надежду на гибель целого мира («Уничтоженья ждет весь мир»).
Высказывания Мефистофеля о себе позволяют заметить собирательность этого образа. С одной стороны, он «владыка крыс, мышей, лягушек», с другой – равный среди архангелов самого Господа. Он один из «духов отрицанья», «не из важных господ» («Тсс! Не зови меня, старуха, сатаною!»), оборотень в облике странствующего схоласта с петушиным пером на шляпе, «копыта рыцарь» для ведьмы, знаток утаенных кладов.
В заключительных сценах произведения мотив ненависти к людям усиливается, и Мефистофель говорит уже о целом сонме демонических сил, замышляющих гибель человечеству: «Вы знаете, как гибель замышляли / Людскому роду мы в проклятый час: / Все злейшее, что мы осуществляли, / Ханжи, нашло сочувствие у вас!» (пер. Н. Холодковского).
Вместе с тем, в самом гётевском тексте заложена идея особой «живучести» и приспособляемости демонического персонажа к новым условиям. Ведь только из-за изменений во внешности Мефистофеля и отсутствия в его свите предвестников беды – воронов – «костлявая» в сцене «Кухня ведьмы» не узнает своего «царя и господина»:
- …Теперь прогресс с собой и черта двинул.
- Про духа северного позабыл народ,
- И, видишь, я рога, и хвост, и когти кинул.
- Хоть ногу конскую иметь я должен все ж,
- Но с нею в публике являться не желаю…
Предположение Гёте о возможном изменении внешности Мефистофеля в иную эпоху было подхвачено многими писателями мира. В частности, свое яркое развитие этот образ нашел в «Сценах из Фауста» А. Пушкина, «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, «Мефистофеле» С. Алешина, «Путях Фауста» И. Сельвинского, «Докторе Фаустусе» Т. Манна, «Мефисто» К. Манна, «Братьях Лаутензак» Л. Фейхтвангера, «Парфюмере» П. Зюскинда, отдельных стихотворениях Гейне и др.[207] Поэтому урок толкования идеи гётевского философского шедевра через наиболее значимые художественные образы может стать прелюдией к постановке новой проблемы, например: «Мефистофель в новом обличии». На этих уроках по литературным произведениям XX столетия следует заострить внимание учащихся на динамике характера «вечного» гётевского персонажа.
Так, в стихотворении Генриха Гейне (1797–1856) «Ich rief den Teufel, und er kam….» («Я черта позвал…») лукавый бес предстает не кем иным, как любезным дипломатическим посланником с изысканнейшими манерами («Er ist nicht hasslich und ist nicht lahm, Er ist ein lieber, scharmanter Mann….»; «Он дипломат, он остер на язык….»).
- Я черта позвал, он явился в мой дом
- И, право же, многим меня изумил.
- Он вовсе не глуп, не уродлив, не хром,
- Напротив – изящен, любезен и мил…
Идея оборотничества дьявола и его мимикрии в соответствующие новому времени образы художественно воплощена в романе «Братья Лаутензак» (1943) Лиона Фейхтвангера (1884–1958). Описывая зловещую эпоху зарождения реакционных сил в Германии 30-х гг. XX века, немецкий писатель утонченно живописует характеры представителей целого сонма «братьев» – всевозможной нечисти, обнаруживающей себя на всех ступенях социальной лестницы. При тщательном анализе текста за основной сюжетной линией в романе открывается метафорический ряд, вполне соотносимый с важнейшими эпизодами «Фауста». Кэте Зеверин ассоциируется с Гретхен. Черты Фауста обнаруживаются и у Пауля Кремера, и отчасти у Оскара Лаутензака. Впоследствии Оскар Лаутензак, заложив душу дьяволу, сам пополняет сонм нечистой силы, широко представленной штурмовиками Гитлера, подлинного Сатаны, правящего бал в огненном блеске Рейхстага. Первоначально в романе Л. Фейхтвангера в роли мелкого беса-искусителя предстает младший брат Оскара – Гансйорг, в числе первых записавшийся в ряды штурмовиков: «Оскару вдруг почудилось…будто волчьи глаза его <Гансйорга — Н.Л> горят в полутьме. Блестящее общество, богатство, все соблазны мира предлагал он старшему брату. Он был искусителем, этот младший брат…Вот он…придвинул свое дерзкое, хитрое, плутовское лицо… «Видишь ли, – сказал Гансйорг, – ведь и мы, нацисты, добиваемся успеха потому, что обещаем людям чудо. Ты и наша партия – вы внутренне неотделимы… Фюрер очень восприимчив к мистике. Ты ему очень понравился, Оскар. Если умно взяться за дело, ты можешь стать одним из его советчиков. Главным советчиком» (пер. В. Станевича).
Вступив на бесчестный путь служения фашизму, Оскар Лаутензак отрекается от своих прежних учителей-гуманистов, предает собственную любовь, окружающих людей, своих новых «товарищей по партии». И в итоге его предает младший брат: нацисты разыгрывают убийство Оскара якобы от рук патриотов Германии – антифашистов.
Фашизм XX века являет миру новых Мефистофелей – жестокосердных, алчных, агрессивных. Они не останавливаются ни перед страшными кровавыми преступлениями, ни перед многочисленными человеческими жертвами. Сердца их, по образному выражению Л. Фейхтвангера, «принадлежат волкам», от них исходит «пресноватый запах человеческой крови», который притягивает к себе новых преступников из числа утративших вместе с разумом и человеческое обличие. Такие мистики-шарлатаны, как Оскар Лаутензак, прибегая ко лжи, гипнотическому внушению, дешевым цирковым трюкам, превращают огромные толпы безвольных людей в слепых последователей своих новоявленных хозяев в коричневых мундирах со свастиками. Подверженные психологическому воздействию, не умеющие противопоставить разум ложной патетике, огромные массы людей превращаются в марионеток жестокого режима.
Средневековый миф о сделке человека с дьяволом отразился и в романе «Доктор Фаустус» (1947) Томаса Манна (1875–1955). В произведении обнаруживается множество образно-содержательных соответствий с гётевской трагедией. Во-первых, это касается главных героев – сохранившего черты средневекового «чернокнижника» Фауста Гёте и декадентствующего музыканта Адриана Леверкюна Т. Манна. Сходство просматривается в ученом-схоласте Вагнере и скрупулезно ведущем летопись судьбы Леверкюна профессоре-филологе Цейтбломе; в олицетворяющем возвышенно-поэтический дух творчества Эвфорионе и юном Непомуке. Эпизоды с Маргаритой и Марией Годо символизируют гибель любви, начавшейся по наущению демонического персонажа. Прозрение Фаустом отдаленного будущего («конечный вывод мудрости земной») перед его падением в могилу обнаруживает сходство с внезапным озарением Леверкюна перед его сумасшествием и кончиной. Немало эпизодов в романе Т. Манна происходит в Лейпциге, так же как в сюжете Гёте.
Великий Гёте творит собственный миф о Фаусте, фиксируя внимание на неудачно прожитой жизни ученого, на его стремлении начать все с начала, на отчаянии, которое приводит его к роковой сделке с чертом. Т. Манн еще в большей мере усиливает мотив разочарования героя в жизни. В образе Леверкюна акцентируется внимание «на противоречии между непомерным творческим честолюбием и недостаточностью творческой силы, между великой аналитической силой исследования и созидательной слабостью дарования»[208].
Колоритный образ гётевского Мефистофеля обретает у Т. Манна чисто символический ореол. Дух Зла оказывается расщепленным на множество дьявольских мирков в самой житейской среде. К ниспровержению человеческого начала в Леверкюне причастным оказывается многое. Интерес к осмотическим (искусственно взращенным из кристаллов) растениям в доме отца, формально-схоластическое обучение в гимназии, скабрезные речи наставляющих молодежь лже-богословов, связь с падшей женщиной (тема Эсмеральды-бабочки займет существенное место в какофонической музыке Леверкюна), склонность к иронично-злобным оценкам шедевров человеческой мысли и др. Все это порождает в Леверкюне хладнокровное отношение к действительности и готовит почву для сговора с демоническими силами («как раз такие умы, как ты, и составляют население ада»; «такой пройдоха, как ты, – это же сущая находка для черта»).
Как итог всего – подавление гуманного в самом себе и попытка создать музыкальные произведения, которые бы сковывали ледяным ужасом души современников. Надуманная, безжизненная музыка Леверкюна («Светочи моря», «Апокалипсис», «Плач доктора Фаустуса»), затрагивая интеллект слушателей, заставляет их души трепетать от страха. В произведениях Леверкюна слышатся мотивы эгоистического индивидуализма и равнодушия к миру, они лишены любви и душевной теплоты.
Предельно реалистичное описание ада дает Леверкюну явившийся ему демон («здесь прекращается все – всякое милосердие, всякая жалость, всякая снисходительность.»). Но, несмотря на откровения незнакомца («мимикрирующего», чтобы привлечь новых бездушных персон к сонму нечисти), Адриан Леверкюн соглашается на условие, которое ему диктует служитель преисподней: отныне Леверкюн не смеет никого любить. За это он получает 24 года свободы «творческой фантазии» и «успеха» у современников. Какофония музыкальных произведений Леверкюна предваряет звуки военной канонады, авиационных налетов на города Европы, стона гибнущих людей (изображение военных событий составляет исторический фон романа). Все темное, злобное, ужасное, устрашающее человека слышится в этой разрушительной музыке.
Ключевые моменты легенды о Фаусте и Мефистофеле использованы Михаилом Булгаковым (1891–1940) в его романе «Мастер и Маргарита». В фантасмагорическом фрагменте произведения русского писателя присутствует знаменитая гётевская триада: Воланд, который отчасти сродни Мефистофелю, Мастер – своеобразная ипостась Фауста, Маргарита – в некотором роде аналог Гретхен.
Вместе с тем несовпадения в образно-содержательной структуре булгаковского и гётевского произведений весьма существенны. В романе Булгакова, который внешне, казалось бы, так сильно зависит от «Фауста» (мотивы заклада души дьяволу и спасения героя, которое приходит от любящей женщины), фактически нет ни одного образа, «который бы достаточно близко соответствовал заглавному герою Гёте. Несомненно лишь сходство мировоззрений, лежащих в основе этих двух произведений. И в том, и в другом случаях мы сталкиваемся с теорией сосуществующих противоположностей и с идеей, что человек имеет право ошибаться, но при этом обязан к чему-то стремиться»[209].
Отличия героев разительны. На сделку с темными силами соглашается жизнелюбивая, активная, смелая Маргарита (гётевская Гретхен более робка и трепетна). Булгаковской героиней движет чувство любви и желание встречи с возлюбленным. Фауст же Гёте продает свою душу отнюдь не ради обретения любви («Что дашь ты, жалкий бес, какие наслажденья?/.Дашь женщину, чтоб на груди моей / Она к другому взоры обращала.»). Им движет страсть к более полному постижению смысла жизни, познанию разнообразных форм бытия. Булгаковский Мастер предстает в романе довольно-таки безвольной, сломленной обстоятельствами личностью, но и Воланд – вовсе не типичный злорадно-веселый Мефистофель-искуситель. Он не является вседержителем злого начала в мире, ибо не он решает, когда оборвать нить земной жизни человека. По существу, Воланд наказывает зло подлинное. Как это ни парадоксально, у Булгакова отец лжи выступает защитником истины.
Используя способы иносказательности (которые в полной мере предоставляет писателю сама мифопоэтическая стилизация), на возрождающуюся в России 30-х годов «чертовщину» действительности автор отвечает «чертовщиной» фантасмагорической. В произведении Булгакова наблюдаются взаимодействие сюжетных пластов и переходы героев из одного времени в другое (Иешуа, Воланд). Фантасмагорический сюжет (линия Воланда, Мастера и Маргариты) соединяется с библейско-мифологическим (при серьезных отличиях от канонического Нового Завета) и с бытоопи-сательным (картины жизни окололитературной московской богемы того периода).
Во многих национальных литературах народов России встречаются демонические существа, подобные Мефистофелю. Зачастую служителями Сатаны в мордовских сказаниях («Ярма», «Парень хороший Анисим») выступают «шелкобородый» Ведятя и «шелковолосая» Ведява, обитающие в водах Волги и жаждущие от своих жертв крови («Нам нужна душа твоя, /Нам нужна алая кровь твоя»). Водяные пытаются заполучить в свои сети человеческую душу, останавливая посередине реки челн гребца (обычно это купец, не платящий им по многу лет дани и не ведающий о рождении сына-наследника, которого по своему неведению и предназначает водяным). По-видимому, дно реки мыслится в мордовских мифах как один из вариантов преисподней. Заполучив в «хрустальный дворец» юного Алешу, сына купца Анисима, водяные ведут его к Сатане. Но тот объясняет им свое бессилие перед невинной душой и перед водами реки, сотворенной богом Нишке для пользы всего человечества: «Это, матушка, вода не наша, / Сотворил эту реку бог Нишке, / Он же рыбу пустил в эту воду, / Вышний бог все богатства создал, / Чтобы польза народу была» (пер. Л. Кавтаськина). Здесь напрашивается аналогия с «Фаустом» Гёте, в частности, с фрагментом спора Господа и Мефистофеля о человеке.
В татарской мифологии двойником Мефистофеля неизменно выступает демонический персонаж Шурале, чей образ ярко представлен в одноименной поэме Габдуллы Тукая (1886–1913). Лесной уродец со скрюченными руками и ногами, злобно вспыхивающими очами, с рогами на лбу и пальцами в пол-аршина длиной угрожает дровосеку защекотать его до смерти («Каждый палец приспособлен, чтобы злее щекотать, / Убиваю человека, заставляя хохотать»). В поэме Г. Тукая с «Фаустом» Гёте соотносится сцена заключения пари между дровосеком и Шурале: «Говори же, человечек, будь, пожалуйста, смелей. / Все условия приму я, но давай играть скорей!» – пер. С. Липкина).
Образ злого демонического существа, по-мефистофельски намеренно подталкивающего человека к гибели, показан и в драматической поэме «Раб дьявола» чувашского писателя Константина Иванова (1890–1915). Богатство, нажитое бесчестным трудом (мародерство на войне и притеснение односельчан), оборачивается против самих братьев: цепь их греховных деяний лишь возрастает с каждым часом. Демон подговаривает старшего из братьев к убийству младшего («А дьявол подстрекает, За дубом притаясь»), в свою очередь не желающего поделиться с первым совместно награбленным добром («В глазах блестели деньги, /В ушах гудел их звон»). Преступные деяния старшего брата сопровождаются бурей в природе («В тот миг взметнулся ветер, / Завыл, забушевал. / Могучий гром ударил, / И дрогнула земля..»), а также раскатисто-злобным, торжествующим хохотом нечистой силы («А дьявол все страшнее / Хохочет, будто он / Весь мир до основанья / Задумал потрясти / И белый свет разрушить…» – пер. Б. Иринина). Обагряя руки в крови человека, старший брат окончательно становится сподвижником (рабом) дьявола. Собственно, здесь возникают ассоциации со словами Мефистофеля: «Кровь – сок совсем особенного свойства». С одной стороны, они звучат как соблазн, с другой, – как предостережение тем, кто собирается ступить на гибельную стезю.
Уроки проблемного типа, уроки-семинары по зарубежной классике, требующие активизации самостоятельного мышления учащихся, предоставляют наибольшие возможности для изучения типологических (сюжетных, образных, стилистических) соответствий в произведениях отечественных и зарубежных авторов.
4
Выявление стилистического своеобразия авторского текста
(Материалы к урокам теоретико-литературного осмысления индивидуально-творческой манеры зарубежных писателей XX столетия)
Художественное слово в XX веке ищет возможности проявления в логически завершенной, эффектной, афористичной фразе или ситуации. Это реализуется в приеме парадокса, известного в литературе еще со времен Цицерона и просветителей XVIII века. Под парадоксом (от греч. paradoxos – неожиданный, странный) понимается утверждение, которое противоречит общепринятым понятиям или (это бывает часто внешне) здравому смыслу. Собственно, это неожиданное явление, не соответствующее обычным представлениям. Прием парадокса помогает извлечь оригинальный смысл из внешне антонимичной двухчастной структуры высказывания. Парадокс «придает литературному произведению остроумие и стилистический блеск, делает мысли автора яркими и запоминающимися»[210]. На фоне столкновений в двухчастной структуре парадоксальных ситуаций и рождается истина, которая по воле автора бывает облечена в необычную, неожиданную форму. «Особенностью парадокса является то, что он как бы переворачивает общепринятые мнения, обнаруживая их нелепость или неразумность»[211].
Признанным мастером утонченно-эмоциональной стилизации текста и интеллектуальной игры с читателем и со зрителем был Бернард Шоу (1856–1950). Прием парадокса в пьесах Шоу использован не только в речевой манере героев (их словесные перепалки), но и в поведении (эксцентрические выходки). По ходу действия пьес английского драматурга происходит постепенное развенчание изначально неверных представлений зрителя (авторский прием первоначально ложной ориентации воспринимающего сценическое действие): «Люди, которые кажутся сначала высоконравственными, оказываются на деле аморальными, и, наоборот, те, кого общество считает преступниками, предстают в пьесах Шоу как воплощение порядочности»[212].
Будучи принципиальным противником влияния театрального действия только на чувственно-эмоциональную сторону зрителя, английский драматург часто обращается к юмору, иронии, сарказму как способу возбуждения мыслительной активности зрителя. По убеждению Шоу, его зритель «должен уходить со спектакля в «интеллектуальном смятении», уносить с собой нерешенную этическую задачу. Театр должен не успокаивать, а будить яростную работу мысли»[213].
В пьесе «Пигмалион» Шоу обращается к древнегреческому мифу о скульпторе Пигмалионе, который в мраморной статуе Галатеи воплотил свой идеал женщины и влюбился в собственное творение.
- А меж тем, белоснежную он с неизменным искусством
- Резал слоновую кость. И создал он образ – подобной
- Женщины свет не видал, – и свое полюбил он созданье.
Вняв мольбам Пигмалиона ниспослать ему возлюбленную, столь же прекрасную, как Галатея, боги оживили статую. Миф завершается счастливым браком.
Шоу переиначил традиционный миф и подал его зрителю в заведомо парадоксальной манере. Взявшись поставить успешный лингвистический эксперимент (чисто рационалистическое пари главного героя с известным мэтром в области фонетики полковником Пикерингом), профессор Хиггинс (в пьесе аналог Пигмалиона) берется обучить малообразованную, некультурную продавщицу цветов Элизу Дулиттл (будущую Галатею) правильной речи, хорошим манерам, культуре общения. Но в ходе эксперимента Хиггинс не сразу постиг, что вместе с развитием кругозора развился и дух Элизы, ее самосознание, а вместе с хорошими манерами в ней появилось и чувство человеческого достоинства.
По замыслу автора, в ходе развития действия пьесы многие герои, принимая человеческое участие в судьбе Элизы, по-своему также выполняют функцию Пигмалиона (полковник Пикеринг, экономка миссис Пирс). Примечательно, что и сама Элиза на каком-то этапе преображения тоже берет на себя функцию созидателя. Глубиной своих чувств она оживляет холодный мрамор души самонадеянного профессора Хиггинса – творца не столько ее внешности, как это было в мифе (красота Элизе дана от природы), сколько имиджа светской дамы (голоса, манер, стереотипов поведения в обществе).
Загадочен финал произведения. Отходя от заданного в мифе о Пигмалионе алгоритма, пьеса Шоу отнюдь не заканчивается счастливым браком Элизы и Хиггинса. Эпатируя зрителя, новоявленная Галатея делает неожиданный выбор – сообщает о помолвке с недалеким молодым человеком Фредди. Так на фоне мифологического сюжета парадоксы этой пьесы озадачивают зрителя.
Вместе с произведениями Бертольта Брехта (1898–1956) в драматургию XX столетия стремительно вошли понятия об «эпическом театре», «очуждении» (Verfremdung), параболическом построении сценического действия в драматургии. Брехт различает два вида театра: драматический («аристотелевский») и эпический. По мнению Брехта, драматический театр апеллирует больше к эмоциям зрителей, стремясь вызвать у воспринимающих сценическое действо страх и сострадание, ощущение глубокого душевного потрясения — катарсиса (от греч. katharsis – очищение). Сопереживание, волнение, утрата различия между сценической постановкой и реальной жизнью – цели того театра, который был основан в античные времена и, по существу, сохранился до наших дней. Напротив, у Брехта общеметодологической установкой эпического театра становится обращение к разуму зрителя. Воспринимающий происходящее на сцене превращается в наблюдателя-аналитика, который должен быть беспристрастным в своих выводах, несмотря на все эмоциональные ситуации, развертывающиеся в зрительном пространстве. В этом смысл эффекта очуждения (Verfremdungseffekt, V-Effekt).
Эстетика Брехта основывается на том, что пьеса нового типа призвана акцентировать внимание зрителя на, казалось бы, давно известном, хорошо знакомом и оттого традиционно воспринимаемом. Причем задача автора заключается именно в том, чтобы через прием «очуждения» попытаться вызвать новые суждения о стереотипно-привычном, традиционно устоявшемся. В качестве средств «очуждающего» эффекта Брехт использует приемы парадокса, композиционного взаимоотражения отдельных сцен, нарочито наивного использования фраз, которые, казалось бы, «выпадают» из общего контекста и вступают в противоречие с сюжетным развитием, но тем не менее следуют логике общего авторского замысла. Аналогичную функцию выполняют зонги (песни в сольном исполнении) и партии хора, на некоторое время прерывающие общий ход сценического действия[214]. К примеру, в пьесе «Жизнь Галилея» на сюжетную канву накладывается демонстрация астрономического эксперимента (пример с астролябией, яблоком, лампочкой и мальчиком Андреа), в качестве внесценического фона используется осведомленность зрителя в законах физики о свободном падении тел. Социальную окраску приобретают сведения о гелиоцентрической и геоцентрической системах мироздания. В постановках брехтовских сочинений используется минимум декораций и театрального реквизита, маски, плакаты, изображения эмблематического содержания, особая подсветка и музыкальное оформление.
В творчестве Брехта активно используется прием параболического построения драматического действия. Парабола (греч. paraboln – сопоставление, притча) – это подвижная содержательно-формальная категория. Она представляет собой иносказательный образ, тяготеющий к символу. «Расширение плана содержания параболы происходит в результате включения предметного изображения в разнообразные подразумеваемые смысловые контексты, благодаря чему создается многозначное иносказание (в отличие от однозначности аллегории и однонаправленности второго плана)»[215].
В основе парабол Брехта лежит дистанцированный повтор сходных ситуаций. Но отдаленность этих ситуаций и рождает ореол несовместимости трактовок одного и того же явления разными героями и автором. Получившая свою окончательную редакцию после атомных бомбардировок японских городов, пьеса «Жизнь Галилея» (1946) Брехта ставит проблему глубочайшей ответственности ученого перед человечеством за все его научные открытия. Галилей Брехта предупреждает, что продвижение ученого в науке может привести его к «удалению от человечества», а «торжествующий клич ученого» может в какой-то миг предвосхитить «всеобщий вопль ужаса» (пер. Л. Копелева).
Галилей – выдающийся ученый эпохи Возрождения, при помощи астрофизического эксперимента доказавший правомерность гелиоцентрических воззрений Н. Коперника и Д. Бруно, в пьесе Брехта не выдерживает экзамена на человеческое достоинство. Перед судом инквизиции (и вопреки всеобщему ожиданию его учеников и сограждан города) он отрекается от своей теории существования Вселенной. Незадолго до того, прогоняя своего бывшего ученика и лже-последователя Муциуса, посмевшего выступить с осуждением материалистических воззрений Коперника, Галилей с гневом произносит в его адрес: «Я говорю вам: тот, кто не знает истины, только глуп. Но кто ее знает и называет ложью, тот преступник». Используемый Брехтом прием параболического рассечения текста заставляет зрителя еще раз вернуться к этой фразе ученого. Но теперь в сходной ситуации отречения от правды оказывается сам Галилей. А предыдущая фраза, проецируясь на судьбу запуганного инквизицией ученого и оттого по ходу пьесы превращаясь в трактовку его собственного поступка-отречения, в глазах зрителя обретает значение исключительно негативной оценки.
Согласие Галилея на отречение контрастирует с настроениями его учеников, надеющихся на силу духа своего учителя. Поэтому три минуты молчания церковного колокола рождают в их сердцах бурю восторгов («Он устоял!»; «Он не отрекся»; «Насилие не всевластно»; «Глупость можно победить..!»; «Человек не боится смерти»; «Какая победа достигнута тем, что один человек сказал – нет!»). Несбыточность гуманистических ожиданий оповещает звук колокола, которому радуется только дочь Галилея: «Он спасен, он не проклят!» Прием параболы позволяет показать несовпадение духовных пространств различных персонажей и их собственные внутренние противоречия.
По художественной функции парабола очень близка к эмоционально-интеллектуальному жанру притчи. Сказания в форме притчи обращают читателя к «этическим первоосновам человеческого существования»[216]. Хотя в притче обнаруживается отсутствие развитого сюжетного движения, однако зачастую ее содержание обретает элементы символического ореола (библейская притча о блудном сыне). Для этого жанра характерны поучительность, тяготение к философским обобщениям, возвышенно-моралистическая патетика. Обычно действующие лица в притче предстают «не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора»[217]. Оттого внешние образы здесь скупо очерчены, а поступки обозначены схематично, что вполне отвечает назначению притчевого жанра – «иллюстрировать идею, касаясь проблем морали, общечеловеческих законов»[218]. Авторские произведения притчевой формы обычно повествуют о силе человеческого духа, неукоснительном следовании героев законам чести, совести, благородства («Чума» А. Камю, «Старик и море» Э. Хемингуэя, «Сотников» В. Быкова, «Белый пароход» Ч. Айтматова).
Так в повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» (1952) обнаруживаются основные черты притчи[219]. Произведение Нобелевского лауреата (1954) пронизано идеей гармонии человека и природы. В повести Хемингуэя природа подана в размеренно-эпической тональности. Современник Хемингуэя, искусствовед Б. Беренсон, отмечая символико-аллегорический смысл и эпическую широту повествования, писал в своей рецензии, что это сочинение американского писателя представляет собой «идиллию о море как таковом, не о море Байрона и Мелвилла, а о море Гомера, и передана эта идиллия такой же спокойной и неотразимой прозой, как стихи Гомера»[220].
Действительно, герой повести воспринимает природу антропоморфно. У него, например, «луна волнует море, как женщину». В достопамятное утро своего отплытия в непредвиденно длительное плавание старик, оставляя позади себя запахи земли, берет курс «прямо в свежее утреннее дыхание океана». Если другие говорят о море «как о пространстве, как о сопернике, а порою даже как о враге», то старик постоянно мыслит о море «как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них». Во время своего плавания он постоянно беседует с жителями океана, находит на безбрежных водных просторах и в их глубинах сородичей человека по духу, поведению и беззащитности.
Рыбак, старик Сантьяго, и его юный ученик Манолин, олицетворяют собой гармоничные взаимоотношения в мире людей. Их связывают подлинная симпатия, искренне-нежная забота друг о друге, взаимная доброжелательность, стремление старика передать свой жизненный и профессиональный опыт, наконец – совместный труд («Жаль, что со мной нет мальчика» – не раз повторяет старик про себя в трудные минуты одиночного плавания). Находясь в море, старик размышляет об одиночестве и своем социальном окружении («Нельзя, чтобы в старости человек оставался один.»). Умение волноваться и тревожиться за живущих рядом служит для него психологическим камертоном глубочайшей человечности. В итоге старик приходит к мнению: «Я ведь живу среди хороших людей» (пер. Е. Голышевой).
Автор скупо, но кинематографически точно очерчивает внешность и действия старика. Описание используется лишь для того, чтобы в нужный момент повествования подчеркнуть значимость поступков и философскую глубину размышлений Сантьяго: «Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается». (Собственно, в портретном описании старика Сантьяго уже содержится зачин повествования и основная идея произведения.) Его внутренние монологи передают наблюдательность, гуманность взглядов, стремление к гармонии с природой и социальным окружением: «Как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды».
История с меч-рыбой («Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного и благородного, чем ты»), а затем и подлинное противоборство с морскими хищниками подчеркивают исключительную волю старика, ставя его в один ряд с мифологическими героями, вступающими в поединок с чудовищами и побеждающими их («Бывшая рыба!.. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше»). Оставшийся один на один с морем, мучимый жаждой, голодный, полубольной, израненный, с натруженными руками, старик проявляет колоссальную силу воли. Он постоянно занимается самовнушением: «Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания, как человек.»; «А боль мужчине нипочем». Из труднейшего противоборства со стихией старик выходит с величайшим достоинством: «Кто же тебя победил, старик? – спросил он себя. – Никто, – ответил он. – Просто я слишком далеко ушел в море».
Философская наполненность повествования делает текст афористичным. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» – вот основной пафос повести-притчи классика американской литературы.
В опыте мировой литературы весьма часто используется прием «иероглифического» языка сновидений (обрядовый фольклор, древние эпосы, средневековые апокрифы, литература эпохи романтизма, психологизм в творчестве писателей-реалистов, произведения модернизма и постмодернизма и др.). Это позволяет авторам, используя фантазийные перемещения персонажей в ирреальные топосы, изображать возможные варианты их судеб. В этих случаях авторское сочинение «превращается в своеобразный тематический коллаж, объединенный смысловым подтекстом символов, эмоциональным фоном переживаний и определенным внутренним сюжетом, где есть свои экспозиция, завязка, развязка»[221]. Включение в сюжет сновидений подчеркивает лиризм повествования, углубляет философски-абстрактное начало в лирическом произведении.
Содержательно-композиционная роль литературных сновидений-иносказаний заключается в том, чтобы попытаться разрешить универсальные, «вечные» философские и этические вопросы, связанные с нравственным идеалом. Через осмысление сложного образно-символического содержания сновидений герои приходят к постижению вневременных, основополагающих для самопознания личности экзистенциальных проблем (добра и зла, истины и блага, веры и неверия, преступления и наказания и др.). Сновидческие микросюжеты позволяют читателю проникать в глубинные пласты подсознания литературных героев. В ходе рецепции текста предлагается самим почувствовать, как «сфера бессознательного в психологии персонажа сознательно, под контролем творящего разума воссоздается писателем»[222]. Отсюда следует, что «бессознательное» литературного героя по-своему условно, так как область его подсознания подчинена логике мышления автора и формируется художником целенаправленно, исходя из концептуально-творческих задач писателя[223].
На протяжении многих веков, от автора к автору, от произведения к произведению вырабатывались свои каноны презентации сновидческих жанров в литературе («роман в романе», сатирический и этнографический очерк, философско-религиозный трактат, культурологическое эссе, дневниковые записи и др.). Обретая выразительную пластичность в слове, «оживали» колоритные образы онейрической (гротескно-сновидческой) фантазии. Органично сочетая реальное и виртуально-гротескное в единой фабуле, писатели изображали изначально заданную конфликтность внутреннего мира человека, образная структура произведений получала философско-медитативный подтекст.
В европейской литературе первой трети XX столетия мастером соотнесения реального с ирреальным был Франц Кафка (1883–1924). В целом ряде его произведений воссоздаются картины сна, ночных видений, выхода из сомнамбулического состояния («Превращение», «Процесс», «Описание одной борьбы», «Сон», «Супружеская чета» и др.). Вместе с тем «то, что по внешней форме выглядит у него прозрачно реалистическим повествованием, на самом деле оказывается организованным по прихотливо-алогичным структурным законам сновидения – то есть авторское сознание неотделимо от созданного мира»[224]. Сновидческие микросюжеты позволяют сформировать двуплановое построение сюжета, показать сферу бессознательного героев. Редко прибегая к метафоре, Кафка тем не менее настойчиво реализует в своих произведениях метафору «кошмарного сна» (причем именно на грани перехода героя от сна к бодрствованию).
Кошмарным сном оборачивается действительность, окружающий мир с его алогичностью, непостижимостью, враждебностью «маленькому человеку». В произведениях Кафки «алогизм и абсурд начинаются, когда человек просыпается». А. Карельский находит этот авторский трюк гениальным «своей дерзкой простотой», ибо не погружение в сон (засыпание с установкой на покой), а выход из сна с думами о новом дне с его непростыми заботами и «утверждает вопиющую абсурдность реального мира, реального бытия человека в этом мире»[225].
Изображению абсурдности мира способствует особая манера письма австрийского писателя: «его сухая, жесткая, без метафор, без тропов, как бы лишенная плоти проза и есть воплощение формулы современного бытия»[226]. Вместе с тем часто в роли развернутой метафоры у Кафки выступает структура произведения в целом («Мост», «Деревья», «Коршун»).
Используя результаты открытий в области психологии (З. Фрейда, К.Г. Юнга), эстетики модернизма (экспрессионизма, сюрреализма, футуризма и др.), естественных наук (А. Эйнштейна), Кафка в своем творчестве исходит из права на существование (и в силу того сосуществование) многообразных форм реалистического искусства. С этим связан заметный акцент именно на формах презентации событийно-содержательного ряда. Художественная вселенная Кафки оказывается разорвана дуализмом мира и человека («алгебра угнетения» – с одной стороны и вынужденная приспосабливаемость человека к бюрократическим инстанциям – с другой). В центре замкнутого пространства большинства кафкианских произведений помещается бюрократическая махина. В отличие от Гоголя, изображавшего бюрократию в трагикомическом свете, и Салтыкова-Щедрина – в комическом, у Кафки возникает зловеще-угрожающий облик социальных институтов государства. Он словно предчувствует появление системы, которая вскоре породит реально фашистские режимы в Европе.
Следствием пространственной сжатости, замкнутости произведений Кафки становится исчезновение из них социально-исторического среза времени. Внутри каждой из этих неподвижных систем остается лишь персонифицированное время. Окутанное налетом трагического, оно неукоснительно приближается к конечному пункту. Такая авторская установка воссоздает особую эмоциональную тональность произведений: Кафка хотя и «не пугает, а страшно»[227].
Очевидно, соизмеряя собственное литературное творчество с теорией относительности А. Эйнштейна, Кафка творит свои малые вселенные, в которых все находится в постоянном движении. Окружающий мир попадает в поле зрения рассказчика, перемещающегося в пространстве. При этом и другие объекты (люди, животные, транспорт) по отношению к воспринимающему их находятся отнюдь не в состоянии покоя. Мир предстает герою в кинетике, герой предстает читателю в динамике («Бегущие мимо»). Одновременно наряду с «моментальными снимками» (увиденное рассказчиком) фиксируется движение мысли героя. Зрительно-слуховые восприятия находят свое отражение в оценочном слове рассказчика. При этом «поток сознания» кафкианских персонажей отличается разнообразием интонационных регистров: плавность, размеренность течения их мыслей то и дело сменяется риторическими вопросами, паузами, восклицаниями, резкими выпадами, неожиданными ассоциациями и нетрадиционными суждениями.
Литературные открытия Кафки-рассказчика отразились в мировой литературе, в том числе в сочинениях зарубежных и российских писателей XX столетия. В 70-е годы заметное влияние Ф. Кафки испытал на своем творчестве и удмуртский писатель Геннадий Красильников (1928–1975). Обнаруженный в архивных материалах Г. Красильникова вполне завершенный рассказ «Рваные сны» (оригинал написан на русском языке) свидетельствует о неподдельном интересе удмуртского писателя к европейской художественной культуре и серьезном обращении со словом.
Рассказ Г. Красильникова «Рваные сны», как и многие рассказы Ф. Кафки, строится на основе взаимодействия подтекстных линий. Переплетаясь, они придают содержанию рассказа цельность и единство. Подтекст обнаруживает себя на уровне сюжета, композиции, хронотопа, отдельных деталей, словесных повторов, сквозных мотивов, художественных реминисценций, недомолвок, общего эмоционального настроя, «потока сознания» героя и др.
По жанровой структуре «Рваные сны» Красильникова – это поток сменяющих друг друга сновидений героя. Шесть снов, образуя микросюжеты, тесно переплетены между собой, создавая «поток сознания». В творчестве Кафки мотив сновидений является одним из основных. Через сновидения автор вводит читателя в ирреально-загадочный мир, от которого герои отчуждены, отрешены. По определению Д. Затонского, в целом, «художественный мир Кафки можно определить как сновидческий»[228].
Можно полагать, что отдельные фрагменты неорассказа (авторское определение жанра) «Рваные сны» напрямую соотносятся с некоторыми рассказами-миниатюрами Кафки из его цикла «Созерцания». Причем в одних случаях эти целостные сюжеты обретают эмблематичность в произведениях Кафки, а у Г. Красильникова сужаются до знакового символа («Ночь», «Тоска»). В других, возникая в сознании рассказчика неким мотивом, видения воссоздают целостные путевые картины из миниатюр Кафки («Пассажир», «Рассеянно глядя в окно», «Окно на улицу» и др.).
Из миниатюры «Пассажир» переходят ситуация поездки (в трамвае – у Кафки, в вагоне поезда – у Красильникова), а также описание тоскливо-эмоционального состояния героя и идея безразлично-отстраненного окружения человека в своей же среде: «…у меня нет никакой уверености насчет моего положения в этом мире, в этом городе, в семье» (Кафка); «До него ровным счетом никому не было никакого дела» (Красильников). Вероятно, из лирических миниатюр «Рассеянно глядя в окно» и «Окно на улицу» в рассказ «Рваные сны» Красильникова приходит мотив тотального одиночества человека в мире. Имеется в виду часто используемое Кафкой схематическое, обратно переосмысленное, дважды перекодированное и низведенное до буквализма содержание метафоры[229]. В нашем случае метафора «окно в мир» представляет собою оппозиционное единство, ибо окно – не только способ сообщения с миром, но и разделяющая грань: «кто живет одиноко.»; «кто с учетом времени суток, погоды, условий, усталый, поводя взглядом между небом и публикой.» (Кафка); «за окнами вагона – темень, дождь и адский ветер» (Красильников).
Миниатюра Кафки «Наездникам к размышлению» привносит тему мимолетности славы победителя, неестественно показных почестей, шумовых эффектов, литавр в честь лидера, отстраненности друзей: «Слава, что ты признан лучшим наездником страны, радует при первых звуках оркестра слишком уж сильно, чтобы избежать раскаянья на следующее утро» (Кафка); «Но слушать тишину после того, как смолкли медные трубы, – мучение» (Красильников).
Образ кондуктора в рассказе Красильникова соотносится с фигурой некоего полицейского из миниатюры Кафки «Комментарий» (имеющей подзаголовок «Не надейся!»). Собственно, здесь полицейский предстает как служитель стихийно-враждебных сил. На просьбу заблудившегося указать ему верный путь на вокзал, он отвечает не просто отказом, но даже, злорадно смеясь, вовсе лишает несостоявшегося пассажира самой надежды выбраться из лабиринта улиц незнакомого города: «У меня ты хочешь узнать дорогу?. Не надейся, не надейся!». В «Рваных снах» Красильникова железная дорога предстает в виде жизненного пути героя, а кондуктор, предупреждающий о приближении конечной станции, становится провозвестником смерти рассказчика: «Ему показалось, что он проехал какую-то половину пути, а может, и того меньше. Так все это неожиданно и страшно.».
Строя свой неорассказ по законам интертекстуальности, Красильников удачно использует прием зеркального отражения в созданном им тексте микросюжетных элементов из нескольких рассказов австрийского писателя.
Состоящяя из тридцати набросков-зарисовок, связанных образом знаменитого физика, повесть «Сны Эйнштейна» Алана Лайтмана (род. 1948 г.)[230] представляет читателям виртуально-реальный мир, заключенный в рамки временных координат. При этом автор повести-гипотезы (тоже физик по образованию) предлагает множество моделей временного исчисления событий и человеческих судеб. С одной стороны, учитывая, а с другой, отходя от современных, ставших наиболее традиционными, представлений о линеарности или цикличности (более архаичной системы) времени, А. Лайтман стимулирует читательскую фантазию.
Каждая новелла-зарисовка написана так, что на фоне протекания внешне банальных сюжетов вырисовываются отнюдь не простенькие задачки по физике, затрагивающие проблемы темпоральных перемещений человека в пространстве. Вместе с тем оказывается, что решение каждой физической задачи в итоге выливается в некие авторские нравственно-этические обобщения. В рамках каждой из новелл А. Лайтман прибегает к утонченным интертекстуальным переходам (от художественного повествования к физическим измерениям и наоборот). Для этого он избирает способ путешествий-сновидений.
В 1953 г. парижскому зрителю была представлена пьеса «В ожидании Годо», в которой на протяжении всего действия этот загадочный Годо так ни разу и не появляется. Автором пьесы был Сэмюэль Беккет (1906–1990) – открыватель нового направления в западной драматургии XX в., получившего название «театр абсурда».
Искусство абсурда (от лат. absurdus – нелепый), как одно из направлений авангардизма, порывает с предшествующей традицией. Отсюда возникают понятия — антилитература, антидрама, антироман, антитеатр. Драма абсурда предполагает отсутствие сюжета, характеров (в их традиционном понимании). С помощью пародии и гротеска подчеркивается нелепость существования человека в мире. В мировоззрении абсурдистов обнаруживается тезис экзистенциалистов о бессмысленности существования.
В своей совокупности произведения Беккета создают новую художественную вселенную. Для него характерна особая техника письма – игра со словом. но в этой манере авторской стилизации «есть свои хитрости, включая более глубокую хитрость – обнажение игры. Главная стратегическая уловка – личины и образы, которые отделяют говорящего от слова»[231]. Автор стремится предоставить слово непосредственно самим героям, показать их характеры в «потоке сознания», а самому отдалиться от чужого слова. Оттого более привычный для литературы эффект соприсутствия автора и героя в едином хронотопическом измерении у Беккета подменен эффектом их параллельного сосуществования в разных пространствах: автор выступает лишь в качестве наблюдателя издалека.
Произведения Беккета созданы с учетом того, что они будут произнесены вслух, озвучены в радиопостановке или разыграны на сцене перед зрителем. Оттого автора существенно интересует единство звуковой и семантической сторон слова. Будучи писателем-билингвом, принадлежащим к двум культурам – французской и английской, он создавал свои произведения на обоих языках и сам же переводил их на другие языки. Полифоничность реального мира Беккет воссоздает через языковые соотражения в едином пространстве создаваемых им текстов. Отсюда в его сочинениях наблюдаются «особый поворот слова, эллиптичность, показательная игра на согласных и гласных»[232].
Как создателя концептуально-авторских пьес, где все подчинено стихии актерского мастерства, Беккета интересует перспектива звучащего слова – в постановке, в действии, в его протяженности во времени, в единстве смысла, звука, шумовых эффектов, в воздействии такого стереофонического звучания на зрителя. В его пьесах весьма существенна роль соотношения слов и пауз (по Беккету, этих «капель молчания сквозь молчание»). Так писатель дает зрителю ощутить свою сопричастность к происходящему, ибо речи героев Беккета зачастую напоминают «монологи после космической катастрофы»[233].
Микромир беккетовских героев разрастается до вселенского масштаба. При кажущихся неподвижности, застылости, оцепенении героя через его индивидуальные переживания Беккет способен «передать одновременно и приобщенность человека к миру, его зависимость от биологических процессов, и разобщенность с ним»[234]. Сознание героев включает в себя одновременно и минувшее, и текущее, и надвигающееся. В его произведениях зачастую трагическое и драматическое в переживаниях героя уживаются с иронией и сарказмом автора.
В сочинениях Беккета 70-х годов происходит нивелирование повествовательного и комического начала и, напротив, усиливается лирический настрой. А выразителем новых эстетических установок писателя становится особый жанр — монодрама. К числу таких принадлежит и ранняя пьеса Беккета «Последняя лента Крэппа» (1957). В день своего 69-летия одинокий старик, бывший писатель-неудачник вспоминает прошлое. При этом используется оригинальный технический прием: в качестве собеседника старого Крэппа выступает сам Крэпп. С магнитофонной ленты тридцатилетней давности – тех времен, когда герой празднует пик своей жизни – 39-летие, звучит самоуверенный, бодрый, насмешливый, нагловатый, но и по-своему немного растроганный воспоминаниями о себе девятнадцатилетнем голос прежнего Крэппа.
Пьеса, построенная по принципу «матрешки», представляет символически эмоциональное повествование о трех периодах жизни человека (непосредственность восприятия мира в молодости, самоуверенность в зрелые годы, горечь одинокой старости). Пьеса-пантомима учитывает возможность соотражения временных регистров в самом сценическом действии. Мимика, выражение глаз (застывший взгляд, проступающие слезы), неподвижность позы, кряхтение, оттенки смеха – от ласкового до злобствующего – все это удивительным образом соотносит внутренний мир пожилого Крэппа с душевными переживаниями героя в пору его зрелости. По ремаркам автора, мимика 69-летнего Крэппа (настоящее героя) детально воспроизводит выражение лица, которое могло быть при произнесении фраз, записанных на магнитной ленте тридцать лет назад. И тут же, следуя за мыслью старика Крэппа, воспринимающего свой голос в давности, его лицо обретает оценивающее выражение, а в действиях появляются жесты, свидетельствующие об аффектном состоянии героя: то агрессии (рвет магнитную ленту), то тихого умиротворения (предается воспоминаниям о прошлом). Обрекший себя на тотальное одиночество, замкнувшийся в себе бывший неудачник грустит о прошлом, в котором вопреки его установке на ограниченность общения с людьми, у него все-таки было нечто искренне-радужное (красочное описание сцены свидания с возлюбленной). Пьесы Беккета, построенные на глубоком подтексте, требуют навыков декодирования текста.
5
Изучение зарубежной лирики с опорой на оригинальные тексты и их переводы на языки народов России
Форма сонета, возникшая еще в XIII столетии, просуществовала до наших дней. В стихотворении «Сонет» А. Пушкин поэтически проследил наиважнейшие этапы развития сонетной лирики в мировой литературе. В Италии ею увлекались Данте и Петрарка, посвящая свои сочинения возлюбленным Беатриче и Лауре («Суровый Дант не презирал сонета, /В нем жар любви Петрарка изливал…») Под «певцом Литвы» в пушкинском стихотворении подразумевался автор «Крымских сонетов» А. Мицкевич, в «певце Макбета» безошибочно узнавался В. Шекспир.
Сонетная лирика занимает большое место в творчестве Вильяма Шекспира (1564–1616). В многообразии художественных образов и лирико-философских настроений он изображал современную ему действительность, но эти произведения и по сей день не утратили своей силы и эстетической привлекательности. Приступая в школе к рассмотрению лирики Шекспира, следует остановиться на форме сонета и сообщить учащимся, что стихотворения этого жанра всегда имеют четырнадцать строк. Классическая итальянская форма сонета традиционно состоит из двух четверостиший (катренов) и двух трехстиший (терцетов). Система рифмовки в итальянском сонете имеет две вариации: abba – abba– ccd-ede; abab-abab-ccd-eed. Чаще всего в стихотворении используется пятистопный ямб. Модифицированный английский сонет, которым писал Шекспир, состоит из трех четверостиший и заключительного дистиха (куплета) с несколько иной системой рифмовки: abab-cdcd-efef-gg. Жанр сонета не допускает повторения слов (кроме союзов, артиклей, предлогов). Первый катрен, являясь экспозицией, вводит в тему стихотворения, во втором излагается развитие темы. В заключительном терцете или дистихе-куплете содержатся некие обобщения. Сама форма двустишия зачастую помогает Шекспиру выразить авторские сентенции афористически лаконично («Добро, краса и верность жили врозь, /Но это все в тебе одном слилось»[235] – сонет 105). Иногда заключительные сентенции представляют собой резкое противопоставление всему, о чем говорилось автором ранее.
Чтобы учащимся было легче сориентироваться в сонетном цикле Шекспира, следует обратить внимание на его композицию, которая, по мнению А.А. Аникста[236], состоит из трех крупных блоков, выделяемых по объекту изображения.
А. Сонеты, посвященные Другу (1—126).
1. Воспевание Друга (1—26);
2. Испытание дружбы (27–99): а) горечь разлуки (27–32); б) первое разочарование в Друге (33–42); в) тоска и опасение (43–55); г) растущее отчуждение и меланхолия (56–75); д) соперничество и ревность (76–96); е) «зима» разлуки (97–99).
3. Торжество возобновленной дружбы (100–126).
Б. Сонеты о Смуглой возлюбленной Поэта (127–152).
В. Изображение радости и красоты любви (153–154).
Нетленность прекрасного в природе, постоянное возрождение красоты – тема стихотворения, открывающего лирический цикл Шекспира. В 1-м сонете сравнением свежего бутона розы с увядшим цветком в аллегорической форме утверждается возможность сохранения прекрасных черт юности в новом поколении, идущем на смену старшему. В переводе этого сонета на марийский язык, осуществленном М. Казаковым, сохранена метафорика и символика образов, аллегорический смысл содержания, величественно-торжественная тональность стиха, изящная легкость формы шекспировского произведения. Первая строфа этого сонета на марийском языке звучит так: «— Моторлык иле, ит шапалге, – манын. / Ме вондерла деч вучена саскам. / Тек роза жап шумеке кавыска, – / У роза тудым шарныкта, тузланыл.» (Красота живет, не блекнет, – говорят, / Из стебелька мы ждем цветка. / Пусть для розы время влюбленности проходит, – / Новая роза ее напомнит, став изящной[237].)
Мотив повторения человеческой жизни в наследниках запечатлен в символике образов 7-го сонета. Аллегорией жизненного начала служит солнце с его повторяющимися восходами и закатами, хвалебными гимнами земных существ в честь него: «все земное шлет ему привет, /Лучистое встречая божество». По мысли поэта, апофеозом циклических круговращений солнца во Вселенной и его ежедневных появлений над планетой Земля должен стать приход в мир нового человека: «Оставь же сына, юность хороня. / Он встретит солнце завтрашнего дня!» С картинами утреннего зарева на небосклоне ассоциируется рассвет жизни человека. В переводе С. Шавлы на чувашский язык сонет Шекспира обретает дополнительную метафорическую красочность: «Кудне-пудне чарса, хевел тухассан, /Херме пудлана хелхемне сапсан» (Вытаращив глаза, солнце восходит, Накаливаться начинает, искры рассыпает)[238].
Значительное место в сонетном цикле Шекспира занимает тема Поэта и Поэзии, особую актуальность она приобретает в сонетах 76, 78–86 и др. Поэт видит свое назначение в сочинении утонченных по форме и содержанию, затрагивающих сердце и ум человека мелодично-афористичных произведений: «Пой, суетная муза, для того, кто может оценить твою игру…» (100). Хотя автор признается, что его «стих не блещет новизной, разнообразьем перемен нежданных», но он все-таки с удовлетворением отмечает, что его мастерство достигло такой высоты, когда сочинителя «по имени назвать… в стихах любое может слово» (76), и оттого сам стих, тщательно отточенный поэтом, «звучит торжественно и ново» (108). Говоря о нетленности поэтических строк, витающих в эфире и после кончины их сочинителя («Мне памятником будут эти строки»), Шекспир, подхватывая традиции О. Хайяма, уподобляет бренное тело человека осколкам сосуда для вина: «Ей <Смерти> – черепки разбитого ковша, /Тебе – мое вино, моя душа» (74).
Удмуртский поэт Г. Сабитов, переведший несколько сонетов английского классика, в том числе и 76-й, отмечал, что «школу сонета» он прошел у великого Мастера эпохи Возрождения. Действительно, его собственный венок сонетов «Шунды но жужа но…» («Солнце восходит») написан в подражание Шекспиру: каждое из пятнадцати стихотворений состоит из трех катренов и дистиха, используется пятистопный ямб, что как нельзя лучше соотносится с орфоэпикой удмуртского языка, в котором ударение всегда падает на последний слог в слове. Выражая со..бственное писательское кредо, Г. Сабитов отмечал: «…Мон турттисько тани та вуж кабе / Тэрытыны аслам сюлэмелэсь / Косэмъёссэ, чик ватытэк…» (Я стремлюсь в эту старую форму стиха / Вместить своего сердца / Веления, вовсе без утайки.)
По-своему перекликается с поэзией Шекспира сонетная лирика Р. Гамзатова. В ряде стихотворений аварского поэта звучит тема судьбоносного значения творчества художника для нации в целом. Признанный горский поэт, подчеркивая благотворное влияние эмоционального слова на настроение человека и дух народа, обращается к культурно-историческим традициям прошлого («стихами Авиценна / Писал рецепты для больных людей»; «излечивал мгновенно / Больных своею музыкой Орфей»). Осмысливая опыт своих предшественников, Р. Гамзатов останавливается и на трагических сторонах личной жизни поэтов («О чьей красе, печалясь, Пушкин мог / Писать стихи про чудное мгновенье?»; «Махмуд не пал бы много лет назад, / Когда б Марьям сдержала б слово честно»; «Не дали бы Эльдарилаву яд, / Когда б верна была его невеста»).
Следуя гуманистическим традициям эпохи Возрождения, когда обычный человек был признан прекраснейшим существом Вселенной, Шекспир высоким слогом повествует о взаимоотношениях между людьми, преклоняясь перед физической красотой и внутренним величием человека. Идеал такого человека в сонетах Шекспира – юный Друг.
Стихи, посвященные Другу, имеют несколько тем. В частности, первые девятнадцать и некоторые другие сонеты развивают тему смерти, бренности земного бытия человека. Согласно средневековым канонам, Смерть предстает здесь в облике старца с косой в руках: «Резец годов у жизни на челе /За полосой проводит полосу. /Все лучшее, что дышит на земле, /Ложится под разящую косу» (60). Оттого умудренный жизнью Поэт дает прекрасному юноше совет – поскорее жениться и оставить миру в потомках свой внешний облик: «Пусть красота живет не только ныне, /Но повторит себя в любимом сыне» (10). Свою задачу Поэт видит в том, чтобы в стихах навечно запечатлеть образ любимого Друга: «Но время не сметет моей строки, /Где ты пребудешь смерти вопреки!» (60); «Замшелый мрамор царственных могил /Исчезнет раньше этих веских слов» (55); «Твой памятник – восторженный мой стих» (81).
В сонетах аварского поэта Р. Гамзатова также встречается мотив преодоления старости и смерти: «Все то хорошее, что было в нас, /Досталось нашим дочкам и осталось». Как и у Шекспира, время у него предстает как феномен, угрожающий физическому существованию человека: «Ты, время, как палач, в урочный час, /Не оглашая приговоров длинных, /Торжественно лишаешь жизни нас – /Всех равно: и виновных, и невинных» (пер. Н. Гребнева).
По мнению Шекспира, уважительное отношение к ближним, следование законам чести, благородство мыслей и поступков, надежная поддержка в совместных делах составляют основу взаимоотношений между истинными друзьями.
Исследователи сонетной лирики Шекспира, А. Аникст, Р. Якобсон и А. Финкель, сопоставляя тексты переложений 66-го сонета, осуществленных разными авторами (Н. Гербелем, М. Чайковским, Б. Пастернаком и др.), отмечают, что в переводе С. Маршака этот сонет обретает высокую патетику, торжество поэтического слога, величавую приподнятость речи. Эмоциональный тон С. Маршака в какой-то степени становится даже более возвышенным, нежели у самого автора оригинального текста. В подстрочном переводе, выполненном А. Финкелем, сонет Шекспира звучит так: 1) «Tired with all these, for restful death I cry» – Утомленный всем, я призываю всеуспокаивающую смерть (покой смерти), 2) «As, to behold desert a beggar born» – Видя достоинство от рождения осужденным (обреченным) на нищету», 3) «And needy nothing trimm'd in jollity» – И пустое ничтожество процветающим в веселье (блеске), 4) «And purest faith and unhappily forsworn» – И чистейшее доверие (веру) злосчастно (недостойно) обманутым (одураченным), 5) «And gilded honour shamefully misplaced» – И позлащенные почести, позорно воздаваемые, 6) «And maiden virtue rudely strumpeted» – И девственную добродетель, жестоко поруганную (попранную), 7) «And right perfection wrongfully disgraced» – И истинное совершенство, обидно оскорбленное (в несправедливой опале), 8) «And strength by limping sway disabled» – И силу, затираемую хромой (недостойной) властью, 9) «And art made tongue-tied by authority» – И искусство, осужденное начальством (властями) на молчание, 10) «And folly (doctor-like) controlling skill» – И глупость, наставительно (докторально) проверяющую знание, 11) «And simple truth miscall'd simplicity» – И простодушную (честную) правдивость, называемую глупостью, 12) «And captive good attending captain ill» – И порабощенное добро в услужении у победившего зла. 13) «Tired with all these, from these would I be gone» – Утомленный всем этим, я бы хотел избавиться (уйти) от всего, 14) «Save that, to die, I leave my love alone» – Если бы, умирая, мне не пришлось оставить одниноким того, кого люблю (мою любовь).
Как следует из подстрочника, все стихотворение Шекспира, содержанием которого является картина «растленности века», построено на антитезах, образующихся в результате противопоставления абстрактных понятий (прием олицетворения, персонификации Добра и Зла). Ритмизация текста достигается за счет 10-кратного повтора анафорического союза «and» (и).
В поэзии Р. Гамзатова также встречаются мотивы, подобные тем, которые рассматриваются в 66-м сонете Шекспира: « Ужели я настолько нехорош, / Что вы на одного меня напали, / Все недруги людские: зависть, ложь, / Болезни, годы, злоба и так дале?» (Пер. Н. Гребнева). С философскими воззрениями Шекспира перекликаются строчки стихотворений-размышлений калмыцкого поэта Д. Кугультинова (обычно это его двенадцатистишия): «Пусть не смеется силою обильный / Над слабым…»; «Пусть человек не молится насилью: / Тот, кто сегодня силой знаменит, / Быть может, завтра станет жалкой пылью / Иль как трава степная отгорит» (пер. – С. Липкина).
Заключительное двустишие-куплет в сонетной лирике Шекспира несет на себе основную смыслообразующую функцию, придает стихотворению логическую завершенность и философскую заостренность. Пожалуй, этот композиционный прием по-своему роднит сонетную лирику Шекспира с двенадцатистрочными стихами Д. Кугультинова. Развернутые сюжеты-аналогии и авторские рассуждения в сочинениях калмыцкого поэта также завершаются афористичными, философски-образными двустишиями: «Лишь у лентяя сердце, черным комом / Упав, истлеет, станет невесомым»; «Ведь человека человеком числят, / Когда весь мир вместит он и осмыслит»; «Знай – ненавидеть мир нельзя: /В нем как-никак твои друзья» (пер. Ю. Неймана).
Из наблюдений над содержанием сонетов Шекспира становится очевидным, что мужскую дружбу и верность поэт ценит выше привязанности к женщине. Возлюбленная лирического героя далека от того идеала, что воспевался предшественниками Шекспира. Она капризна, коварна, изменчива в чувствах. Тем не менее, видя ее пороки и осуждая поведение, Поэт сердцем предан своей возлюбленной: «Мои глаза в тебя не влюблены, /Они твои пороки видят ясно. / А сердце ни одной твоей вины / Не видит и с глазами не согласно» (141).
В знаменитом 130-м сонете воссоздан облик вполне земной женщины. Ее глаза не имеют ничего общего с солнцем («My mistress' eyes are nothing like the sun»); коралл краснее ее губ («Coral is far more red than her lips' red»); нельзя уподобить пышной восточной розе ее щеки («But no such roses see I in her cheeks»); не белоснежна кожа ее груди («If snow be white, why the her breasts are dun»); а волосы схожи со спутавшимися нитями жесткой проволоки («If hairs be wires, black wires grow on her head»). Весь сонет – это противопоставление обычной земной женщины общепринятому идеалу шекспировских времен: светловолосой, светлокожей, светлоокой красавице. В своем сонете Шекспир отходит от традиционного описания женщины как богини, каждая деталь у него подчеркивает живой облик смуглянки.
Из любовных стихотворений Шекспира для анализа в школе может быть взят 102-й сонет. Этот поэтический шедевр обладает глубоким смыслом и особой мелодичностью. Воспевая постоянство человеческих чувств, искреннюю привязанность и преданность влюбленных, автор использует различные стилистические приемы: ассоциативный ряд, усложненный тип метафор, развернутую антитезу, мифопоэтическую символику и др. Так, под именем Филомелы скрывается образ соловья (отдаленная ассоциация с античным мифом трагической тональности о превращении в птицу девушки, изувеченной преследующим ее жестоким похитителем и вновь по воле Зевса-защитника обретшей язык в нежной трели маленькой пташки). Любовь лирического героя соотносится с весенним расцветом в природе, со звучными гимнами соловья в брачный период. Весь текст строится на лингвосеманти-ческих соонесениях. Для этого Шекспир использует синонимические образования: in the spring – in summer's front (весной – на пороге лета); summer – growt of riper days (лето – более поздний сезон); stops her pipe – I hold my tongue (перестает играть – я умолкаю). Более активно автор применяет антитезу: the night – dear delight (ночь – дневные лучи); love is strengthen'd – more weak in seeming (любовь становится сильней – кажется, что она ослабевает); I love not less – less the show appear (люблю не меньше – все меньше показываю); mournful hymns – wild music (печальные гимны – буйная музыка); love was new – sweets grown common (любовь нова – сладость обычна).
С. Маршаку, нашедшему в русском языке удачную словоформулу «Люблю нежней, – но не для многих глаз», удалось адекватно передать смысл и эмоциональный тон оригинального стихотворения Шекспира. Следуя авторскому тексту и последовательно переходя от минорных тонов к мажорным, а затем снова к минорным, главную мысль стихотворения переводчик спрятал за эффектно-броской метафорой, полученной путем соединения двух фразеологических сочетаний: «Торгует чувством тот, кто перед светом Всю душу выставляет напоказ». Русский переводчик сохранил приверженность автора синонимическим (люблю – люблю нежней; реже говорю – умолк; пропел – не пою) и антонимическим образованиям в тексте (гремит в полночный час весной – флейту забывает летом). – С. Маршаку удалось воспроизвести ритмомелодическую тональность шекспировского стиха. Не случайно М. Таривердиев именно это стихотворение положил на музыку.
У Р. Гамзатова много сонетов посвящено любви, возвышающей человека и создающей личность («Любовь – вот снадобье от наших бед»). Стихи Гамзатова проникнуты уважительно-почтительным чувством к женщине. В любовных сонетах его лирический герой предстает умудренным жизнью, с сединами на висках, не перестающим и в зрелом возрасте восхищаться обликом любимой и ее духовными качествами: «Ты среди умных женщин всех умнее, / Среди красавиц – чудо красоты». Используются и аллегории. Например, в одном из стихотворений Гамзатова любовь определяется как бесценный дар, ниспосланный самим Всевышним («Ларец опущен с неба на цепях…»). Этот образ, несомненно, перекликается с соответствующими мотивами из сонетов Шекспира, в которых любовь сравнивается с сокровищем, запертым в шкатулке. Собираясь в дальнее путешествие, герой запер под ключ драгоценности, но забыл спрятать самое сокровенное – свою любовь, и ее похитил вор (сонет 48). В сонете 52 описывается другая ситуация: владея драгоценным сокровищем любви, поэт всегда может отомкнуть свою шкатулку, дабы насладиться зрелищем его.
Часто Шекспир обращается к развернутым в самом сюжетном повествовании метафорам. Так, в 8-м сонете счастливая семья уподобляется слаженному оркестру («стройно согласованные звуки /Упреком одиночеству звучат»). В 30-м основу сюжета составляет судебная процедура (в качестве свидетелей на заседании суда выступают воспоминания Поэта). В 74-м сонете смерть ассоциируется с «арестом без выкупа, залога и отсрочки». Образ Друга в 24-м сонете уподобляется портрету, сделанному гравером («Мой глаз гравером стал и образ твой / Запечатлел в моей груди правдиво»). В 80-м сонете начинающий Поэт, прославляющий возлюбленную, предстает как мореплаватель, дерзнувший выйти в открытый океан на маленькой лодочке. Любовь может сравниваться то с путеводной звездой для мореплавателя (116), то с недугом и лекарственным зельем (118, 147), то с состоянием голода и жажды (56), то с весенними трелями соловья (102), то с батальными сценами (149). Разлука соотносится с океаном (56), чувства влюбленного в разлуке – с повадкой коня (50, 51). Метафорические уподобления у Шекспира часто опираются на литературно-мифологический контекст, обнаруживаются отклики на легенды об Амуре и Психее (153, 154), Геро и Леандре (56), Филомеле, обретшей свое второе рождение в облике соловья (102), о коварных обольстительницах Сиренах (119), а также на поэзию трубадуров эпохи рыцарства (80, 106), на символику из восточной лирики (74).
В отличие от драматургии с многогеройными конфликтами сонетный цикл английского классика отражает противоречия души одного человека – лирического героя, пытающегося охватить внутренним взором тайны Вселенной и социального устройства мира. В начале цикла лирический герой не очень искушен в жизни, верен благородным идеалам и полон иллюзий. Затем он проходит через сложные жизненные испытания, в результате которых дух его закаляется. Испытывая взлеты и падения, совершая ошибки и благородные поступки, он обретает понимание сложности и противоречивости самой действительности. Рассуждая в классе о характере и чувствах лирического героя, важно отметить, что он не тождествен автору. Наделенный автобиографическими чертами писателя, герой все же является плодом его воображения и фантазии. В итоге изучения шекспировских сонетов у школьников должны сложиться обобщенные образы лирического героя, его друга и возлюбленной.
Шекспир очень своеобразно использовал излюбленную форму сонета в своей трагедии «Ромео и Джульетта». Строки сонетной формы появляются в наиболее важные моменты сюжетного развития драмы – в прологах перед первым и вторым действиями ^ор). Поскольку с древних времен в драматургии Хор являлся выразителем авторской точки зрения на события, искушенному зрителю шекспировских драм становилась очевидна позиция самого создателя пьесы. Чтобы активизировать воображение зрителей и сконцентрировать их внимание на сюжетных перипетиях трагедии, в прологах из «Ромео и Джульетты» автор прямо обращается к зрителям и делает их реальными участниками действия и свидетелями трагических коллизий: «Их жизнь, любовь и смерть и, сверх того, / Мир их родителей на их могиле / На два часа составят существо/Разыгрываемой перед вами были» (пер. Б. Пастернака).
В обоих прологах просматривается фабула произведения («Две равно уважаемых семьи Ведут междоусобные бои», «Друг друга любят дети главарей»), очерчивается проблематика трагедии («Исконная вражда семей меж ними /Разрыла пропасть страшной глубины»), имеется указание на место действия (Верона) и основных участников драмы. При этом, как всегда, Шекспир использует метафоры, символы, сравнения.
Глубина сонетной лирики Шекспира, Петрарки, Данте была по достоинству оценена в последующие столетия. Сонеты писали Мильтон, Камоэнс, Гёте, Мицкевич, Лонгфелло, Бодлер, Бехер, Межелайтис и др. В России особый интерес к сонету проявился у поэтов серебряного века: И. Анненского, Вяч. Иванова, В. Брюсова, А. Ахматовой, И. Бунина и др. Из национальных поэтов в России сонетом увлекались Р. Гамзатов (авар.), К. Кулиев (балкар.), А. Шогенцуков (кабард.) А. Бик, М. Казаков, В. Колумб (марийск.), Г. Сабитов (удм.), В. Паймен, С. Шавлы, Теветкел Микул (чуваш.) и др. В мировой литературе шекспировские реминисценции отразились как на уровне формы сонета (три четверостишия и дистих), так и содержания. Многими авторами в сонетах затрагивались сюжеты шекспировских пьес: «Провалы улиц городских бездонных…», «О, память драгоценных вечеров…» (Г. Лонгфелло); «Спокойные прикосновенья рук…» (И.-Р. Бехер); «Мудрец мучительный Шакеспеар…» (Ф. Сологуб); «Средь инструментов всех волшебней лира…» (К. Бальмонт).
В одном из сонетов Р. Гамзатова угадывается шекспировский мотив из «Ромео и Джульетты»: «…мне кажется порою, /Как будто мы с тобой воскрешены / Из повестей старинных, где герои / Погибнуть от любви обречены» (пер. Н. Гребнева). В стихотворении Н. Гумилева «Когда вступила в спальню Дездемона….» представлен образ неумолимого Отелло, «черного мавра со взорами дракона». В лирической пьесе К. Бальмонта «Заклятый дух на отмели времен» воспроизведены наиболее существенные детали трагедии «Макбет», в особенности ярок образ главного героя, неожиданно ставшего Гламисским и Кавдорским таном, который, «от страшных ведьм приявши гордый сон», по существу, «дьявольским был сглазом ослеплен». Сам Шекспир, назван автором Эвонским лебедем (так как родился в г. Страдфорд-на-Эйвоне) и величайшим поэтом, который «сердец изведал глубь и цвет».
Сюжеты шекспировских произведений нашли отклик не только в сонетной лирике российских и зарубежных поэтов, но и в иных формах литературного творчества. В частности, на уроках в школе могут быть использованы литературные реминисценции из пьесы Б. Шоу «Смуглая леди сонетов», повестей И. Тургенева, Н. Лескова, лирики А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, К. Кулиева, фрагменты из литературно-критических работ И.-В. Гёте, К. Станиславского и др. Обращение к сонетной лирике Шекспира может стать началом подробного разговора о его творчестве. На факультативных занятиях по зарубежной литературе учащимся можно предложить целый спецкурс по творчеству английского классика эпохи Возрождения. Ниже предлагается примерная тематика уроков проблемного типа по творчеству Шекспира для учащихся старших классов.
1. «Что может мозг бумаге передать?..» (Биографические сведения о Шекспире. Увлечение Шекспира сценическим искусством. Театр «Глобус».)
2. «Пой, суетная муза, для того, кто может оценить твою игру…» (Урок по сонетной лирике Шекспира.)
3. «Исконная вражда семей меж ними / Раскрыла пропасть страшной глубины». (Урок по трагедии «Ромео и Джульетта».)
4. «Чувствительность – высоких душ несчастье…» (Урок по трагедии «Отелло».)
5. «…у меня в груди / Всё вытеснено вон душевной бурей». (Урок по трагедии «Король Лир».)
6. «…Макбет – злодей / Без ваших колдовских затей». (Урок по трагедии «Макбет».)
7. «Век расшатался и скверней всего, /Что я рожден восстановить его….» (Урок по трагедии «Гамлет».)
8. «Шекспир! И несть ему конца!» (О шекспировских реминисценциях в зарубежной и отечественной литературе. Шекспировские постановки на сценах республиканских театров в Татарии, Бурятии, Якутии и других регионах России.)