Рыбаки Григорович Дмитрий
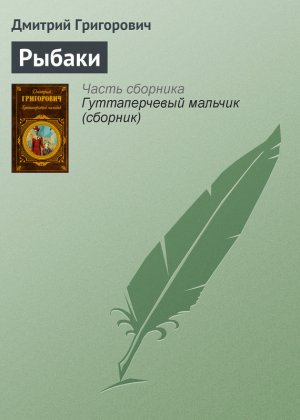
— Да, — трагичным тоном, качая головой, согласился отец.
— Это мне кое о чем напомнило. — Офицер щелкнул пальцами. — Вы не пытались связаться с родственниками, живущими неподалеку?…
— Да, но вряд ли он подался к ним. Мои сыновья редко навещали дальних родственников, разве что когда были совсем маленькие, да и то в сопровождении меня или матери. К тому же почти вся родня сейчас в городе и никто его не видал. Они приехали на похороны его брата, которые завершились всего несколько часов назад.
В этот момент офицер взглянул на меня. Я как раз присматривался к нему, заметив очевидное сходство с военным в темных очках на портрете, висевшем над столом: это был нигерийский диктатор, генерал Сани Абача.
— Я понимаю, о чем вы. Мы будем стараться и в то же время надеяться, что он сам вернется — в свое время.
— Мы тоже надеемся, — несколько раз произнес отец глухим голосом. — Спасибо за все, сэр.
Офицер еще о чем-то спросил отца, но я не расслышал — снова углубился в свои мысли. Передо мной возник образ Икенны, с ножом в животе. Наконец отец и полицейский встали, пожали друг другу руки, и мы покинули кабинет.
А еще грибок-Боджа умел самостоятельно проявляться. Спустя четыре мучительных дня, в течение которых никто не имел ни малейшего представления, где он и что с ним, он объявился. Пожалел мать, которая чуть не умирала от горя, или же понял, что отец тоже вымотан случившимся и больше не может находиться в доме. Мать ругала отца и без конца во всем винила. Когда он только вернулся, узнав о смерти Икенны, она выбежала во двор, распахнула дверцу машины и вытащила его из салона под дождь. Схватила за воротник и, чуть не душа, принялась кричать:
— Я же говорила! Я говорила, что они ускользают из моих рук! Предупреждала тебя, предупреждала! Эме, ты ведь знал, что если в стене нет трещин, то ящерица сквозь нее не проникнет. Ты ведь сам знал, Эме.
Она не отпускала его, даже когда прибежала разбуженная криками миссис Агбати, наша соседка, и стала просить мать впустить отца в дом.
— Не впущу, нет! — рыдая еще сильнее, упиралась мать. — Взгляни на нас, ты только взгляни, ты взгляни. Мы дали трещину, Эме, мы раскололись и поглотили множество ящериц.
Мне никогда не забыть, как отец задыхался и мок под дождем, проявляя такую выдержку, на которую, как я думал — и мог бы поклясться, — он не способен. Наконец мать оттащили от него. За последующие четыре дня она еще много раз пыталась напасть на отца, но ее сдерживали те, кто приходил нас утешить. Возможно, Боджа видел и то, как Нкем без конца ходит за отцом и ревет, потому что мать забывала кормить ее. Обембе по большей части приглядывал за Дэвидом, который иногда принимался реветь без видимой на то причины и один раз даже заработал затрещину от раздраженной матери. Наверное, Боджа все это видел и ему стало жаль всех нас. Или он просто не мог больше прятаться и ему пришлось открыться. Никто уже никогда не узнает.
Он покинул укрытие вскоре после того, как мы с отцом вернулись из участка. На экране телевизора как раз появилось его фото — где он, слегка присев, замахивался на камеру, словно собираясь сбить фотографа с ног, — с припиской «Пропал мальчик». Прямо перед этим показывали репортаж о том, как наша олимпийская сборная по футболу прилетела в Лагос с золотом и как в аэропорту их встречала толпа болельщиков. Мы — Обембе, отец, Дэвид и я — ели ямс в соусе на пальмовом масле. Мать, все еще в черном, лежала на ковре в другом конце гостиной. Нкем была на руках у Мамы Босе, аптекарши. Из родственников осталась только одна тетушка, да и та собиралась вернуться в Абу ночным рейсом на автобусе. Она сидела рядом с Мамой Босе и нашей матерью. Мать беседовала с обеими женщинами, рассуждала о мире в душе и о том, как люди отнеслись к нашему горю, а я смотрел в телевизор: Августин Джей-Джей Окоча пожимал руку генералу Абаче на аэродроме близ Асо-Рок, — и тут в дом с криками вбежала миссис Агбати. Она заглянула к нам взять воды из одиннадцатифутового колодца, одного из самых глубоких в районе. Соседи — особенно семья Агбати — частенько пользовались им, когда их собственные колодцы пересыхали или вода в них становилась непригодной к питью.
Бросившись на пороге на пол, она закричала:
— О нет! О нет!
— В чем дело, Боланле? — спросил отец, вскакивая с места.
— Он… в колодце, о-о-о-о, — выдавила из себя миссис Агбати, стеная и извиваясь на полу.
— Кто? — громко спросил отец. — Кто в колодце?
— Там он, там, в колодце! — повторяла женщина, которую сам Боджа недолюбливал и часто называл ashewo, потому что якобы видел, как она ходила в отель «Ля Рум».
— Я спрашиваю: кто? — крикнул отец и тут же выбежал из дома. Я устремился следом, а за мной — Обембе.
Воды в колодце под крышкой из прохудившегося листа железа было чуть выше восьмифутовой отметки. Пластмассовое ведро соседки валялось в иле у кромки ямы. Тело Боджи плавало в воде, раздутое, словно воздушный шарик, заключенное в раскрывшуюся парашютом одежду. Под прозрачной поверхностью было видно, что один глаз у Боджи открыт; второй, закрытый, разбух. Голова наполовину торчала из воды, покоясь на выцветшем кирпиче стенок, тогда как бледные руки держались на поверхности, словно обнимая кого-то невидимого постороннему глазу.
Этот колодец, в котором Боджа спрятался, а после обнаружился, всегда был частью его жизни. Двумя годами ранее самка ястреба — слепая, наверное, или раненая — упала в открытый зев колодца и утонула. Птицу, как и Боджу, нашли не сразу, а только через несколько дней. Так она там и лежала, под водой, незаметная, как медленно действующий яд. Потом же, когда пришло время, она возникла словно из ниоткуда и всплыла, но к тому времени уже начала разлагаться. Случай этот произошел в 1994 году, примерно в то же время, когда Боджа истинно уверовал во время массового евангелизационного собрания, организованного международным проповедником из Германии, евангелистом Рейнхардом Боннке. Когда птицу достали, Боджа — убежденный, что если вознести молитву, то вреда ему не будет, — сообщил, что помолится над водой в колодце и выпьет из него. Он искренне уверовал в отрывок из Писания: «…се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам»[14]. И пока мы ждали прихода работников из министерства водоснабжения, которых вызвал отец — чтобы они очистили воду, — Боджа взял и выпил ее целую чашку. Опасаясь, что он может умереть, Икенна рассказал обо всем родителям, чем поверг их в панику. Отец увез Боджу в больницу, поклявшись, что после хорошенько его выпорет. Мы испытали огромное облегчение, когда пришли результаты анализов: Бодже ничто не угрожало. Так Боджа победил колодец, однако спустя пару лет колодец победил его. Убил.
Когда Боджу достали, его было не узнать. Набежала толпа — люди со всего района, — а Обембе стоял и в ужасе смотрел на меня. В те дни в небольших западноафриканских сообществах трагические вести вроде этой распространялись, точно лесной пожар, подгоняемый гарматаном. Заслышав крики нашей соседки, люди — знакомые и незнакомые — повалили к нам во двор и вскоре заполнили его целиком. Ни я, ни брат никому не препятствовали, когда стали уносить тело Боджи — не то что после смерти Икенны. Обембе тогда повел себя совершенно иначе: когда он вышел из ступора, в котором все повторял: «Красная река, красная река, красная река», он обнял голову старшего брата и лихорадочно принялся делать ему искусственное дыхание рот в рот, приговаривая: «Ике, очнись, пожалуйста, очнись», пока наконец мистер Боде не оттащил его в сторону. На этот раз, когда на месте оказались и родители, мы с Обембе наблюдали за происходящим с веранды.
Народу набежало столько, что мы почти не видели, как разворачиваются события. Жители Акуре — да и почти любого западноафриканского городка — это голуби: пассивные создания, что прохаживаются вразвалочку по базарам или игровым площадкам, словно ждут каких сплетен или новостей, и слетаются кучей туда, где просыпалось зерно. Все тебя знают, ты знаешь всех. Каждый — тебе брат, и ты — брат каждому. Трудно было найти такое место, где не было никого, кто не знал бы твою мать или брата. И так было со всеми. Мистер Агбати пришел в одной только белой майке и коричневых шортах. Отец и мать Игбафе — в традиционном наряде одинаковой расцветки: они только-только вернулись с какого-то мероприятия и не успели переодеться. Пришли и другие соседи, тот же мистер Боде — именно он спустился в колодец за телом Боджи. Прислушиваясь к разговорам, я рисовал в воображении картину происходящего: мистеру Боде передали лестницу, и он спустился вниз, попробовал достать Боджу одной рукой, но тело Боджи отяжелело так, что стало неподъемным. Тогда мистер Боде уперся свободной рукой в стенку колодца и снова потянул. Футболка Боджи лопнула под мышкой, а лестница просела. Мистер Боде сам чуть не соскользнул в воду, но его удержали мужчины, стоящие у края колодца, — крайнего в цепочке ухватили за ноги и за пояс сразу трое. Мистер Боде спустился еще на несколько ступенек и с третьей попытки вытащил Боджу из водной могилы, в которой тот лежал уже несколько дней. Толпа одобрительно загудела, будто при виде воскрешенного Лазаря.
Однако внешне Боджа ничуть не напоминал воскресшего из мертвых: раздувшийся утопленник, и этот пугающий образ мне никогда не забыть. Отец прогнал нас с Обембе в дом, чтобы мы не смотрели и не запомнили брата таким.
— Вы, двое, сидите тут, — задыхаясь, велел он. Таким я никогда его прежде не видел: на лице появились морщины, воспаленные глаза. Подождав, пока мы сядем, отец опустился на колени и, опустив руки нам на бедра, произнес: — Мужайтесь, вы должны быть стойкими. Смотреть в глаза этому миру и прокладывать себе путь, идти по нему… с такой же… отвагой, какой обладали ваши братья. Понимаете?
Ми кивнули.
— Молодцы, — с отсутствующим видом кивнул отец.
Он опустил голову, спрятал лицо в ладонях и что-то забормотал, скрежеща зубами. Единственное слово, которое мне удалось расслышать, было «Иисусе». А еще я заметил плешь у него на макушке: полукруг голой кожи, не как у старичков.
— Обембе, помнишь, что ты сказал несколько лет назад? — снова взглянув на нас, спросил отец.
Обембе мотнул головой.
— Ты забыл, — на его лице появилась грустная улыбка и тут же исчезла, — что сказал в день, когда твой брат Ике привел машину к моему офису? Во время беспорядков, устроенных сторонниками М.К.О.? Прямо там, за столом, — он указал в сторону стола, на котором остался недоеденный обед. По тарелкам уже ползали мухи. Рядом стояли недопитые стаканы воды и кувшин с остывающим кипятком, над которым сиротливо вился пар. — Ты спросил, что бы вы делали, если бы старшие братья умерли.
Вот тут Обембе кивнул — он, как и я, наконец вспомнил вечер 12 июня 1993 года. Отец отвез нас домой, и за ужином все наперебой принялись делиться впечатлениями. Мать рассказала, как она с подругами спасалась в близлежащих армейских казармах, стоило на рынке появиться бунтовщикам: они прочесывали торговые ряды, убивая всякого, кого принимали за северянина. Последним высказался Обембе:
— Что станет со мной и Беном, когда Икенна и Боджа состарятся и умрут?
Все расхохотались, кроме Обеме и меня, бывших тогда самыми младшими в семье. Вопрос Обембе я счел стоящим, хотя сам ни разу им не задавался.
— Обембе, ты к тому времени тоже состаришься. Братья ненамного старше тебя, — ответил отец, давясь смехом.
— Ну ладно. — Обембе ненадолго задумался. Он смотрел на братьев, и видно было, что его непосильным бременем тяготят и другие вопросы. — Но что, если бы они умерли?
— Заткнись! — прикрикнула на него мать. — Боже милостивый! Как ты вообще можешь о таком думать? Твои братья не умрут, слышишь? — Она схватилась за мочку уха, и Обембе испуганно закивал головой.
— Хорошо, а теперь ешь давай, — громогласно велела мать.
Пристыженный, Обембе уткнулся в тарелку и вопросов больше не задавал.
— И вот это случилось, — продолжил отец. — Обембе, теперь ты отвечаешь и за себя, и за младших братьев, Бена и Дэвида. Теперь ты старший, ты за рулем.
Обембе кивнул.
— Не понимай буквально, я не о машинах. — Отец покачал головой. — Ты просто подаешь им пример.
Обембе снова кивнул.
— Указывай им путь, — пробормотал отец.
— Хорошо, папа, — ответил Обембе.
Отец встал и утер нос тыльной стороной ладони — кожа на руке заблестела, точно намазанная вазелином. Смотря на отца, я вспомнил, что читал в «Атласе животного мира» об орлах: большинство откладывает всего два яйца, и птенцов, вылупившихся последними, часто заклевывают старшие братья и сестры. Особенно когда еды не хватает. В «Атласе» это называлось «синдром Каина и Авеля». Несмотря на силу и мощь, взрослые орлы никак не препятствуют братоубийству. Должно быть, это происходит, когда родители отлучаются из гнезда, улетают далеко-далеко в поисках пропитания. Поймав белку или мышь, они мчат сквозь облака обратно, а находят орлят — возможно, двух орлят — мертвыми: один в гнезде, и его темно-бордовая кровь просачивается на камни, другой — раздутый — плавает где-нибудь рядом в луже.
— Вы, оба, оставайтесь тут, — велел отец, выдергивая меня из задумчивости. — Не выходите, пока не скажу. Поняли?
— Да, папа, — хором ответили мы с братом.
Отец поднялся и уже хотел уйти, но обернулся и умоляюще произнес:
— Прошу вас, пожалуйста… — Так и не договорив, он вышел, а мы с Обембе, пораженные, остались сидеть на месте.
До меня вдруг дошло, что Боджа был еще и грибком-самоубийцей: такой живет в теле носителя и постепенно разрушает его организм. Так он и поступил с Икенной: сперва подточил его дух, затем изгнал из тела душу — пронзил плоть ножом и выпустил кровь, которая растеклась по кухне красной рекой. Потом, как всякий представитель своего вида, Боджа обратился против самого себя и прервал свою жизнь.
О самоубийстве Боджи первым рассказал мне Обембе. Он все узнал со слов людей, толпившихся во дворе, и ждал момента, чтобы поделиться услышанным. Наконец, когда отец вышел, Обембе повернулся ко мне и произнес:
— Знаешь, что Боджа сделал?
Новость меня глубоко потрясла.
— Знаешь, что мы пили кровь из его раны? — продолжил Обембе. Я покачал головой.
— Послушай, это не все. Ты знаешь, что у Боджи в голове — большая дырка? Я. Все. Видел! Еще утром мы заваривали чай на воде из колодца и пили его.
Я ничего не понимал. Не мог взять в толк, как Боджа мог все это время быть в колодце.
— Если он был там, все это время… — начал я и запнулся.
— Продолжай, — сказал Обембе.
— Если он все это время был там — там… — Я начал заикаться.
— Договаривай.
— Хорошо… Если Боджа все это время был в колодце, то как мы не увидели его, когда набирали воду этим утром?
— Утопленники всплывают не сразу. Послушай, помнишь ящерицу в бочке с водой у Кайоде?
Я кивнул.
— А птицу, что упала к нам в колодец два года назад?
Я снова кивнул.
— Вот, так оно и происходит. — Обембе устало махнул рукой в сторону окна и повторил: — Да, вот так и происходит.
Он встал со стула и лег на кровать, накрывшись с головой маминой враппой с вытравными изображениями тигра. Из-под чуть подрагивающей враппы донеслись сдавленные рыдания. Я же сидел на месте, словно приклеенный, в то время как что-то начало неудержимо подниматься из желудка наверх. Там словно возник крошечный заяц, и теперь он грыз мои внутренности, все сильнее и сильнее. Я ощутил во рту кислый привкус, и меня вырвало кусочками еды вместе с пищевой кашицей. Тут же последовал приступ кашля. Меня согнуло пополам и снова стошнило.
Обембе вскочил с кровати и кинулся ко мне.
— Что? Что с тобой?
Я не смог ответить. Заяц продолжал раздирать мои внутренности. Я только судорожно втянул воздух.
— А, воды, — сказал Обембе. — Я принесу тебе воды.
Я кивнул.
Обембе сбегал за водой и, вернувшись, спрыснул мне лицо. Но чувство было, что я захлебываюсь, тону. Я хватал ртом воздух и отчаянно смахивал с лица капли.
— С тобой все хорошо? — спросил Обембе.
Кивнув, я промямлил:
— Да.
— Тебе надо попить.
Он принес мне еще воды в кружке.
— Бери, пей. Больше не надо бояться.
Когда он это сказал, мне сразу вспомнился один случай. Мы тогда еще не рыбачили и возвращались домой с футбольной площадки, как вдруг из остова недостроенного дома выскочила собака и принялась на нас лаять. Она была тощая — хоть ребра на боках пересчитывай. Ее шкуру, точно крапинки — ананас, покрывали пятна и свежие раны. Бедное создание рывками, угрожающе подбиралось к нам. Я, хоть и любил зверей, но боялся собак, львов, тигров и прочих крупных кошачьих: начитался, как они разрывают людей и животных на части. И вот при виде этой собаки я закричал и прижался к Бодже, а он, желая успокоить меня, подобрал камень и швырнул им в пса. Боджа не попал, однако пес испугался: продолжая гавкать, машинально дергаясь в нашу сторону и помахивая тонким хвостом, он все же попятился, оставляя следы на земле.
— Собака ушла, — обернулся ко мне Боджа, — не надо бояться.
В тот же миг страх прошел.
Пока я пил воду, во дворе разразился настоящий ад. Где-то поблизости взвыла сирена. Вот она стала громче, и послышались новые голоса: какие-то люди требовали дать им дорогу. Должно быть, приехала «скорая». Толпа закричала, когда раздувшееся тело Боджи понесли со двора. Обембе метнулся к окну в гостиной: хотел посмотреть, как тело Боджи погружают в «скорую». Одновременно он старался, чтобы отец его не заметил, и приглядывал краешком глаза за мной. Снова, и на этот раз совершенно оглушительно, взвыла сирена, и Обембе вернулся в комнату.
Воду я допил, меня больше не тошнило, однако мысли все еще лихорадочно вращались в голове. Я вспоминал день, когда Икенна толкнул Боджу и тот разбил голову о металлический ящик. Обембе тихо сел в угол комнаты, обхватив себя руками, словно его бил озноб. Потом спросил: видел ли я, когда Икенна зашел в комнату, что было у него в кармане?
— Нет, а что там у него было? — спросил я. Боджа лишь изумленно взглянул на меня. Он сидел с открытым ртом, и его выступающие резцы казались от этого больше, чем на самом деле. Не меняясь в лице, он подошел к окну, посмотрел на забор — мокрый после многодневных дождей, — вдоль которого маршировала длинная колонна муравьев. На заборе висела тряпка, и с нее капала вода, оставляя длинный след, тянущийся до самой земли. На горизонте клубилось кучевое облако.
Я терпеливо ждал ответа, но когда молчание Обембе затянулось, повторил вопрос.
— У Икенны в кармане был нож, — не оборачиваясь, ответил брат.
Я подскочил и бросился к нему, словно в комнату сквозь стену пробился дикий зверь с намерением сожрать меня.
— Нож?!
— Да, — кивнул Обембе. — Я видел. Мамин кухонный нож. Тот, которым Боджа обезглавил петуха. — Он снова покачал головой. — Я видел, — повторил Обембе, предварительно взглянув на потолок, будто полагал, что кто-то сверху кивнет, подтверждая его правоту. — У него был нож. — Скривившись, он сказал упавшим голосом: — Наверное, Икенна хотел убить Боджу.
Снова завыла сирена «скорой», вырывая меня из воспоминаний, и толпа оглушительно взревела. Обембе отстранился от окна и подошел ко мне.
— Его увезли, — хрипловато сказал он. Взяв меня за руку и бережно уложив на кровать, он повторил эти слова. Ноги у меня к тому времени затекли: я ведь так и продолжал сидеть на корточках.
— Спасибо.
Обембе кивнул.
— Я сейчас приберусь и лягу рядом с тобой. Ты не вставай, — сказал он и направился было к двери, но на пороге встал и, обернувшись, улыбнулся мне; на глазах у него поблескивали две прозрачные жемчужины.
— Бен.
— Что?
— Ике и Боджа мертвы. — Челюсть у него задрожала, нижняя губа выпятилась, а жемчужины скатились по щекам, оставляя влажные дорожки.
Я не знал, как следует понимать его слова, и просто кивнул. Обембе вышел из комнаты.
Пока Обембе собирал совком и веником мою рвоту, я лежал, закрыв глаза, а воображение рисовало картину того, как погиб Боджа, как он — если верить людям — убил себя. Вот он стоит над телом Икенны — воя и внезапно осознав, что одним поступком, одним махом обесценил собственную жизнь, опустошил ее, словно какую-нибудь пещеру со старинными драгоценностями. Должно быть, он понял, какое будущее ему уготовано, и ужаснулся. От страха в нем родилась чудовищная решимость, она впрыснула идею самоубийства в разум, словно морфий — в вену, запустив медленный пагубный процесс. Когда разум Боджи умер, он с легкостью перенес свое тело к колодцу. Страх и неуверенность стежок за стежком прошивали его разум, шов уплотнялся, пока наконец Боджа не прыгнул вниз головой — как он всегда нырял в реку Оми-Ала. Он падал без слов и не плача, тихо; в лицо ударил встречный поток воздуха. В ушах у Боджи, наверное, не застучало, и пульс не участился. Скорей всего, Боджа сохранял удивительное спокойствие, и в этом состоянии перед его мысленным взором, наверное, возникли иллюзорные явления образы прошлого, заключенные в статичные картинки. Вот пятилетний Боджа сидит на высокой ветке нашего мандаринового дерева и напевает песню «Тарзан-бой» группы «Балтимора». А вот пятилетний Боджа стоит на утренней школьной линейке; его попросили выйти и возглавить общее чтение Господней молитвы, и он обкакался. Десятилетний Боджа в 1992 году исполняет роль Иосифа плотника, мужа Богоматери, в рождественской постановке, устроенной в нашей церкви, и, к изумлению всех присутствующих, говорит: «Мария, я не возьму тебя в жены, ибо ты — ashewo!» А вот М.К.О. велит Бодже не драться. А вот Боджа — фанатичный рыбак, которым он был еще недавно. Наверное, такие образы роились у него в голове, точно пчелы — в улье, пока он опускался под воду. Когда же его ноги наконец коснулись дна, улей смело и все образы разлетелись.
Падение длилось недолго. Едва уйдя под воду, Боджа, наверное, ударился головой о выступающий из стенки камень. Раздался хруст — раскололся череп; кровь завихрилась в голове и, вытекая из нее, смешалась с водой. Мозг наверняка разнесло в клочья, а вены, отходящие от него, лопнули. Язык в момент удара о камень вывалился изо рта, барабанные перепонки порвались, точно старинная занавесь, и часть зубов пригоршней игральных костей полетела в горло. Потом, наверное, происходило сразу несколько вещей: тело билось в конвульсиях, а изо рта какое-то время еще вылетали неслышные звуки, и наверх поднимались пузыри, как в котле с кипящей водой. Конвульсии стали постепенно отпускать его тело, и вскоре оно замерло. Потусторонний покой окутал его, приводя к смертной недвижимости.
11. Пауки
Когда мать голодна, она говорит:
«Приготовьте что-нибудь поесть моим детям».
Ашантийская пословица
Пауки были порождениями горя.
Тварями, которые, по поверьям игбо, гнездятся в домах скорбящих, бесшумно, самозабвенно плетя свои тенета, пока пряжа не раздуется и не охватит весь дом. Они пришли после смерти моих братьев — среди множества прочих перемен этого мира. В первую неделю после трагедий мне казалось, будто навес или зонт, под которым мы все это время укрывались, порван и я остался беззащитен. Я стал думать о братьях, вспоминал малейшие подробности их жизней. Я словно глядел на них в некую подзорную трубу, направленную в прошлое, которая увеличивала всякое, даже незначительное действие или событие. Но изменился не только мой мир. Все мы — отец, мать, Обембе, я, Дэвид и даже Нкем — страдали каждый по-своему, но в первые несколько недель тяжелее всего приходилось именно матери.
Народное поверье гласит, что пауки приходят и гнездятся в доме, где живут горе и скорбящие люди, но у нас они пошли дальше и вторглись в разум матери. Она первой заметила пауков, их растянутые под потолком пышные сети. Но это не все. В скоплениях хитинистых телец она видела подглядывающего за нами Икенну, а в спиральных переплетениях нитей ей мерещились его глаза. Она все жаловалась: «Ndi ajo ife — эти отвратительные, мохнатые твари». Они ее пугали. Мать плакала, указывая на пауков, ока отец в попытке ее успокоить — Мама Босе, аптекарша, и Ийя Ийябо просили его прислушаться к голосу скорбящей женщины, какими бы нелепыми ему не казались ее просьбы, — не убрал все гнезда и не прихлопнул пауков, оставшихся на стенах. Потом прогнал из дома стенных гекконов и объявил войну тараканам, плодившимся с угрожающей скоростью. Лишь тогда восстановился мир, но то был мир хромой и на опухших ногах.
Вскоре мать начала слышать голоса с того света. Ей вдруг стало казаться, что мозг у нее кишит кусачими термитами и армия их неустанно трудится, пожирая серое вещество. Людям, приходившим с утешениями, мать рассказывала, будто бы Боджа заранее, во сне, предупреждал ее о своей смерти. Мать часто пересказывала увиденный накануне трагедии сон — соседям и прочим прихожанам нашей церкви, которые слетались в наш дом, словно пчелы. Она считала этот сон предупреждением, ведь люди в нашей области страны да и во всей Африке твердо верят: если плод материнской утробы, ее дитя, умирает или вот-вот умрет, мать неким образом узнает об этом заранее.
Еще накануне похорон Икенны мать рассказала о сне. Аптекарша Мама Босе потрясла меня своей реакцией: упала и принялась кататься с воем по полу, от стены к стене:
— О-о-о, это Господь предупреждал тебя. Бог предупреждал, что это случится. О-о-о-о, э-э-эй-й-й.
Это был настоящий взрыв боли и тоски: стоны навзрыд, резкие гласные звуки, внезапно обрывающиеся, — казалось бы, нечленораздельные и в то же время абсолютно понятные присутствующим. Но больше всего свидетелей этой сцены поразило то, что мать сделала потом. Она встала у висевшего на стене календаря, который все еще был открыт на странице с орлом, — на феврале месяце, — ведь никому и в голову не приходило перелистнуть его в дни страшной метаморфозы Икенны. Вскинув руки, мать закричала:
— Elu na ala — небо и земля, взгляните на руки мои: они чисты! Смотрите, смотрите на шрам от рождения сыновей моих: он еще не зажил, а мои мальчики мертвы. — Она задрала подол блузки и указала на рубец пониже пупка. — Смотрите на грудь, что они сосали. Грудь еще налита, а их уже нет.
Мать задрала блузку под горло, чтобы показать грудь, и к ней подскочила одна соседка, чтобы блузку одернуть. Но было слишком поздно: все в комнате успели увидеть оплетенные венами груди и выступающие соски. Средь бела дня.
Услышав рассказ матери о вещем сне, я сильно испугался: знай я, что сны могут предупреждать о беде, то сумел бы истолковать свой кошмар про мост. Я рассказал Обембе об этом сне, и он согласился: да, то было знамение. Спустя неделю или около того мать пересказала свой сон пастору Коллинзу и его супруге. Отца в это время дома не было: он отправился за бензином, а заправка располагалась на окраине города. В ту же неделю, когда нашли Боджу, правительство взвинтило цены на топливо с двенадцати до двадцати одной найры — чем вынудило заправщиков тайно запасать бензин впрок. По всей стране к колонкам выстроились бесконечные очереди. На одной такой отец и проторчал с полудня до раннего вечера. Он вернулся усталый с полным баком и бочкой керосина в багажнике и сразу же рухнул в кресло, свой трон. Он еще не успел снять пропитанную потом рубашку, как мать принялась перечислять всех, пришедших в тот день. Она сидела близко, но будто не чувствовала сильного запаха пальмового вина, который окружал отца, точно мухи — свежую рану на теле коровы. Мать говорила долго, пока отец не вскричал: «Хватит!»
— Хватит, я сказал! — повторил он, вскакивая на ноги. На руках его выступили жилы. Мать застыла, сложив ладони на коленях. — Что за ерунду ты несешь, а, друг мой? Неужели мой дом превратился в приют для всякой живой твари в этом городе? Сколько еще народу придет выразить соболезнования? Скоро и собаки подтянутся, потом козы, лягушки да ожиревшие коты. Разве ты не знаешь, что некоторые из этих людей — просто плакальщики, ревущие громче горюющих. Закончится это когда-нибудь?
Мать не ответила. Она молча опустила взгляд на обернутые выцветшей враппой колени и покачала головой. В свете керосиновой лампы я увидел, что у нее на глазах блеснули слезы. Со временем я пришел к выводу, что этот спор иглой уколол ее в душевную рану и с тех пор эта рана кровоточила. Мать перестала разговаривать и погрузилась в молчание. Оцепенел весь ее мир. Она просто сидела в доме и бездумно пялилась в одну точку. На вопросы отца чаще всего отвечала пустым взглядом, будто не слышала обращенных к ней слов. Язык, который прежде сыпал словами, как грибок спорами, замер. Обычно, если мать была взбудоражена, слова соскакивали с ее уст, точно тигры, а когда была спокойна — текли, точно вода из прохудившейся трубы. Однако с того вечера они стали собираться в мозгу, застывая там, и лишь некоторые падали редкими каплями. Отец, обеспокоенный, донимал ее целыми днями, и наконец мать прервала молчание, пожаловавшись на то, что ей не дает покоя неприкаянный дух Боджи. К концу сентября эти жалобы сделались постоянными, и отец больше не мог их выносить.
— Ты городская женщина, как ты можешь быть такой суеверной? — сорвался он одним утром после того, как мать рассказала, что Боджа стоял рядом с ней на кухне, пока она готовила. — Скажи, друг мой, как?
Гнев матери разгорелся не на шутку — она пришла в ярость.
— Как ты смеешь говорить мне такое, Эме? — заорала она. — Как смеешь? Разве я не мать этих мальчиков? Разве не чувствую, когда их духи тревожат меня?
Она вытерла руки о подол враппы, а отец, скрипя зубами, схватился за пульт от телевизора и так сильно прибавил звук, что пение актера йоруба на экране чуть не заглушило голос матери.
— Можешь притворяться, будто не слушаешь, — с издевкой произнесла она, сцепив ладони, — но не отрицай, что наши дети умерли не своей смертью. Эме, мы оба знаем, что их смерти безвременны! Ты выйди да оглядись. A na eme ye eme — это ненормально. Родители не должны хоронить детей. Все должно быть наоборот!
Телевизор все еще работал, и на экране что-то орало как сирена, но после слов матери на комнату опустилось покрывало тишины. Снаружи горизонт заволокло серой дымкой густых облаков. Сказав последнее слово, мать села в одно из кресел, и почти сразу же прогремел гром; налетевший порыв влажного ветра захлопнул дверь кухни. Тут же погас свет, и комната погрузилась в полумрак. Отец закрыл окна, но не стал задергивать занавески — чтобы с улицы проникал хоть какой-то свет. Затем вернулся в кресло, осаждаемый легионами демонов — порождениями слов матери.
Изо дня в день мать продолжала выпадать из этого мира. Самые обычные слова, избитые фигуры речи, старые песни внезапно обернулись для нее демонами, единственной целью которых было сжить ее со свету. Знакомое тело Нкем: длинные ручки, коса — то, что прежде мать обожала, она вдруг возненавидела. Однажды Нкем попыталась забраться матери на колени, но та, обозвав ее «созданием, что пытается залезть на нее», отпугнула малышку. Отец, внимательно читавший в тот момент «Гардиан», встревожился:
— Боже правый! Ты что, серьезно, Адаку? — спросил он. — Это ты с Нкем так обращаешься?
При этих словах мать сильно переменилась в лице, будто была слепа и внезапно прозрела. Распахнув рот, она пристально посмотрела на Нкем. Перевела взгляд на отца, потом снова на дочь и промямлила:
— Нкем. — Язык у нее словно болтался во рту, как оторванный. Снова подняв взгляд, мать пробормотала: — Это Нкем, моя дочь, — одновременно утвердительным и вопросительным тоном.
Отец стоял на месте, словно обе ноги ему прибили к полу. Он открыл рот, но не произнес ни звука.
Когда же мать снова заговорила: «Я ее не узнала», — он лишь кивнул и, взяв на руки Нкем — плакавшую и сосавшую большой палец, — тихо вышел из дома.
Мать в ответ разревелась:
— Я ее не узнала.
На следующий день отец сам готовил завтрак. Мать осталась в постели, натянув на себя свитера, словно простуженная, и, всхлипывая, отказалась вставать. Целый день она лежала в кровати и вышла только под вечер, когда мы вместе с отцом смотрели телевизор.
— Эме, видишь белую корову, что пасется у нас в комнате? — сказала она и ткнула куда-то пальцем.
— Что? Какую еще корову?
Мать запрокинула голову и гортанно расхохоталась. Губы у нее пересохли и растрескались.
— Разве не видишь: вот тут, корова траву ест? — требовательно спросила она, раскрыв ладонь.
— Какую еще корову, друг мой? — Мать говорила так уверенно, что отец даже завертел головой, будто и впрямь ожидал застать корову посреди гостиной.
— Эме, ты что, ослеп? Не видишь белую лоснящуюся корову?
Она указала на меня — я сидел отдельно в кресле, положив себе на колени подушечку. Я не верил своим ушам и глазам. До того поразился, что даже обернулся посмотреть, не стоит ли позади кресла корова, и тут до меня дошло: мать указывала именно на меня.
— Взгляни: вон еще одна, а вон — третья, — продолжала мать, указывая по очереди на Обембе и Дэвида. — Одна пасется снаружи, другая внутри. Они тут кругом, Эме, как ты не видишь?
— Может, заткнешься? — взревел отец. — Что ты несешь? Боже милостивый! С каких пор наши дети стали коровами?
Схватив мать, он повел ее в главную спальню. Мать шла, упираясь: косички упали ей на лицо, а под пепельным свитером колыхалась большая грудь. Всякий раз, как мать требовала: «Пусти, пусти, дай на белых коров посмотреть», — отец кричал: «Заткнись!» Он подталкивал мать, и ее голос срывался на визг.
Видя все это, Нкем разразилась плачем. Обембе попытался взять ее на руки, но Нкем принялась лягаться и реветь еще громче. Отец к тому времени затащил мать в спальню и запер дверь. Внутри они оставались долго, мы то и дело слышали их голоса. Потом отец вышел и попросил нас уйти к себе в комнату. Еще он велел Дэвиду и Нкем посидеть немного с нами, пока он сходит за хлебом. Время было где-то шесть вечера. Младшенькие согласились, но стоило нам запереться, как по ту сторону двери послышались долгие шаркающие шаги, стукнула о стену дверь, а затем раздался безумный вопль: «Эме, оставь меня, оставь, куда ты меня тащишь?» Отец тяжело дышал. Потом с громким стуком захлопнулась входная дверь.
Мать пропала на две недели. Позднее я выяснил, что ее упрятали в психиатрическую больницу — изолировали, точно взрывоопасный материал. Разум ее пережил настоящий катаклизм, и знакомый ей мир разлетелся на мелкие части. Ее чувства обострились невероятным образом: тиканье часов в палате для нее теперь звучало громче визга дрели, а крысиные лапки стучали множеством колоколов.
У матери развилась страшная форма никтофобии: каждая ночь становилась беременной самкой, дававшей приплод в виде навязчивых ужасов. Крупные вещи сжимались до микроскопических размеров, а мелкие раздувались, пухли и приобретали размеры чудовищные. Ее внезапно окружили противоестественным образом растущие с каждой минутой живые листья ачара на длинных колючих стеблях — они медленно и неуклонно душили ее. Мучимая видением этого растения — и леса, в котором она очутилась, мать стала видеть и другие вещи. Часто являлся ее отец, разорванный в клочья артиллерийским снарядом в Биафре в 1969 году, во время гражданской войны, и танцевал посреди палаты. Обычно дед танцевал, вскинув обе руки — в своем довоенном облике, однако случалось и такое, что он являлся в облике привоенном или послевоенном: вместо одной руки у него была окровавленная культя, — и тогда мать кричала громче всего. Порой дед говорил матери ласковые слова, приглашал ее присоединиться. Впрочем, худшим кошмаром, превосходящим все остальные, стали видения о пауках. К концу второй недели в палате, в лечебнице не осталось ни клочка паутины, а всех пауков передавили. Казалось, что с каждым убитым насекомым, с каждым новым черным пятнышком на стенах приближалось выздоровление.
Дома без матери приходилось трудно. Нкем плакала, почти не переставая, и ее никак не получалось утешить. Я пробовал петь ей колыбельные — те же самые, что обычно пела мать, — без толку. Усилия Обембе тоже обернулись сизифовым трудом.
Как-то утром отец вернулся и, застав Нкем в таком состоянии безутешного горя, объявил, что мы едем навещать маму. Нкем тут же успокоилась. Перед уходом отец, который с тех пор, как мать положили в больницу, готовил для нас всю еду, подал нам завтрак: яичницу и хлеб. Потом они с Обембе, достав ведра, сходили за водой к Игбафе: наш колодец, после того как из него достали Боджу, стоял закрытый. Затем мы по очереди умылись и оделись. Отец надел просторную белую футболку, воротник которой пожелтел от множества стирок. А еще к тому времени у отца прилично отросла борода, так что он изменился до неузнаваемости.
Мы вышли во двор и сели в машину: Обембе впереди, а я, Дэвид и Нкем — сзади. Отец молча закрыл дверь, опустил стекло и включил зажигание.
Все так же молча он вел машину по улице, на которой в то утро царило шумное оживление. Мы обогнули большой стадион, утыканный прожекторами и бесчисленными флагами Нигерии. Над этой частью города возвышалась огромная статуя Оквараджи, неизменно вызывавшая во мне благоговейный трепет. На голове статуи я заметил крупную, похожую на стервятника аспидно-черную птицу. Мы ехали по правой стороне двухрядной дороги, отходящей от нашей улицы, пока не достигли небольшого открытого рынка на пустыре у обочины. Сбавили скорость и поехали по замусоренной грунтовой дороге. Потом снова начался асфальт. У края полосы в одном месте, в ворохе разлетевшихся перьев, лежала раздавленная тушка курицы. В нескольких метрах от нее собака, зарывшись мордой в лопнувший мусорный пакет, лакомилась его содержимым. Дальше отцу пришлось осторожно придвигаться вперед между оставленными у обочин тяжелыми грузовиками и фурами. По обеим сторонам дорожки, ведущей к открытому рынку, почетным караулом выстроились попрошайки, заявляя о своих бедах с помощью плакатов типа «Помогите, пожалуйста, слепому» или «Лоуренсу Оджо, пострадавшему при пожаре, нужна ваша помощь». Одного я даже узнал, он мелькал всюду на нашей улице: у церкви, у почты, возле школы и даже на базаре. Передвигался он на короткой доске с колесиками, загребая «обутыми» в сморщенные шлепанцы руками. Миновав государственную радиостанцию «Ондо», мы кое-как вписались в движение на кольцевом перекрестке в центре Акуре — внутри кольца стоял памятник: трое мужчин бьют в традиционные говорящие барабаны. Вокруг цилиндрического цоколя, на котором помещался памятник, заросли кактусов боролись за выживание с сорняками.
Отец остановился у желтого здания и некоторое время просто сидел на месте, словно бы осознав, что совершил ошибку. Вскоре я понял, в чем дело: прямо перед нами из другой машины выбралась группа людей; они вели мужчину средних лет — тот дико хохотал и покачивал торчащим из расстегнутой ширинки крупным членом. Если бы не более светлый цвет кожи да и относительно приличный вид, этого сумасшедшего можно было бы принять за Абулу. При виде него отец обернулась к нам и произнес:
— Ну-ка, быстро закрыли глаза и молимся за маму!
Потом он обернулся еще раз и, заметив, что я глазею на безумца, рявкнул:
— Все быстро закрыли глаза!
Убедившись, что мы выполнили требование, отец обратился ко мне:
— Бенджамин, начинай.
— Да, папа, — ответил я и, откашлявшись, начал молитву на английском. На других языках молиться я, впрочем, и не умел. — Во имя Иисуса, Господа нашего, прошу Тебя: помоги… благослови нас, Боже, и молю, исцели маму. Ты, который исцелял больных, Лазаря и прочих, сделай так, чтобы она больше не разговаривала, как сумасшедшая. Во имя Христа мы молимся.
Остальные хором произнес: «Аминь!»
Когда мы открыли глаза, сумасшедшего уже подвели ко входу в больницу и заталкивали внутрь, однако мы все еще видели его пропыленную спину. Отец вышел и открыл заднюю дверь с моей стороны. Нкем сидела, зажатая между мной и Дэвидом.
— Послушайте, друзья мои, — начал отец, пристально вглядываясь в наши лица покрасневшими глазами. — Во-первых, ваша мать не сумасшедшая. Слушайте, все, когда войдем, не смотрите по сторонам. Только вперед. Все, что увидите в стенах этого дома, должно остаться у вас в голове. Того, кто ослушается меня, по возвращению домой ждет Воздаяние.
Мы согласно кивнули, а потом один за другим вылезли из машины. Обембе с отцом пошли впереди, а я — сзади. Двинулись по длинной тропинке, обрамленной цветочными клумбами, и наконец вошли в большое здание, выложенные плиткой полы которого пахли лавандой. Мы оказались в просторном холле, полном разговаривающих людей. Я старался не смотреть по сторонам, чтобы меня потом не высекли, но искушению противиться не мог. И вот, пока отец меня не видел, я глянул влево — заметил бледную девочку. Ее голова на длинной тощей шее механически подергивалась, как у робота, язык почти постоянно торчал изо рта, а сквозь редкие тусклые волосы проглядывала бледная кожа. Я пришел в ужас. Обернувшись, увидел, как отец берет синий квиточек у женщины в белом фартуке за стойкой и говорит:
— Да, это все ее дети, они пойдут со мной.
Тут женщина за стеклянной стойкой встала и посмотрела на нас.
— Это все ее дети, — буркнул отец.
— Уверены, что им следует видеть мать в таком состоянии? — спросила женщина.
У нее была довольно светлая кожа. На голове у нее, поверх красиво напомаженных волос, неподвижно сидел сестринский чепчик, а на приколотой к груди табличке с именем было написано: «Нкечи Даниэль».
— Думаю, все будет хорошо, — пробормотал отец. — Я все тщательно взвесил, с последствиями справлюсь.
Сестра, однако, не удовлетворенная его ответом, покачала головой.
— У нас действуют строгие правила, сэр, — сказала она. — Но дайте мне минутку, я посоветуюсь с начальством.
— Хорошо, — согласился отец.
Пока мы ждали, сгрудившись вокруг него, меня не отпускало чувство, что бледная девочка не сводит с меня глаз. Тогда я постарался сосредоточиться на календаре, висевшем на стене шкафа за стойкой, а также на множестве плакатов, посвященных лекарствам и врачебным рекомендациям. На одном из них был изображен силуэт беременной женщины. На спине у нее сидел малыш, а по бокам стояли еще два карапуза. Чуть впереди высился мужчина — должно быть, муж. Он держал на плече еще одного ребенка, а на переднем плане стоял мальчик моего роста с плетеной корзиной в руках. Надписи под картинкой я прочесть не мог, но догадывался о ее содержании: это была одна из многочисленных социальных реклам в рамках агрессивной правительственной политики по контролю рождаемости.
Наконец вернулась медсестра и сказала:
— Хорошо, проходите все, мистер Агву. Тридцать вторая палата. Chukwu che be unu.
— Da-alu — cпасибо, сестра, — произнес отец в ответ на ее фразу на игбо и слегка поклонился.
Мать, которую мы увидели в тридцать второй палате, сидела в истощенном состоянии: пустой взгляд и все та же черная блузка, которую она не снимала со дня смерти Икенны. Вид у нее был такой болезненный и бледный, что я чуть не вскрикнул от ужаса. Глядя на мать, я подумал: а что, если это место высасывает из людей плоть, сдувает бока и ляжки? Меня сильно поразило, какие у матери сальные и свалявшиеся волосы, какие сухие и шелушащиеся у нее губы, да и вообще вся она изменилась. Отец направился к ней, а Нкем закричала:
— Мама, мама!
— Адаку, — позвал отец, обнимая мать, но та не обернулась. Продолжала пялиться в голый потолок, на неподвижный вентилятор посередине и верхние углы палаты. При этом она шептала едва слышно, осторожно и убежденно:
— Umu ugeredide, umu ugeredide — пауки, пауки.
— Nwuyem, снова пауки? Разве их всех не убрали? — Отец оглядел углы. — Где на этот раз?
Мать его будто не слышала и продолжала шептать, прижав к груди руки.
— Зачем ты поступаешь так с нами, с детьми и со мной? — спросил отец, а Нкем разревелась еще громче. Обембе взял было ее на руки, но сестренка так отчаянно лягалась, попадая ему по коленкам, что пришлось ее отпустить.
Отец хотел присесть на койку рядом с матерью, но она отпрянула, закричав:
— Оставь меня! Уйди! Оставь меня!
— Так мне уйти, да? — спросил отец, вставая. Он побледнел, и вены на висках проступили особенно четко. — Взгляни на себя, взгляни, как ты усыхаешь на глазах у оставшихся у тебя детей. Ада, ты знаешь, что нет в мире ничего такого, при виде чего глаз прольет кровавые слезы? Знаешь, что нет такой потери, которую мы не переживем?
Он, растопырив пальцы, провел над ней ладонью — от головы к ногам.
— Ну так чахни, чахни дальше.
Тут я заметил, что рядом стоит Дэвид и держится за подол моей рубашки. Он едва не плакал. Мне вдруг захотелось обнять брата, чтобы он успокоился, и я прижал его к себе. Ощутив аромат оливкового масла, которым я смазал его волосы этим утром, вспомнил, как Икенна купал меня, когда я был маленький, и как он за руку отводил меня в школу. Я был тогда очень застенчивым и до жути боялся учителей с их тростями, так что не мог просто поднять руку и отпроситься: «Простите, ма, можно выйти и сделать ка-ка?» Вместо этого я переходил на игбо и кричал во весь голос, чтобы меня услышал Боджа, сидевший в соседнем классе, отделенном от нашего лишь тонкой деревянной перегородкой: «Брат Боджа, achoro mi iyun insi!» Тогда его и мои одноклассники валились на пол от хохота, но брат прибегал и отводил меня в туалет. Он ждал, пока я закончу, подмывал и отводил обратно в класс, где учитель почти всегда лупил меня перед всеми по рукам — за нарушение порядка. Так происходило много раз, однако Боджа никогда не жаловался.
Больше отец меня и Обембе в больницу не брал. Разве что возил на свидание с матерью Нкем и Дэвида — да и то лишь когда они доводили его нытьем. Мать продержали в лечебнице еще три недели, и все эти дни стояла неестественно холодная погода. Даже ветер, что задувал по ночам, казалось, пел раненым зверем. А потом в конце октября налетел гарматан: сухой пыльный ветер, дующий в это время года с севера Нигерии, от Сахары, в сторону юга. И тогда даже на рассвете в городе тяжелыми полотнищами висел густой призрачный туман. Отец привез мать, посадив ее рядом с собой, спереди. Ее не было пять недель, и за это время она похудела вдвое. Волосы у нее потемнели, словно она бесконечно красила их изо дня в день. Ее руки испещряли следы от внутривенных инъекций, а на большом пальце была заплатка в виде толстого слоя ваты, обмотанного пластырем. И хотя мне стало ясно, что прежней мать уже не станет, глубину перемен осознать было трудно.
Отец оберегал ее, словно яйцо редкой птицы, и гонял нас — особенно Дэвида — как мошкару. Вертеться возле матери разрешалось только Нкем. Общалась мать с нами через отца, а если приходили гости, то он спешно отводил ее в родительскую спальню. О состоянии матери отец поведал только ближайшим друзьям, а соседям врал, что она уехала в деревню близ Умуахии, к своим родным, восстанавливать силы после утраты. Нам же он, схватившись за обе мочки уха, строго-настрого запретил кому-либо говорить о недуге матери:
— Даже москит, что жужжит у вас над ухом, не должен прослышать об этом.
Готовить он продолжал сам: кормил сперва мать и только потом — нас. Все заботы по дому легли на его плечи.
Однажды, спустя почти неделю после возвращения матери, мы уловили обрывки жаркого спора: мать с отцом шепотом о чем-то ругались за закрытыми дверями. Мы с Обембе отправились в кинотеатр, располагавшийся рядом с почтой, а вернувшись, застали отца выносящим картонные коробки с книгами и рисунками Икенны. Почти все пожитки наших старших братьев уже громоздились кучей на пустыре, где мы когда-то играли в футбол. Обембе спросил у отца, зачем сжигать эти вещи, и отец ответил, что на этом настаивает мать: она не хочет, чтобы через эти предметы проклятье, наложенное Абулу, перешло с покойных сыновей на остальных членов семьи. Отвечая, отец даже не взглянул нас, а положив коробки, покачал головой и вернулся в дом за следующими. Когда в комнате больше ничего не осталось, стол Икенны придвинули к стене, окрашенной в пурпурный цвет и покрытой карандашными рисунками и акварелями. Сверху на него водрузили кривой стул. Отец вынес последние сумки с вещами Боджи и свалил в общую кучу. Ногой задвинул туда же гитару, которую Икенне — когда он еще был маленький — подарил уличный музыкант-растафари. Этот человек с дредами до лопаток частенько исполнял песни Лаки Дубе и Боба Марли, и послушать его сходилось много народу — и взрослые, и дети — со всего района. Он часто пел под кокосовой пальмой у ворот нашего дома, а Икенна — вопреки родительскому запрету — танцевал на потеху публике. Его даже прозвали Раста-бой, но отец быстро сорвал с него этот ярлык, прибегнув к силе болезненного Воздаяния.
Мы смотрели, как отец поливает кучу вещей керосином — последним, что у нас оставался, — из красной канистры. Несколько раз оглянувшись на дом, он чиркнул спичкой. Куча загорелась, и в воздух взметнулось облако дыма. Огонь пожирал пожитки Икенны и Боджи, те вещи, к которым они прикасались, пока были живы, и от чувства, что братья покинули нас окончательно, мне в сердце словно вонзилась тысяча гвоздей. Я очень живо помню, как боролась с огнем одна из любимых вещей Боджи, пестрая рубашка дашики. Она была сложена, но внезапно распахнулась — точно живое существо, борющееся за жизнь, а потом стала заваливаться назад, увядать, медленно рассыпаясь пеплом. Услышав всхлипы матери, я обернулся. Она покинула свою комнату и теперь сидела на земле в нескольких метрах от горящей кучи, а рядом с ней опустилась на корточки Нкем. Отец еще долго стоял возле костра, с пустой канистрой в руке, утирая влажные от слез глаза и запачканное лицо. Мы с Обембе встали подле него. Наконец заметив мать, отец отбросил канистру и направился к ней.
— Nwuyem, — произнес он, — я же говорил, что горе пройдет… Да. Нельзя горевать бесконечно. Я же говорил, что нельзя изменить порядок вещей: вчерашний день завтрашним не станет, а в завтрашний день нам не заглянуть раньше времени. Довольно, Адаку, умоляю тебя. Вот он я, вместе мы справимся.
Вокруг столба дыма кружила стая птиц, едва приметных в наступающей темноте. Небо над нами приобрело оттенок яркого пламени, а деревья превратились в силуэты — жутких свидетелей того, как обращаются в пепел портфель Икенны, сумки Боджи, дурная гитара, тетрадки с изображением М.К.О., фотографии, блокноты с рисунками Фифидона, головастиков, реки Оми-Алы, рыбацкие тряпки, одна из баночек, в которой мы надеялись держать рыбу, да так и не использовали, игрушечные автоматы, будильник, альбомы для рисования, спичечные коробки, нижнее белье, рубашки, брюки, обувь — все, чем братья когда-то владели и к чему прикасались, — поднималось и исчезало с дымом.
12. Ищейка
Обембе был ищейкой.
Тем, кто первым обо всем узнавал, кто выведывал все и изучал это. Голова его вечно ломилась от идей, а когда приходило время, он их рождал — словно окрыленных и способных летать созданий.
Именно Обембе — через два года после переезда в наш дом в Акуре — обнаружил, что за этажеркой в гостиной спрятан заряженный пистолет. Оружие он нашел, гоняясь за маленькой мушкой, что влетела к нам в комнату. Насекомое жужжало у него над головой и умудрилось избежать двух яростных ударов учебником «Элементарной алгебры», которым Обембе поспешил воспользоваться в качестве орудия убийства. Стоило ему второй раз промахнуться, и мушка улетела в гостиную, где опустилась на полку с расставленными в разных секциях телевизором, видеоплеером и радиоприемником. Пустившись в погоню за насекомым, Обембе внезапно вскрикнул и уронил учебник. Мы только недавно переехали, и никто еще не успел заметить торчащий из-за этажерки кончик пистолетного ствола. Отец, испугавшись не меньше нас, отнес оружие в полицию. Он радовался, что его не успели найти младшие дети — Дэвид или Нкем.
У Обембе были глаза ищейки.






