Рыбаки Григорович Дмитрий
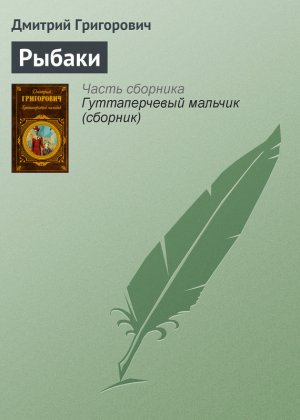
Глаза, подмечающие мельчайшие детали — такие, которые другой бы на его месте пропустил. По-моему, Обембе даже догадывался, что Боджа в колодце, еще до того, как его нашла там миссис Агбати. Утром, когда она обнаружила утонувшего Боджу, Обембе жаловался, что вода — какая-то маслянистая и дурно пахнет. Он набрал воды, чтобы умыться, и заметил на ее поверхности в ведре жирную пленку. Позвал меня, и я, зачерпнув воды, попробовал ее и тут же выплюнул. Запах я тоже заметил — вонь гниения, мертвечины, — но откуда он, определить не мог.
Именно Обембе раскрыл тайну того, что стало с телом Боджи. Мы не ходили на его похороны, не было плакатов, гостей — вообще никаких признаков ритуала. Я спросил у брата, когда наконец погребут Боджу, но он не знал и не хотел спрашивать у родителей, двух стражей нашего дома. И хотя Обембе не стал бить тревогу или копать глубже, если бы не он, я бы так и не узнал, что стало с телом Боджи. В первую субботу ноября — через неделю после возвращения матери из психбольницы — он нашел кое-что, чего я не замечал, прямо на верхней полке этажерки, за свадебной фотографией родителей, сделанной в 1979-м. Обембе показал мне небольшой прозрачный сосуд. Внутри лежал полиэтиленовый пакетик, наполненный порошком пепельного цвета — вроде глинистого песка из-под поваленных деревьев, высушенного на солнце до состояния мелких, похожих на соляные, кристалликов. Едва взяв сосуд в руки, я заметил ярлычок: «Боджа Агву (1982–1996)».
Через несколько дней мы подошли к отцу, и Обембе прямо заявил, что он все знает: странный порошок в пакетике — это пепел Боджи. Оторопевший отец во всем признался. Рассказал, как члены клана и родственники строго предупредили его и мать, что Боджу хоронить нельзя. Предать земле самоубийцу или братоубийцу значило согрешить против Ани, богини земли. Христианство, конечно, прочесало земли игбо мелкой гребенкой, однако крохи традиционных верований сумели проскочить между зубцов. Время от времени из деревни или от членов клана в местных диаспорах доходили слухи о мистических происшествиях — несчастных случаях и даже смертях в наказание от богов. Отец не верил в кару богини и в то, что подобное «изобретение неграмотных умов» вообще существует, однако решил все же не хоронить Боджу — ради матери и еще потому, что горя с него хватило. Нам с Обембе ничего не сказали, и мы бы так ни о чем и не проведали, если бы не Обембе-ищейка.
У Обембе был разум ищейки: неугомонный ум, постоянно жаждущий новых знаний. У него постоянно возникали вопросы — его все интересовало, и он любил читать, насыщая свой мозг. Самым близким его другом была лампа, при свете которой он читал по ночам. Всего в нашем доме имелось три керосиновые лампы с колесиком-регулятором и фитильком, кончик которого окунался в небольшой резервуар с топливом. В те дни в Акуре постоянно случались перебои в подаче электричества, и каждый вечер Обембе приходилось читать при свете лампы. После смерти братьев он стал читать так, будто от этого зависела его жизнь. Он жадно, как всеядный зверь, глотал сведения из прочитанных книг и запасал их в уме. А потом, обработав и выделив самое главное, передавал мне в упрощенном виде — в качестве историй на ночь.
Еще до смерти братьев Обембе рассказал историю о принцессе, которая отправилась в лесную чащу вслед за идеальным господином небывалой красоты, намереваясь выйти за него замуж, и обнаружила, что он — лишь череп, заимствовавший плоть и части тел у людей. Эта история, как и прочие хорошие истории, заронила семя в моей душе, оставшись в ней навсегда. В те дни, когда Икенна был питоном, Обембе рассказал об Одиссее, царе Итаки, — о нем брат прочел в сокращенном варианте гомеровской «Одиссеи». У меня в уме навсегда остались образы Посейдоновых морей и бессмертных богов. Чаще всего Обембе рассказывал истории ночью, в полутьме нашей комнаты, и я медленно погружался в созданный его словами мир.
Спустя две ночи после возвращения матери мы с Обембе сидели на кровати, привалившись спиной к стене. Я почти уже заснул, как вдруг Обембе сказал:
— Бен, я знаю, почему наши братья погибли. — Щелкнув пальцами, он встал и схватился за голову. — Послушай, я… я только что понял.
Обембе сел и принялся рассказывать длинную историю, вычитанную из одной книги. Названия брат не упомнил, но был уверен, что автор ее — игбо. Голос Обембе заглушал треск потолочного вентилятора. Закончив, брат умолк, а я пытался осмыслить историю сильного человека по имени Оконкво, которого один белый коварством довел до самоубийства.
— Понимаешь, Бен, — сказал Обембе, — жителей Умуофии удалось завоевать, потому что они не были едины.
— Верно, — согласился я.
— Белые люди были общим врагом племени, и оно победило бы, если бы сплотилось в борьбе. Знаешь, почему наши братья погибли?
Я покачал головой.
— Точно потому же: между ними не было единства.
— Да, — пробормотал я.
— А знаешь, почему Ике и Боджа были разъединены? — Обембе, решив, что я не знаю, не стал ждать и ответил сам: — Пророчество Абулу. Они умерли из-за пророчества Абулу.
Он с отсутствующим видом поскреб тыльную сторону левой ладони и даже не обратил внимания, что на сухой коже остались белые следы от ногтей. Некоторое время мы сидели в тишине, а мой разум заскользил в прошлое, точно по отвесному склону.
— Наших братьев убил Абулу. Он — наш враг.
Голос Обембе надломился, и слова прозвучали как шепот из дальнего конца пещеры. Я, конечно, знал, что Икенна преобразился под действием проклятия, но не думал винить в этом одного Абулу, как сделал сейчас брат. Да, безумец посеял страх в душе Икенны, и все же я не спешил возлагать на него всю ответственность за гибель брата. Однако Обембе объяснил, как обстоит дело, и я понял: так оно и есть. Пока я размышлял, Обембе подтянул колени к груди и обнял их. При этом он зацепил пятками простыню, обнажив часть матраса. Затем обернулся ко мне и — упираясь одной рукой в кровать, так что она промялась до пружин, — пронзил сжатым кулаком воздух.
— Я убью Абулу.
— Зачем тебе это? — ахнул я.
Некоторое время Обембе сквозь быстро набухающие слезы рассматривал мое лицо.
— Я сделаю это ради наших братьев, которых он погубил. Я убью его ради них.
Я ошеломленно смотрел, как Обембе запирает дверь и отходит к окну. Потом он запустил руку в карман шортов. Два раза чиркнул спичкой. На третий раз щелкнуло, и коротко вспыхнул огонек. Я поразился, увидев, как Обембе — силуэт в слабом свете спички — сует в рот сигарету. Струйка дыма потянулась в окно, исчезая во тьме ночи. Я чуть из кровати не выскочил. Я не знал, не догадывался, не понимал, что и как произошло.
— Сигаре… — дрожащим голосом залепетал я.
— Да, только ты молчи, не твое это дело.
В мгновение ока силуэт брата обернулся властной фигурой, что нависла надо мной, окутанная сигаретным дымом.
— Скажешь папе с мамой, — произнес Обембе, глядя на меня полными тьмы глазами, — и усилишь их боль.
Он выдохнул дым в сторону окна, а я в ужасе воззрился на брата: он был всего на два года старше меня, и вот он курил и при этом плакал, как ребенок.
Характер Обембе формировали книги. Они стали его видениями, он верил в них. Теперь-то я понимаю: во что веришь, то часто становится постоянным, а что постоянно, то может стать нерушимым. С Обембе так все и было: раскрыв свой план, он отстранился от меня и стал прорабатывать детали замысла — ежедневно, куря по ночам. Он читал еще больше, иногда сидя на мандариновом дереве, растущем на заднем дворе. Он осуждал мою неспособность стать храбрее ради братьев и жаловался, что я не хочу ничему учиться на примере героя романа «И пришло разрушение»[15] и не готов бороться против общего врага, безумца Абулу.
Хотя отец и пытался вернуть прежние времена, как до его отъезда из Акуре, — девственно чистые дни нашей жизни, моего брата его старания оставили равнодушным. Сердце его не могли согреть даже новые фильмы: отец купил боевики с Чаком Норрисом, новый фильм про Джеймса Бонда, кино под названием «Водный мир» и даже нигерийский ужастик «Жизнь в путах».
Обембе где-то вычитал, что если изобразить какую-то проблему в виде рисунка и наглядно представить, в чем она заключается, то это поможет ее решить. Он целыми днями делал схематичные наброски планов отмщения. Я же сидел в сторонке и читал. Как-то, спустя примерно неделю после нашей размолвки, я наткнулся на его рисунки. Они напугали меня. На одной схеме, выполненной остро заточенным карандашом, брат метал камни в Абулу, и безумец падал замертво.
На другой, изображающей свалку и фургон Абулу, Обембе — палочный человечек — с ножом в руке крался к машине, а я — следом за ним. В отдалении стояла роща деревьев, рядом паслось стадо свиней. Внутри грузовика — в разрезе — он же, Обембе, отсекал голову Абулу, словно Оконкво, убивающий судебного стражника.
Наброски ужасали. Я вглядывался в них, держа листы в трясущихся руках, и в этот момент Обембе вернулся из туалета, куда отлучился минут на десять.
— На что это ты смотришь? — яростно вскричал он и толкнул меня так, что я, не выпуская рисунков, упал на кровать.
— Отдай! — гневно велел Обембе.
Я бросил листки в его сторону, и Обембе подобрал их с пола.
— Не трогай больше ничего у меня на столе! — прорычал он. — Слышишь, ты, болван?
Я лежал, прикрыв голову рукой. Боялся, что брат меня ударит, однако он просто спрятал рисунки в шкаф, под стопку одежды. Затем отошел к окну. С соседнего двора, отделенного от нас высоким забором, доносились крики — ребята гоняли мяч. Почти всех мы знали: Игбафе, например; он вместе с нами ходил рыбачить на речку. Сейчас его голос то и дело раздавался громче остальных:
— Да, да, пасуй мне. Пинай! Пинай!! Пинай!!! Эх, ну что ты делаешь?
Смех, а затем быстрый топот ног, бурное дыхание. Я сел на кровати.
— Обе, — как можно спокойнее позвал я брата.
Он не ответил: мычал себе под нос какую-то мелодию.
— Обе, — снова, чуть не плача, позвал я. — Ну зачем тебе так нужно убивать безумца?
— Все просто, Бен, — сказал брат, да так хладнокровно, что нервы у меня не выдержали. — Я хочу убить его, потому что он убил наших братьев. Он не заслуживает жизни.
Когда Обембе, рассказав мне историю Оконкво, в первый раз заявил о планах убить Абулу, я решил, что он просто подавлен и в нем говорит гнев. Но сейчас, услышав в его голосе мрачную решимость и увидев рисунки, я испугался, что он настроен серьезно.
— Зачем, зачем тебе… убивать человека?
— Вот видишь, — отмахнулся Обембе, хотя слова мои сочились тревогой, и слово «убивать» я почти прокричал. — Ты даже не знаешь зачем. Ты уже забыл наших братьев.
— Я не забыл их, — возразил я.
— Забыл. Помнил бы — не сидел бы тут, глядя, как Абулу, убив наших братьев, продолжает жить.
— Неужели мы обязаны убить человека-демона? Разве нет иного пути, Обе?
— Нет, — покачал головой Обембе. — Послушай, Бен, раз уж мы испугались вмешаться, когда братья дрались и убили друг друга, то не должны бояться отомстить за них сейчас. Мы должны убить Абулу, иначе не видать нам покоя. Мне не будет покоя. Маме с папой не будет покоя. Из-за Абулу мама рассудка лишилась. Он нанес нашей семье незаживающую рану, и если мы не убьем этого безумца, ничто уже не станет прежним.
Обембе говорил так убежденно, что я не знал, как ответить, и сидел, оцепенев. Брат исполнился железной решимости; каждую ночь он сидел на окне и курил — обычно голый по пояс, чтобы футболка не пропахла дымом. Он курил, кашлял, отплевывался и то и дело прихлопывал на себе москитов.
Когда к нам постучалась Нкем, лепеча, что ужин готов, Обембе открыл и сразу же закрыл за собой дверь — только свет из гостиной успел мелькнуть в проеме, и снова наступила темнота.
Прошло несколько недель, и Обембе, не сумев убедить меня, отдалился. Вознамерился все сделать один.
Ближе к середине ноября, когда сухой гарматан сделал кожу людей пепельно-белой, наша семья уподобилась мыши, которая, точно первый признак жизни, показывается из-под обломков выжженного мира. Отец открыл книжную лавку. На сбережения и при щедрой поддержке друзей — особенно мистера Байо, который обещал навестить нас и которого мы очень ждали, — он арендовал однокомнатное помещение всего в двух километрах от королевского дворца. Местный плотник смастерил большую вывеску, где на белом фоне красной краской вывел: «Книжная лавка Икебоджа». Вывеску повесили над входом. В день открытия отец взял нас собой. Большую часть книг он выставил на деревянных полках, пахнущих лаком. Для начала отец закупил четыре тысячи книг, сказал, что расставлять их придется несколько дней. Запас хранился в мешках и коробках в неосвещенной кладовой. Стоило же отцу туда сунуться, как в зал выскочила крыса. Мать гортанно рассмеялась — впервые с тех пор, как умерли наши братья, — и долго не могла успокоиться.
— А вот и первый покупатель, — заметила она, пока отец гонялся за крысой. Та была вдесятеро быстрее, чем он, но вот наконец — под наш дружный смех — крыса все-таки шмыгнула вон.
Отец, отдышавшись, рассказал, как одного его коллегу из Йолы постигла странная напасть: его дом наводнили крысы. Коллега долго терпел их полчища, прибегая лишь к помощи обычных мышеловок: не хотел, чтобы крысы дохли неизвестно в каких углах дома и гнили там, пока их не найдут. Другие меры оказались тщетны. Но вот одним ясным днем, когда к нему пришли двое коллег и он угощал их, в гостиной показались две крысы. Они немало смутили хозяина дома, и он решил: с него хватит. Переселил на неделю всю семью в отель и посыпал в каждом уголке и закуточке дома порошком «Ота-пиа-пиа». Когда же семья вернулась, то обнаружила дохлых крыс везде: они валялись даже в обуви.
В центре лавки, лицом к двери, отец поместил рабочий стол и кресло. На стол он поставил вазу с цветами и стеклянный глобус, который Дэвид, опрокинув по неосторожности, разбил бы, если бы отец не успел его поймать.
Едва покинув лавку, мы застали ссору на другой стороне улицы: в окружении толпы зевак дрались двое. Не обращая на них внимания, отец указал на крупную вывеску у дороги: «Книжная лавка Икебоджа». Только Дэвиду пришлось объяснять, что название составлено из имен наших умерших братьев. Затем отец отвез нас в супермаркет «Теско» и купил нам пирожных, а на обратном пути решил поехать по улице на задворках нашего района, по узкой дорожке, с которой были видны скрывающие реку Оми-Алу заросли крапивы. По пути нам попалась труппа танцоров: музыка у них играла из нескольких бумбоксов, стоящих в кузове грузовика. На этой улице было полно деревянных и матерчатых навесов, под которыми женщины продавали красивые безделушки. Прочие, стоя у обочины, предлагали сложенные в мешки клубни ямса, рис в пиалах и даже корзинах и много чего еще. Между машинами опасно мелькали перегруженные пассажирами мотоциклы, и было всего лишь вопросом времени, когда кто-нибудь обязательно свалится и расшибет голову. Над зданиями возвышалась стоящая рядом со стадионом статуя Самуэля Оквараджи — нигерийского футболиста, умершего в 1989 году прямо на поле: рука неизменно указывает на невидимого товарища по команде, а нога вечно бьет по мячу. Его дреды покрылись слоем пыли, из зада торчали прутья арматуры. Через дорогу от стадиона под брезентовыми навесами собрались люди в традиционной одежде. Они сидели на пластиковых стульях за столиками, на которых стояли вино и прочие напитки. Двое играли на говорящих барабанах в форме песочных часов, а мужчина в агбаде и длинных брюках из той же ткани исполнял танец с элементами акробатики, и агбада развевалась во все стороны.
Едва мы подъехали к повороту налево — дальше дорога вела прямиком к нашему дому, — как увидели Абулу. После смерти наших братьев он нам еще ни разу не попадался на глаза. Безумец словно испарился, будто и не было его вовсе, будто он вошел к нам в дом, распалил огонь пожара и пропал. Родители о нем, с тех пор как мать вернулась, почти не говорили — разве что мать сама сообщала какие-то слухи. Абулу исчез, лишенный бремени, как всегда, ведь жители Акуре все ему спускали с рук.
Абулу стоял у обочины и смотрел куда-то вдаль, пока мы медленно — из-за «лежачих полицейских» — ехали в его сторону. Он заметил нас и, улыбаясь и размахивая руками, кинулся навстречу. Одного верхнего зуба у него не хватало, а под рукой алела длинная и свежая, еще кровоточащая царапина. Завернутый во враппу с цветочным орнаментом, безумец перешел на тротуар. При этом он двигался как-то вальяжно и жестикулировал, точно общаясь с попутчиком. А потом, когда мы прижались к краю узкой дороги, пропуская нагруженный стройматериалами грузовик «Бедфорд», Абулу остановился и принялся что-то очень внимательно разглядывать на земле. Отец продолжал ехать, словно не замечая его, но мать зашипела и, едва слышно пробормотав: «Злой человек», защелкала над головой пальцами.
— Сдохнуть тебе лютой смертью, — продолжила она на английском. — Сдохнуть тебе. Ka eme sia.
Мимо с грохотом и прерывисто сигналя, проехал фургон, буксировавший сломанную машину. Продолжая следить за Абулу, я стал смотреть в боковое зеркало и заметил, что он удаляется от нас со скоростью реактивного истребителя. Когда он скрылся из виду, я прочел предупреждение на зеркале: «Осторожно. Объекты в зеркале ближе, чем кажутся». Интересно, как близко был от нашей машины Абулу? Стоило вообразить, как он касается ее, и в голове пронеслась лавина мыслей. Сперва я задумался о том, как мать отреагировала на его появление: прикинул, ждет ли безумца на самом деле лютая смерть? Да нет, вряд ли. Кто сможет его убить? Кто приблизится к Абулу и пырнет его ножом в живот? Разве безумец не заметит приближения убийцы и не убьет его первым? Разве не убило бы его большинство горожан, будь у людей возможность? Разве не предпочитают они разбегаться от него, точно круги на воде? Разве не обращаются на пороге расплаты в соляные столбы, словно Абулу неуязвим?
Услышав мать, Обембе обернулся ко мне и поймал меня взглядом в сеть немого вопроса: «Ну, видишь, о чем я тебе говорил?» И тут меня озарило: я понял, что Абулу и впрямь виновник нашего горя. Когда мы проезжали мимо соседского грузовика Аргентины, изрыгавшего клубы черного дыма, до меня дошло: это Абулу нанес рану нашей семье. Хотя я не поддерживал намерение брата отомстить безумцу, встреча с Абулу в тот день изменила меня. Реакция матери: ее проклятие, слезы, что покатились по щекам при виде его, — тронула и меня. Когда Нкем звонким голосочком сказала: «Папа, мама плачет», я ощутил прокатившуюся по телу холодную волну и как будто весь онемел.
— Да, знаю, — ответил отец, глядя в зеркало заднего вида. — Скажи ей, пусть перестанет.
Когда Нкем передала матери: «Мама, папа просил сказать, чтобы ты перестала плакать», мое сердце не выдержало, и, точно плотина прорвалась, я припомнил все беды, причиненные нам Абулу:
1 1. Это он отнял у нас братьев.
1 2. Это он отравил ядом нашу с братьями кровь.
1 3. Это из-за него отец лишился работы.
1 4. Это из-за него мы с Обембе пропустили целую четверть.
1 5. Это он чуть не свел мать с ума.
1 6. Это из-за него пришлось сжечь вещи моих братьев.
1 7. Это из-за него тело Боджи сожгли, словно мусор.
1 8. Это из-за него тело Икенны закопали в песок.
1 9. Это из-за него Боджа раздулся, точно шар.
10. Это из-за него Боджу объявили в розыск по всему городу.
Список можно было продолжать без конца. Я перестал считать, а строчки бежали перед мысленным взором, точно вода из незакрытого крана. Поражало и страшило то, что этот человек — причинив столько горя нашей семье, заставив страдать мою мать, внеся раздор между нами, — даже отдаленно не представлял, что он натворил. Он продолжал жить, целый и невредимый.
11. Он разрушил карту желаний моего отца.
12. Он породил пауков, захвативших наш дом.
13. Это он — не Боджа — воткнул нож Икенне в живот.
К тому времени как отец заглушил мотор, голем, созданный внутри меня этим откровением, восстал и стряхнул с себя лишнюю глину. На челе его был начертан вердикт: Абулу — враг.
Вскоре мы с Обембе оказались в нашей комнате, и когда брат натягивал бриджи, я сказал ему, что тоже хочу убить Абулу. Обембе замер и взглянул на меня. Потом подошел и обнял.
Ночью, в темноте, он рассказал мне историю — чего не делал уже очень давно.
13. Пиявка
Ненависть — это пиявка.
Тварь, что присасывается к коже человека и питается от него, истощает силу духа. Она меняет человека и не отстанет, пока не высосет до последней капли весь покой его души. Ненависть впивается в кожу и постепенно проникает все глубже и глубже, так что, удаляя паразита, ты вырываешь себе кусок плоти, а убивая его — калечишь себя. Некогда люди использовали огонь, раскаленный прут, и после прижигания пиявки на коже оставался след. Так вышло и с ненавистью, которую мой брат питал к Абулу: она впилась ему глубоко в кожу. С того вечера, как я дал согласие отомстить, мы почти всегда держали дверь в комнату запертой и каждый день, пока родители работали — мать в лавке, отец в книжном, планировали миссию.
— Сперва, — сказал одним утром Обембе, — надо победить его здесь, в нашей комнате. — Брат показал рисунки, на которых палочные человечки в драке убивали безумца. — Победим сперва мысленно, потом на бумаге, а потом и вживую. Ты ведь слышал, как пастор Коллинз много раз повторял: то, что происходит в физическом мире, уже случилось в мире духовном. — Ответа на вопрос он, однако, не ждал. Сразу продолжил: — Так что перед тем, как отправиться на поиски Абулу, мы должны убить его здесь.
Первым делом мы рассмотрели пять рисунков, на которых был изображен момень уничтожения Абулу, и обсудили пути достижения цели. Первый рисунок Обембе назвал «Давид и Голиаф»: он мечет камни в Абулу, и тот умирает.
Я в успехе этого плана усомнился. Мы ведь не были слугами Божьими вроде Давида, и нам не суждено было стать царями, как Давиду, и потому мы могли не попасть Абулу камнем в лоб. Стоял самый разгар дня, и солнце пекло вовсю, так что Обембе включил потолочный вентилятор. Где-то в нашем районе зазывал уличный торговец: «Резиновые сандалии — налета-а-а-ай!» Мой брат сел на стул и, потирая челюсть, подумал над моими словами.
— Послушай, я понимаю твои страхи, — сказал он наконец. — Может, ты и прав, но закидать Абулу камнями реально. Вопрос — как это сделать? Где и в какое время, чтобы нас не поймали? Вот в чем недостатки этого варианта, а не в том, что мы не цари вроде Давида. — Я согласно кивнул. — Если мы закидаем его камнями у всех на виду, кто знает, что будет? А вдруг мы попадем в случайного прохожего?
— Ты прав, — кивнул я.
Далее Обембе представил рисунок, на котором Абулу был заколот ножом — совсем как Икенна. Этот план Обембе назвал «Оконкво», в честь героя книги «И пришло разрушение». Изображение пугало.
— А если он будет сопротивляться и сам тебя зарежет? — спросил я. — Он ведь коварный, ты знаешь.
Такая перспектива встревожила моего брата. Он взял карандаш и перечеркнул рисунок.
Одну за другой мы перебирали схемы и обдумывали варианты, пробовали их на зуб, а после, найдя непригодными, зачеркивали. Когда же заготовки у Обембе закончились, мы стали на ходу придумывать стечения обстоятельств, несчастные случаи, но большинство идей отвергалось, еще даже толком не оформившись. На одном из таких набросков мы гнались за Абулу ненастным вечером, и его на полном ходу сбивала машина — содержимое раздавленной головы выплескивалось на асфальт. В нашей фантазии на дороге оставались части разорванного тела. Это была моя мысль, ведь я много раз видел на дороге тушки сбитых цыплят, коз, собак, кроликов… Мой брат некоторое время думал, закрыв глаза. Тем временем в район вернулся торговец сандалиями. Он кричал еще громче: «Сандалии! Налетай! Резиновые сандалии!» Торговец так близко подошел к нашему двору, что из-за его криков я не сразу услышал, как Обембе заговорил:
— …неплохая идея, но ты ведь знаешь: эти трусые глупцы, которым неизвестно, как этот безумец обошелся с нашей семьей, попытаются остановить нас.
И снова, как обычно, пришлось согласиться. Обембе разорвал рисунок и бросил клочки бумаги на пол.
Пиявка — решимость Обембе отомстить за смерть наших братьев — так глубоко впилась в него, что убить ее было уже нельзя даже при помощи огня. В течение последующих дней, когда родителей не бывало дома, мы выходили искать безумца. Выбирались утром, бродя по улицам часов с десяти и до двух дня. В школе началась новая четверть, но отец написал директрисе с просьбой позволить нам не ходить на занятия, поскольку мы до сих пор не оправились от гибели братьев и не готовы вернуться за парту. А чтобы случайно не наткнуться на одноклассников или просто приятелей и знакомых, мы выбирали окольные пути. Почти всю первую неделю декабря прочесывали улицы в поисках безумца, но так и не нашли его следов. В фургоне его не было, не было и поблизости; не отыскали мы его и у реки. Спрашивать о нем не решались: люди из нашего района так много о нас знали, что при встрече почти всегда делали сочувственные лица, словно мы несли на челе знак трагедии.
Неудачи не отпугнули моего брата, как и история про Абулу, услышанная на той неделе. Меня же она лишила всякого мужества, какое помогло мне присоединиться к предприятию Обембе. Безумца много дней не видели, он словно пропал из нашего района. И тогда мы начали спрашивать о нем у тех людей, которые нас не знали. Так постепенно добрались до крупной заправки у северной границы района. Перед находившимся неподалеку торговым центром стоял цветастый надувной человечек. Он постоянно кланялся, кренился и полоскал руками на ветру. На заправке мы встретили Нонсо, бывшего одноклассника Икенны. Он сидел на деревянном стульчике у обочины магистрали, а перед ним на мешках из рафии были разложены газеты и журналы. Нонсо с хлопком пожал нам руки и сообщил, что в нашем районе он — главный продавец прессы.
— Вы что, не слыхали обо мне? — спросил он надтреснутым голосом, постоянно стреляя взглядом то на меня, то на Обембе. Ощущение было, что он под кайфом.
В ухе у него поблескивала серьга, а на голове — лощеный темный «ирокез». Нонсо слышал о гибели Икенны, о том, как его пырнул ножом в живот свой же «шкет». Боджу он всегда ненавидел.
— Но, — сказал Нонсо, — земля им пухом.
В этот момент мужчина, сидевший чуть в стороне и читавший выпуск «Гардиан», встал и, бросив газету на стол, дал Нонсо несколько монет. На передней полосе газеты я заметил фото убитой Кудират Абиолы, супруги победителя президентских выборов 1993 года. Нонсо жестом пригласил нас сесть на лавочку под матерчатым навесом — туда, где до этого сидел мужчина. Я вспомнил день, когда мы повстречали М.К.О.: Кудират стояла рядом с нами и даже взъерошила мне волосы — пальцы у нее были унизаны кольцами. Голосом, в котором сочетались властность и скромность, она попросила толпу отступить. На фото же ее глаза были закрыты, а лицо — бесцветное, безжизненное.
— Ты ведь знаешь, что это — жена М.К.О.? — спросил Обембе, забирая у меня газету.
Я кивнул. Еще долго после нашей встречи с М.К.О. мне хотелось вновь увидеть эту женщину. Мне тогда казалось, что я влюблен в нее. Ее я первой представлял в роли жены. Прочие женщины были для меня просто женщинами, чьими-то матерями, девушками, но она — женой.
Обембе спросил у Нонсо, не встречал ли он в последнее время Абулу.
— Этого демона? — отозвался Нонсо. — Два дня назад, прямо здесь. Вот на этой самой дороге, у заправки, над трупом…
Он указал на грунтовку возле магистрали, соединявшейся с дорогой на Бенин.
— Каким еще трупом? — спросил мой брат.
Нонсо покачал головой и, сняв с плеча полотенце, утер им блестящую от пота шею.
— Вы разве не слыхали?
Абулу, сказал он, наткнулся на тело убитой молодой женщины рано утром — наверное, на рассвете. Учитывая, как медленно в Нигерии работает дорожная полиция, тело пролежало на месте довольно долго, и даже еще в середине дня прохожие останавливались посмотреть на него. После полудня тело привлекало уже не так много внимания, но вот вокруг него собралась галдящая толпа. Нонсо хотел посмотреть, в чем дело, но зеваки загородили обзор.
Когда его любопытство достигло предела, Нонсо оставил газеты и перешел дорогу. Продравшись через толпу, он наконец увидел, из-за чего переполох; женщина лежала в той же позе, что и раньше: голова в ореоле запекшейся крови, так что волосы образовали неровную клейкую массу, руки раскинуты в стороны. На одном из пальцев у нее поблескивало кольцо. Правда, на сей раз женщина была голая, и Абулу двигался внутри нее на глазах у пораженной публики. Кто-то спорил: разумно ли позволять ему осквернять труп, тогда как другие отмахивались: женщина мертва, так что ничего страшного. Меньше всего было тех, кто призывал остановить безумца. Кончив, Абулу заснул в обнимку с покойницей и спал, словно рядом с женой, пока наконец полиция не забрала тело.
История до того потрясла нас с Обембе, что больше мы в тот день безумца не искали. Меня накрыло саваном страха, и было видно, что даже Обембе напуган. Он долго сидел в гостиной, в молчании, пока не уснул, упершись затылком в спинку кресла. В страхе перед Абулу я желал, чтобы брат отступился от задуманного, но не мог сказать ему этого в лицо. Боялся, что он разозлится и даже возненавидит меня, но к концу недели вмешалось само провидение — как я понимаю это сейчас, когда ясно вижу события прошлого, — и попыталось уберечь нас от того, что должно было случиться. За завтраком отец сообщил, что его друг мистер Байо, переехавший в Канаду, когда мне было три года, прилетел в Лагос. Новость была как вспышка молнии. По словам отца, мистер Мистер Байо обещал забрать меня и брата в Канаду. Над столом будто граната разорвалась, и по всей комнате разлетелась шрапнель радости. Мать воскликнула: «Аллилуйя!» — и, вскочив со стула, принялась петь.
Я тоже исполнился безотчетного веселья, тело вдруг сделалось легким-легким. Но взглянув на брата, я увидел, что он никак не отреагировал: хмурый, как туча, он продолжал есть. Мне еще подумалось, что, может быть, Обембе не расслышал отца. Он согнулся над тарелкой, невозмутимо продолжая завтракать.
— А как же я? — со слезами на глазах спросил Дэвид.
— Ты? — со смехом переспросил отец. — И ты поедешь. Не останется же здесь такой большой человек! И ты поедешь. Вообще, ты первым на самолет сядешь.
Я все еще размышлял над тем, что происходит в голове у Обембе, когда он спросил:
— А как же школа?
— В Канаде школы получше, — ответил отец.
Кивнув, Обембе вернулся к еде. Меня поразило, как он равнодушно принимает самую, наверное, лучшую новость в жизни. Мы ели дальше, пока отец рассказывал о том, как Канада в короткий срок в своем развитии превзошла другие страны — включая Великобританию, в состав которой некогда входила. Потом отец перешел к Нигерии, к тому, как коррупция разъела ее изнутри, и наконец принялся, как обычно, поносить Говона[16], человека, которого мы с детства ненавидели, которого отец постоянно винил в бомбежках нашей деревни, — человека, погубившего очень много женщин во время Нигерийской гражданской войны.
— Этот идиот, — резко произнес отец (при этом его кадык ходил ходуном, а на шее выступили тугие жилы), — главный враг Нигерии.
Когда отец отправился в книжный, а мать ушла, забрав Дэвида и Нкем, я подошел к брату. Обембе в это время таскал воду из колодца в ванную. Прежде это тяжелое занятие доверяли исключительно Икенне и Бодже, потому как мы с Обембе были слишком малы, чтобы пользоваться колодцем. С самого августа им не пользовались.
— Если мы и правда скоро уезжаем в Канаду, — сказал Обембе, — то надо убить безумца как можно быстрее. Надо срочно отыскать его.
Прежде я испытал бы воодушевление, однако в этот раз хотелось просить брата забыть о безумце и готовиться к новой жизни в Канаде. Но я не мог. Вместо этого я сам не заметил, как произнес:
— Да, да, Обе… надо.
— Мы должны поскорей убить его.
Хорошие, казалось бы, новости так встревожили Обембе, что он даже пропустил ужин. Он рисовал, стирал и рвал бумагу — в нем бушевал огонь. Наконец от карандаша остался огрызок длиной в палец, а стол был завален клочками бумаги. Тогда, у колодца, вскоре после того, как родители ушли на работу, Обембе сказал мне, что действовать надо быстро. Сказал яростно, указывая на колодец: «Боджа, наш брат, гнил тут, как… как какая-нибудь ящерица. И все из-за этого психа. Мы или отомстим, или не поеду я ни в какую Канаду».
В подтверждение своей клятвы — чтобы я не думал, что это просто слова, — брат облизнул большой палец. Он был полон решимости. Подняв с земли полные ведра, Обембе отправился в дом, а я остался у колодца, размышляя, как всегда после беседы с ним, правда ли я тоскую по Икенне и Бодже так же, как и брат. Но, к своему утешению, я понял, что мне их, конечно, не хватает и я просто боюсь Абулу. Не мог я и убить. Это ведь грех, да к тому же какое право я, ребенок, имел так поступать? Однако Обембе со всей доступной силой убеждения заверил, что доведет план до конца. Он был уверен в успехе, ведь его страсть обернулась неуязвимой пиявкой.
14. Левиафан
Однако Абулу был левиафаном.
Бессмертным китом, убить которого не под силу и отряду бесстрашных моряков. Абулу не мог умереть, как обычный человек из плоти и крови. Хоть он и не отличался от людей своего сорта — безумный бродяга, погрязший, по причине умственного расстройства, на самом дне, в лишениях, и потому стоящий на грани чрезвычайных опасностей, — но смерть часто подходила к нему ближе, чем к кому-либо из них. Мы очень хорошо знали, что питается он главным образом отбросами — тем, что найдет на свалках. Бездомный, Абулу ел что попало: ошметки мяса, разбросанные возле открытых боен, объедки с помоек, упавшие с деревьев фрукты. При такой диете обычный человек давно подхватил бы какую-нибудь заразу, но Абулу жил, здоровый и крепкий, и даже обзавелся пузом. Когда он прошелся по битому стеклу и истек кровью, все решили: ему конец — но спустя несколько дней он снова объявился в городе. Это лишь отдельные примеры того, как он избегал неминуемой гибели, а всего таких историй имелось множество.
На следующий после встречи с Абулу день, когда мы в очередной раз пришли на речку, Соломон объяснил, почему так упорно просил не слушать пророчество. Он верил, будто Абулу — воплощение злого духа. В доказательство он рассказал об одном случае, свидетелем которому стал много месяцев тому назад. Абулу шел вдоль дороги и вдруг остановился. Моросил дождь, и безумец весь промок. Встав лицом к проезжей части, он окликнул свою мать — она, очевидно, примерещилась ему посреди дороги, — и стал молить о прощении за все. Потом заметил летящую в их сторону машину и, испугавшись, велел матери убираться с дороги. Призрак, похоже, стоял на месте и не думал уходить, и в тот момент, когда — как казалось Абулу — машина должна была сбить его мать, он выскочил на дорогу, чтобы ее спасти. Его отбросило на травянистую обочину, а сама машина съехала в близлежащие кусты. Абулу, которому полагалось умереть на месте, полежал неподвижно некоторое время, затем с трудом поднялся на ноги: весь в крови, с дырой во лбу. Отряхнул мокрую одежду, будто машина лишь обдала его облаком пыли. Хромая, двинулся прочь, то и дело оборачиваясь в ту сторону, куда поехала машина, и бормоча: «Убить кого вздумал, э? Видишь — женщина на дороге, трудно остановиться? Человека убить хочешь?» Так он и шел: хромая и бормоча себе под нос. Порой он оборачивался и, держась за мочку уха, напоминал водителю ехать в следующий раз помедленней: «Слышишь меня, слышишь?»
На следующий день после новости о скором переезде в Канаду Обембе подошел ко мне и сунул в руки рисунок. Я сел и стал изучать новую схему, а брат тем временем принялся пояснять.
— Можно убить его с помощью «Ота-пиа-пиа». Купим банку и отравим хлеб или еще что, а потом дадим безумцу. Все равно жрет что попало и где попало.
— Да, — согласился я, — даже помои из канав выгребает.
— Верно, — кивнул Обембе. — А ты не думал, почему он до сих пор не умер? Он же на помойках ест, всякий мусор. Как он не сдох еще?
Обембе ждал ответа, но я ничего не сказал.
— Помнишь, Соломон рассказывал, почему по-настоящему боится Абулу и не желает с ним связываться?
Я кивнул.
— Ну, вот видишь. Мы, конечно, не должны сдаваться, но и забывать нельзя: этот человек — необычен. Глупцы, — так он теперь называл жителей Акуре, позволявших Абулу оставаться живым, — верят даже, что он — сверхъестественное существо, которое просто так не убьешь. Представляешь, они верят в такую глупость, будто годы жизни за пределами разума изменили природу Абулу и отныне он не простой смертный.
— Это правда? — спросил я.
— Скормим Абулу отравленный хлеб, и все решат, что он просто съел что-нибудь не то на помойке. — Я не стал спрашивать, откуда Обембе это известно, ведь он был для меня хранителем тайного знания и я верил ему безоговорочно. Через некоторое время мы вышли из дома. Карманы на шортах моего брата топорщились, набитые кусками обваленного в крысином яде хлеба. Его Обембе раздобыл еще предыдущим днем — отрезал от своей доли за завтраком. Брат при мне достал засохшие куски хлеба и еще немного сдобрил их отравой, наполнив комнату специфическим запахом. Затем сказал, что «на миссию» отправляться нужно немедленно, а после все будет конечно. Вооружившись отравой, мы отправились к фургону Абулу, но на месте его не застали. Двери у машины, если верить слухам, закрывались, однако стояли почти всегда распахнутые настежь. В салоне еще держались потрепанные сиденья, прохудившиеся до самого деревянного остова: их плоть — кожаная обшивка — порвалась и стерлась. Ржавая крыша в дождь протекала. На сиденьях лежал всякий хлам, например, старые синие шторы — они свисали до самого пола; старая керосиновая лампа без колпака; палка, бумаги; порванные туфли; жестяные банки и много всего прочего, добытого на свалках.
— Должно быть, еще рано, — сказал брат. — Вернемся домой и придем после обеда. Может, тогда застанем его.
Мы отправились домой, а после того как мать прибежала на обед, сварила нам ямс и снова ушла в магазин, вернулись к фургону. Безумец оказался на месте, но мы увидели то, к чему никак не были готовы. Абулу склонился над глиняным горшком, стоящим на двух крупных камнях, и выливал в него воду из бутылки. Между камнями на земле были сложены щепки — очевидно, предполагался костер, — но огонь не горел. Опустошив бутылку, безумец взял баночку из-под какого-то напитка, перевернул ее над горшком и принялся тщательно выскребать содержимое — что это было, мы не видели. Он то и дело, сощурившись, заглядывал внутрь баночки и скреб дальше, пока с довольным видом не поставил ее аккуратно на низенькую табуретку, на которой находилось еще много чего. Затем он метнулся в фургон и вышел, держа в руках пучок каких-то листьев, кости, некий шарообразный предмет, а также белый порошок — должно быть, соль или сахар. Сложив все это в котелок, он рывком отпрянул, словно перед ним было горячее масло и в этот момент оно брызнуло вверх. Я с изумлением понял, что безумец готовит — или, вернее, воображает, что готовит, — некую мешанину из отходов. На время мы позабыли о нашей цели. Не веря собственным глазам, мы просто наблюдали за этим кухарством, пока к нам не присоединились двое прохожих.
На них были дешевые рубашки, заправленные в брюки из мягкой ткани. На одном мужчине брюки были черные, на другом — зеленые. В руках незнакомцы сжимали книги в твердом переплете, и мы сразу догадались, что это Библии. Должно быть, мужчины шли из церкви.
— Надо бы за него помолиться, — предложил один, с очень темной кожей и лысиной на полголовы.
— Мы постились и молились три недели, — сказал второй, — прося Бога о силе. По-моему, пора использовать ее.
Его приятель тупо кивнул, но не успел он ответить, как третий голос произнес:
— Нет, не пора.
Это сказал мой брат. Мужчины обернулись к нему.
— Этот человек, — продолжал Обембе, надев маску страха, — притворщик. Он не настоящий безумец. С головой у него все в порядке. Его все знают: он только строит из себя дурачка, обманом выпрашивая милостыню, пляшет у обочин, у магазинов и на рынках. Но он здоров. У него и дети есть. — Тут он глянул на меня, хотя по-прежнему обращался к мужчинам. — Это наш отец.
— Что? — воскликнул лысеющий.
— Да, — совершенно поразив меня, продолжал Обембе, — мы с Полом, — он указал на меня, — пришли сюда по велению матери. Она просила позвать отца домой, передать, что на сегодня довольно, но он отказался возвращаться.
Обембе стал делать умоляющие жесты, но безумец лишь озирался по сторонам в поисках какой-то пропавшей вещи и, казалось, вовсе его не замечал.
— Невероятно, — произнес темнокожий. — Чего только не услышишь и не увидишь в этом мире… Человек притворяется сумасшедшим, чтобы заработать на жизнь? Невероятно.
Покачивая головами, мужчины пошли прочь, напоследок велев нам молиться за отца, чтобы Господь коснулся его и открыл ему глаза на его алчность.
— Бог все может, — сказал темнокожий, — если просить с верой.
Обембе согласился и поблагодарил незнакомцев. Когда они удалились на приличное расстояние, я спросил брата, что это такое было.
— Тс-с-с, — сказал он, ухмыляясь. — Послушай, я испугался, что у этих людей и правда есть сила. Мало ли: три недели постились! Ну и ну! Вдруг они наделены силой, как Рейнхард Боннке, Кумуйи или Бенни Хинн — помолятся и исцелят Абулу? Оно мне надо? Если Абулу выздоровеет, то перестанет бродить по улицам и, — бог его знает — может, даже вообще из города уйдет. Ты ведь понимаешь, что это значит? Абулу уйдет от наказания после всего, что сделал. Нет-нет, я этого не допущу, только через мой тру…
Тут он осекся, увидев остановившихся посмотреть на безумца мужчину с женой и сыном примерно моего возраста. Абулу хихикал. А Обембе приуныл: нам снова мешали и безумец мог тем временем куда-нибудь убежать. В конце концов брат сделал вывод: это место — слишком людное, чтобы травить Абулу, и мы отправились домой.
На следующий день мы снова пришли к фургону, но Абулу на месте не оказалось. Мы отыскали его лежащим возле небольшой начальной школы, огороженной высоким забором. До нас долетали детские голоса: это школьники стройным хором декламировали стихотворения. Время от времени учительница прерывала их и просила похлопать друг дружке. Безумец вскоре поднялся с земли и принялся величаво расхаживать, заложив руки за спину — ни дать ни взять гендиректор какой-нибудь нефтяной компании. Недалеко от него валялся зонтик: оторвавшиеся от матерчатого купола спицы ребрами торчали в стороны. Неотрывно глядя на кольцо у себя на пальце, Абулу отбивал шаг и бубнил себе под нос: «В жены… отныне супруги… любовь… сочетаются браком… прекрасное кольцо… отныне супруги… ты… отец… сочетаются браком».
Когда безумец, продолжая невнятно бормотать, скрылся из виду, Обембе объяснил мне, что он изображает христианский свадебный обряд. Мы медленно, держась на почтительном расстоянии, последовали за ним. Миновали то место, где в 1993-м Икенна вытащил из салона машины мертвеца. Я прикидывал, насколько гибельна приготовленная нами отрава, и страх во мне разгорелся с новой силой. Стало жаль безумца, живущего, как бродячий пес, и питающегося чем придется. Абулу часто останавливался, оборачивался и принимал позу, словно модель на подиуме, вытягивая руку с кольцом. На этой улице мы еще ни разу не бывали. Абулу направился к бунгало, где на веранде две женщины заплетали косы третьей, сидевшей на стуле. Безумца криками и камнями погнали прочь.
Еще долго после того, как женщины вернулись на веранду — а они кричали ему, такому поганому, вслед, чтобы убирался, — он бежал, то и дело оборачиваясь. С его лица при этом не сходила похотливая ухмылка. Вскоре выяснилось, что по грунтовке, по которой мы шли, машины почти не ездили, потому что она упиралась в деревянный мост: длиной почти в две сотни метров, он тянулся над рекой Оми-Ала. Ребятня превратила дорогу длиной всего в несколько метров в игровую площадку: с обоих концов поставили по паре крупных камней, обозначив футбольные ворота. Поднимая пыль, ребята с криками гоняли мяч. Абулу следил за детворой с улыбкой. Затем, взяв в руки невидимый мяч, примерился к нему и с силой ударил. Чуть не упав при этом, он вскинул руки и заорал: «Го-о-о-ол! Это — го-о-о-о-ол!»
Подойдя поближе, мы заметили среди играющих Игбафе и его брата. А едва ступив на мост, я вспомнил сон, приснившийся мне в ту пору, когда Икенна еще только претерпевал метаморфозу. Знакомый запах реки, пестрые рыбки — каких мы удили, — мельтешащие у берегов, пение невидимых глазу лягушек и стрекот сверчков, и даже тухлая вонь Оми-Алы, — все это напомнило о тех днях, когда мы рыбачили. Я стал пристально следить за рыбешками, потому что давно не видел, как они плавают. Некогда я даже мечтал стать рыбой — и чтобы все мои братья тоже были рыбами. И чтобы мы целыми днями только и делали, что плавали и плавали.
Как мы и думали, Абулу, глядя на горизонт, направился к мосту. Наконец он ступил на деревянные планки, и мы — со своего конца — ощутили, как мост качнулся под его весом.
— Как только скормим ему хлеб, сразу бежим, — сказал брат, ожидая приближения безумца. — Он может свалиться в воду и умереть там. Никто ничего и не увидит.
Я хоть и боялся, но все же кивнул. Оказавшись на мосту, Абулу сразу же подошел к оградке и, взявшись за нее, стал мочиться в воду. Мы следили за ним, пока он не закончил и его член, роняя последние капли на планки моста, не обвис эластичным шнурком. Обембе огляделся, убедился, что никто его не видит, и, достав отравленный хлеб, направился к безумцу.
Когда Абулу оказался близко, я, уверенный, что безумец вскоре умрет, принялся его разглядывать. Он напоминал силача из древности, когда люди способны были голыми руками порвать все, что под руку попадется. На щеках и подбородке у него росла курчавая борода, а угольно-черные усы словно были нарисованы изящными движениями кисти. Длинные грязные волосы свалялись. Густая растительность покрывала также большую часть груди, ягодицы и лобок. Под длинные и жесткие ногти набился толстый слой грязи.
Абулу окружал ореол сразу нескольких запахов, но среди них выделялась вонь фекалий. Стоило приблизиться к безумцу, и она накрыла меня, словно рой мух. Должно быть, подумал я тогда, это оттого, что Абулу с давних пор не подмывался. Еще от него воняло потом, что скапливался в волосах под мышками и на лобке. Несло от него и тухлой едой, незалеченными ранами и гноем, жидкостями тела. Ржавым металлом, разложением, старыми тряпками, чужим выброшенным нижним бельем, которое Абулу порой натягивал. Еще от него пахло листьями, ползучими растениями, гнилыми манго с берега Оми-Алы, речным песком и даже самой водой. От него исходил запах банановых деревьев и гуавы, пыли, принесенной гарматаном, одежды, которую портной выбрасывает в большую корзину позади своей лавки, мясных отходов с бойни, объедков, которыми питаются стервятники, использованных презервативов из отеля «Ля Рум», сточных вод и грязи, спермы, которой он орошал себя, когда мастурбировал, вагинальных выделений, засохшей слизью. Впрочем, и это было не все: от Абулу пахло чем-то нематериальным. Сломанными жизнями, безмолвием в душах его жертв. От него пахло неизведанным, чем-то страшным и забытым. От него пахло смертью.
Обембе протянул безумцу хлеб, и тот, подойдя, взял его. Он, похоже, не вспомнил нас, будто и не пророчествовал нам.
— Еда! — сказал Абулу, высунув язык, и разразился потоком слов: — Съесть, рис, бобы, съесть, хлеб, съесть, это, манна, маис, эба, ямс, яйцо, съесть. — Впечатав кулак в раскрытую ладонь, он продолжал ритмичный напев, который пробудило слово «еда». — Еда, еда, ajankro ba, еда-а-а-а! Съесть это. — Он развел руки, обнимая невидимый горшок. — Съесть, еда, съесть, съесть…
— Это добрая пища, — запинаясь, произнес Обембе. — Хлеб, ешь, ешь, Абулу.
Абулу так ловко закатил глаза, что посрамил бы лучших закатывальщиков глаз. Приняв от Обембе кусок хлеба, он хихикнул, потом зевнул, словно ставя некий знак препинания в предложении на своем языке. Когда безумец забрал хлеб, Обембе выразительно посмотрел на меня, и мы попятились. Оказавшись на безопасном расстоянии, мы дали деру и побежали по другой улице. Вдали дико гудела автомобильная дорога, пересекающая участок грунтовки.
— Не будем уходить слишком далеко, — задыхаясь и держась за мое плечо, произнес брат.
— Да, — пролепетал я, пытаясь отдышаться.
— Скоро он упадет, — проурчал Обембе. Взгляд его напоминал горизонт, на котором взошла одна яркая звезда радости, тогда как мой наполнился быстрыми водами душераздирающей жалости. В тот момент я вспомнил рассказ матери о том, как Абулу сосал коровье вымя, и мне подумалось: ведь это лишения и нищета толкнули безумца на столь отчаянный поступок. В нашем холодильнике всегда стояли банки молока: «Коубелл», «Пик», — с коровами на этикетках. Абулу же ничего из этого позволить себе не мог. У него не было ни денег, ни одежды, ни родителей, ни дома. Он был как голуби из песни, которую мы пели в воскресной школе: «Взгляни на голубей, у них одежды нет». И нет садов у них, но с ними сам Господь. Абулу напоминал этих самых голубей, и мне стало жаль его, как это бывало не раз.
— Он скоро умрет, — сказал брат, вырывая меня из задумчивости.
Мы остановились у ларька, в котором женщина продавала разную мелочь. Витрина была забрана решеткой, и через окошко в ней торговка общалась с клиентами. С решетки свисали коробки с напитками и сухим молоком, пакеты печенья, сладостей и прочих продуктов. Я представлял, как Абулу падает на мост и умирает. Мы успели заметить, как он взял отравленный хлеб в рот и как задвигались его челюсти. И вот теперь увидели, что он, по-прежнему держась за ограду, стоит и смотрит на реку. Мимо него прошло несколько человек — один даже обернулся. Сердце у меня чуть не встало.
— Он умирает, — шепнул брат. — Смотри: дергается, наверное, поэтому на него оборачиваются. Говорят, судороги — первый знак, что отрава подействовала.
Словно подтверждая наши подозрения, Абулу согнулся и что-то выплюнул. Я еще подумал: Обембе прав. Мы много раз видели в кино, как отравленные люди кашляют, исходят пеной, а потом падают и умирают.
— Получилось, получилось! — вскричал брат. — Мы отомстили за Ике и Боджу. Я же говорил, что у нас все получится. Я же говорил.
Обрадовавшись, Обембе принялся рассуждать о том, что теперь мы заживем спокойно и что безумец больше не станет никому докучать… Но замолчал, увидев, как Абулу, приплясывая и хлопая в ладоши, идет в нашу сторону. Чудо шло к нам, танцуя и напевая торжественные песни о Спасителе, ладони которому пробили гвоздями и который однажды вернется. Пение Абулу окрасило вечерние сумерки в мистические тона, и мы пошли следом за ним. Поражаясь его живучести, мы шли мимо длинной дороги, мимо закрывающихся на ночь магазинов, пока лишившийся дара речи Обембе не остановился и не развернулся в сторону нашего дома. Он, как и я, теперь понял разницу между невредимым пальцем, опущенным в лужу крови, и пальцем, из раны на котором хлещет кровь. Понял, что ядом Абулу не взять.
Пиявка, что присосалась к нам с братом, не давала горю, словно крови, свернуться, не позволяла ране зажить, зато родители наши исцелились. Мать ближе к концу декабря сбросила траурные одежды и вернулась к нормальной жизни. Она больше не взрывалась на ровном месте и не погружалась внезапно в пучину печали, да и пауки как будто повывелись. А раз мать поправилась, пришло время для поминальной службы с Икенной и Боджей — которую раньше устроить не получалось. Много недель мы откладывали обряд из-за болезни матери, и вот теперь его назначили на субботу, через пять дней после нашего с Обембе неудачного покушения на Абулу. В то утро мы все, одетые в черное — даже Дэвид и Нкем, погрузились в машину. Накануне мистер Боде починил ее. Вообще, трагедия сблизила с ним нашу семью: он теперь часто заходил в гости, а один раз даже привел невесту, девушку, у которой из-за выпирающих зубов почти не закрывался рот. Отец теперь называл мистера Боде не иначе как братом.
Служба состояла из прощальных песен, краткой «истории мальчиков» в пересказе отца и небольшой проповеди от пастора Коллинза. Наш пастор за пару дней до этого попал в аварию на мототакси и пришел с повязкой на голове. В зале я увидел много знакомых лиц: соседи по району, большинство из которых посещали другие церкви. В своей речи отец назвал Икенну великим человеком — при этом Обембе устремил на меня пристальный взгляд, — таким, который, если бы не смерть, повел бы за собой людей.
— Если коротко, то Икенна был прекрасным ребенком, — говорил отец. — Ребенком, который успел познать немало невзгод. Дьявол пытался забрать его, но Господь не дал. В шесть лет от удара одно яичко у него оказалось в животе… — В этом месте отца прервал пронесшийся по залу вдох ужаса.
— Да, в Йоле, — продолжал отец. — А всего через несколько лет его ужалил скорпион. Не стану утомлять вас деталями, но, прошу, знайте: Бог не оставил Икенну. Его брат Боджа… — Тут на собрание опустилась небывалая тишина. Ибо, стоя на возвышении, перед церковью, отец — наш папа, человек, все повидавший, отважный, сильный, генералиссимус, командир телесных наказаний, интеллектуал, орел, — заплакал. Меня охватил стыд при виде отца, рыдающего на глазах у всех, и я упер взгляд в собственные туфли. Отец тем временем вновь заговорил, хотя на сей раз его слово — точно перегруженный лесоматериалами грузовик на запруженной дороге в Лагосе — вихляло по ухабистой грунтовке трогательной речи, с остановками, рывками и задержками.
— Он тоже мог бы стать великим. Он… был одаренным мальчиком. Если бы вы знали его… он… был хорошим сыном. Спасибо, что пришли.
Отец поспешно закончил речь. Ему долго хлопали, а потом начали петь гимны. Мать все время тихонько плакала, промокая глаза платочком. И пока я тоже плакал по усопшим братьям, горе медленно вонзало мне в сердце маленький ножик.
Люди пели «Течет ли жизнь мирно», и вдруг я заметил необычное оживление: гости стали оборачиваться и стрелять взглядами в сторону дверей. Я оборачиваться не хотел — рядом со мной и Обембе сидел отец, — но пока я гадал, в чем дело, ко мне наклонился Обембе и шепнул: «Абулу пришел».
Я тут же обернулся и увидел безумца — он стоял среди людей в грязной коричневой рубашке с большим пятном пота. Отец зыркнул на меня, взглядом веля не отвлекаться. Абулу часто наведывался в церковь. Первый раз он заявился посреди проповеди: прошел мимо привратников и сел на скамью в женском ряду. Прихожане сообразили, что что-то неладно, однако пастор продолжал читать проповедь. Привратники — юноши — пристально следили за Абулу. Правда, он держался неожиданно спокойно и, когда пришло время заключительной молитвы и гимна, исполнил и то, и другое вместе со всеми — словно его подменили. После он тихо и мирно двинулся к выходу, оставляя позади себя взбудораженных прихожан. Потом он еще несколько раз посещал службу, почти всегда занимая место среди женщин и порождая горячие споры между теми, кто полагал, что голому не место в церкви — ведь там дети и женщины, — и теми, кто верил, что в доме Господнем одинаково рады как голым, так и одетым, как бедным, так и богатым, как здравомыслящим, так и безумцам, и вообще Богу неважно, кто ты. В конце концов духовенство решило запретить Абулу присутствовать на службах, и с тех пор привратники гоняли его палками.
Однако в день, когда прощались с моими братьями, он застал всех врасплох. Проскользнул внутрь, пока никто не видел, а когда его заметили, уже смешался с толпой. Служба была не обычная, требовала особой деликатности, и ему позволили остаться. Позднее, когда церковь закрылась и безумец ушел, женщина, рядом с которой он сидел, рассказала, что Абулу во время службы плакал. Он спросил ее, знала ли она погибшего мальчика, и признался, что сам его знал. Женщина, мотая головой — словно увидела призрака средь бела дня, говорила: «Абулу постоянно упоминал имя Икенны».
Не знаю, что подумали родители, когда Абулу заявился на прощание с их сыновьями, в смерти которых сам же и был повинен, но когда мы собрались домой, всех нас охватило мрачное молчание, а значит, родителей его появление потрясло. Всю дорогу никто не произнес ни слова. Только Дэвид, зачарованный одной из спетых во время службы песен, мычал ее себе под нос и пытался напевать. Был почти полдень, и большая часть церквей в нашем преимущественно христианском городе уже закрылась, улицы наводнил транспорт. Мы с трудом продирались через заторы на дороге, а душевное пение Дэвида — чудесное сочетание коверканных и оборванных слов, перевернутых и задушенных смыслов — действовало на нас как успокаивающее, да так, что тишина сделалась ощутимо плотной, как будто с нами ехали еще два человека — те, кого нельзя было увидеть, — и они тоже прониклись покоем.
- Теёти зизь мо боно ике
- Исюсь и а озых ланах
- Вофяое емя лизи а леке
- Ы а мой,
- Аспой,
- Тох а поюсь каах[17].
Вскоре после того как мы вернулись домой, отец вышел и до конца дня не возвращался. Время перевалило за полночь, и беспокойство матери достигло необычайных пределов. Она металась по дому, как обезумевшая кошка, затем побежала к соседям, крича, что муж пропал. Ее страх был так велик, что вскоре у нас дома собралось прилично народу: они просили проявить терпение, подождать немного — хотя бы до утра, — прежде чем идти в полицию. Советов мать послушала, но к тому времени, как отец вернулся, она чуть с ума не сошла от тревоги. В это время все дети, кроме меня, — даже Обембе, — спали. Мать умоляла рассказать, где он пропадал и откуда у него на глазу повязка, но отец ничего не ответил. Сразу прошел, еле волоча ноги, в спальню. А наутро, на расспросы Обембе просто сказал: «Операция по поводу катаракты. Все, не спрашивай».
Я сглотнул скопившуюся в горле слюну и постарался сдержать рвущийся наружу поток вопросов.
— Ты ничего не видел? — спросил я немного погодя.
— Я сказал. Хватит. Вопросов! — пролаял отец.
Однако уже судя по тому, что ни он, ни мать на работу не вышли, я понял: с отцом что-то не так. Трагедии и труд изменили его бесповоротно. И даже когда повязку сняли, этот глаз уже никогда не закрывался до конца.
На той неделе мы с Обембе уже не охотились на Абулу, потому что отец не выходил дома: слушал радио, смотрел телевизор, читал. Брат постоянно клял болезнь, «катаракту», из-за которой отец все время торчит дома. Как-то раз, когда отец смотрел вечерний выпуск новостей — программу вел Сирил Стобер, Обембе спросил его, когда же мы отправимся в Канаду.
— В начале следующего года, — флегматично ответил отец.






