Рыбаки Григорович Дмитрий
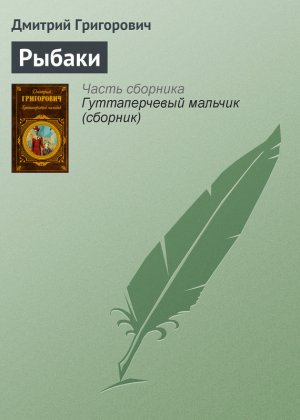
Спев эту песню по третьему кругу, пастор вернулся к молитве, на сей раз он молился более одухотворенно. Он затронул тему бумаг, необходимых для визы, помолился о достатке и нашем отце. Затем о нашей матери:
— …Тебе, о Боже, ведомо, как настрадалась эта женщина, за детей своих. Тебе ведомо все, Господь.
Мать давилась плачем, и пастор повысил голос:
— Утри слезы с ее глаз, Господь, — и продолжил на игбо: — Утри ее слезы, Иисусе. Исцели навсегда ее разум. Сделай так, чтобы ей больше не пришлось плакать из-за детей.
После он многократно вознес благодарность за то, что Господь отвечает на его молитвы, а после попросил, «не жалея голоса», сказать «аминь» и на том закончил.
Мы все поблагодарили его, пожали руку. Мать, взяв Нкем, пошла провожать пастора до ворот.
После молитвы на душе посветлело, и груз, который я принес домой, стал немного легче. Я точно не знал, что послужило тому причиной: то ли заверения Обембе, то ли молитвы. Впрочем, я был уверен: нечто вознесло мой дух из темных глубин. Дэвид сообщил, что «наши бобы на кухне», и когда мать, напевая и пританцовывая, вернулась в дом, мы с Обембе уже сели ужинать.
— Господь наконец победил моих врагов, — пела она, поднимая руки. — Chineke na’ eme nma, ime la eke le diri gi…
— Мам, в чем дело, что такое? — спросил Обембе, но мать не слушала и продолжала петь, а мы нетерпеливо ждали, чтобы узнать, что случилось. Глядя в потолок, она исполнила еще песню, потом посмотрела на нас полными слез глазами и сказала:
— Abulu, Onye Ojo a wungo — Абулу, этот злодей, мертв.
Ложка выпала у меня из руки, словно ее выбили, и бобовое пюре шлепнулось на пол. Но мать словно не заметила. Она рассказала нам о том, что узнала: «какие-то мальчишки» убили безумца Абулу. Проводив пастора и возвращаясь домой, мать повстречала соседку, ту самую, что обнаружила тело Боджи в колодце. В радостном возбуждении та как раз шла к нам — сообщить новость.
— Говорят, его убили на берегу Оми-Алы, — продолжила мать, потуже затягивая враппу на поясе. Ткань слегка сползла, когда Нкем подергала мать за подол. — Видите, мой Бог хранил вас от беды всякий раз, как вы по вечерам ходили рыбачить. Да, мы пережили потерю, но вы-то остались целы. Эта река — опасное и страшное место. Вообразите только: тело этого злодея лежит там, на берегу, — сказала она, указывая на дверь. — Видите, мой chi жив и наконец-то отомстил за меня. Своим языком Абулу, как бичом, хлестнул моих сыновей, и теперь этот язык сгниет во рту безумца.
Мать продолжала радоваться, а мы с Обембе пытались понять, что же мы навлекли на себя. Но это было все равно что в ухо человеку заглядывать — будущее оставалось темным и закрытым. Мне просто не верилось, что новость о произошедшем распространилась под покровом ночи так быстро — мы с братом такого не ожидали. Хотели убить безумца и оставить лежать на берегу, чтобы нашли его только тогда, когда он начнет гнить — как Боджа в колодце.
После ужина мы с братом вернулись к себе и молча легли спать. В голове моей роились воспоминания о последних минутах жизни Абулу. Я размышлял о том, какие странные силы овладели мной в момент убийства: руки двигались с такой точностью, такой силой, что с каждым ударом оружие глубоко вонзалось в плоть Абулу. Представил, как его тело в реке облепили рыбы, и в этот момент мой брат — не в силах заснуть — внезапно сел в кровати и заплакал. Он не догадывался, что я тоже не сплю.
— Я не знал… я же ради вас… мы с Беном… мы же ради вас. Ради вас обоих, — всхлипывал он. — Мама, папа, мне жаль. Но мы хотели, чтобы вы больше не страдали… — дальше я не разобрал, потому что слова Обембе потонули во всхлипах.
Я украдкой наблюдал за братом, и разум мой изнывал от страха перед будущим, которое оказалось ближе, чем мы думали, — и наступило на следующий же день. Я тихонько, самым тихим шепотом, помолился, чтобы завтрашний день никогда не пришел, чтобы по пути он переломал себе ноги.
Не знаю, когда я заснул, но пробудился от далекого пения муэдзина, созывавшего мусульман на молитву. Было раннее утро, и первые лучи солнца проникали в комнату через окно, которое брат оставил на ночь открытым. Не знаю, спал ли он вообще, но он сидел за столом и читал потрепанную книгу с пожелтевшими страницами. В ней рассказывалось о немце, сбежавшем из лагеря в Сибири; название, правда, я не запомнил. Обембе сидел голый по пояс, ключицы его резко выделялись. За недели, что мы планировали нашу — теперь уже завершенную — миссию, он заметно похудел.
— Обе, — позвал я. Брат испуганно вздрогнул. Резко встал и подошел ко мне.
— Тебе страшно? — спросил брат.
— Нет, — сказал я и тут же добавил: — Но я все еще боюсь, что придут те солдаты.
— Нет-нет, не придут, — покачал головой Обембе. — Но нам все равно лучше не высовываться из дому, пока не приедет отец и мистер Байо не заберет нас в Канаду. Не волнуйся, мы уедем из этой страны, и все останется позади.
— А когда приедет отец?
— Сегодня. Отец возвращается сегодня, а на следующей неделе мы уже полетим в Канаду. Наверное.
Я кивнул.
— Послушай, не надо бояться, — повторил Обембе.
Он посмотрел на меня пустым взглядом, а потом, вынырнув из задумчивости и решив, что напугал меня, спросил:
— Рассказать тебе историю?
Я сказал да. Обембе снова погрузился в мысли и немо пошевелил губами. Затем он заставил себя собраться и стал рассказывать историю Клеменса Фореля, сбежавшего из сибирского лагеря и вернувшегося в Германию. Он все еще рассказывал ее, когда где-то недалеко от нашего дома поднялся шум. Мы сразу поняли, что на улице собралась толпа. Тогда брат замолчал и посмотрел мне в глаза. Вместе мы вышли в гостиную — мать собиралась идти в магазин и одевала Нкем. На часах было уже девять часов, в комнате пахло чем-то жареным. На столе лежал кусок ямса, а рядом, на тарелке — вилка, в зубцах которой застряло немного яичницы.
Мы сели в кресла, и Обембе спросил у матери, из-за чего шум.
— Абулу, — ответила мать, меняя Нкем подгузник. — Его тело сейчас погрузят на машину и увезут, а еще солдаты ищут мальчишек, убивших его. Не понимаю я этих людей, — сказала она по-английски. — Что плохого в убийстве безумца? Зачем считать этих мальчиков преступниками? Вдруг Абулу внушил им сильный страх, напугал какой-нибудь бедой, которая должна с ними случиться? Разве можно их за это винить? Впрочем, говорят, они еще и с солдатами подрались.
— Солдаты хотят убить их? — спросил я.
Мать посмотрела на меня: ее взгляд выдавал удивление.
— Не знаю. — Она пожала плечами. — Как бы там ни было, вы двое сидите дома — на улицу ни ногой, пока шум не уляжется. Сами понимаете: вы некоторым образом с безумцем связаны, вот и нечего вам там делать. Живая ли, мертвая, эта тварь больше не вернется в ваши жизни.
Мой брат ответил:
— Да, мама, — и я вторил ему надломившимся голосом. Затем мать попросила нас запереть за ней ворота и входную дверь. Дэвид при этом повторял за ней все распоряжения слово в слово. Я встал и пошел провожать ее до ворот.
— Только не забудьте открыть отцу, он возвращается днем, — напомнила мать.
Я кивнул и поспешно запер ворота, опасаясь, как бы меня не заметили с улицы.
Когда я вернулся в дом, Обембе тут же накинулся на меня и припер к входной двери. Сердце у меня чуть из груди не выскочило.
— Ты зачем об этом маму спросил, а? Совсем дурак? Хочешь, чтобы она снова заболела? Хочешь снова нашу семью разрушить?
Я тряс головой, крича: «Нет!» — на каждый его вопрос.
— Послушай, — задыхаясь, проговорил Обембе. — Им нельзя ничего знать. Понимаешь?
Я кивнул, опустив налитые слезами глаза. Потом Обембе, похоже, сжалился надо мной: смягчился и положил руку мне на плечо, как обычно.
— Послушай, Бен, я не хотел обидеть тебя. Прости.
Я кивнул.
— Не волнуйся, если они придут, то мы просто не откроем, и они решат, что дома никого. Мы будем в безопасности.
Обембе задернул все шторы и запер двери, а затем отправился в комнату Икенны и Боджи, я — за ним. Там мы сели на новый матрас, который недавно купил отец, — кроме него да кровати, в комнате больше ничего не было. Впрочем, всюду я видел следы моих братьев, словно несмываемые пятна. Более светлый участок стены, где прежде висел календарь М.К.О., рисунки и изображения схематичных человечков. На потолке я увидел пауков и паутину — словно знаки, указывающие на то, что с момента гибели братьев прошло уже достаточно много времени.
Обембе сидел молча, точно мертвый, а я следил за силуэтом геккона, который карабкался по тонкой шторке, залитой ярким солнцем, и тут в ворота громко застучали. Обембе быстро утянул меня за собой под кровать, и там мы схоронились в темноте, а в ворота продолжали колотить. Раздались крики: «Откройте! Если есть кто дома, откройте!» Обембе стянул простыню с кровати чуть не до пола. Я нечаянно задел открытую жестяную банку, придвинув ее к себе — сквозь пленку паутины было видно черное, как смола, нутро. Наверное, это была одна из тех банок, в которых мы хранили улов: рыбешек и головастиков, — просто отец не заметил ее, когда выгребал вещи из комнаты.
Вскоре колотить в ворота прекратили, но мы все так же, затаив дыхание, лежали в темноте под кроватью. В голове у меня пульсировала кровь.
— Ушли, — сказал я брату через некоторое время.
— Да, — ответил он. — Но мы останемся здесь, пока не убедимся, что они не вернутся. Вдруг через забор перелезут и войдут в дом, или… — Он вдруг умолк, словно прислушиваясь к чему-то. Потом сказал: — Переждем.
И мы остались под кроватью. Мне невыносимо хотелось писать, но я не собирался огорчать Обембе и заставлять его бояться.
В следующий раз к нам в ворота постучались через час или около того. Вслед за тихими ударами послышался знакомый голос отца, он звал нас, спрашивал, дома ли мы. Тогда мы выбрались из-под кровати и принялись отряхиваться от пыли.
— Быстрей, быстрей, открой ему, — торопил меня брат, устремляясь в ванную — промыть глаза.
Когда я открыл ворота, отец взглянул на меня с широкой улыбкой. На нем были кепка и очки.
— Вы, что спали? — спросил отец.
— Да, папа, — ответил я.
— О, боже правый! Мои мальчики совсем обленились. Ну, скоро все изменится, — весело проговорил он, входя в дом. — А зачем вы все замки позакрывали? Дома же сидите.
— Сегодня ограбление было, — сказал я.
— Посреди дня?
— Да, папа.
Когда я вернулся в дом, отец уже прошел в гостиную и поставил портфель на стул. Разуваясь, отец говорил с Обембе, державшимся позади. Брат спросил:
— Как поездка?
— Отлично, просто отлично, — сказал отец с улыбкой. Не улыбался он уже очень давно. — Бен сказал, в районе кого-то ограбили?
Обембе стрельнул взглядом в мою сторону и кивнул.
— Ого, — произнес отец. — Ну, как бы там ни было, у меня для вас, дети, хорошие новости. Однако сперва вопрос: ваша мать оставила в доме что-нибудь поесть?
— Утром она пожарила ямс, наверняка и на тебя приготовила…
— Твоя порция в тарелке, — закончил мою мысль брат.
Голос у меня задрожал, когда на улице взвыла сирена, и меня снова накрыло страхом, что придут солдаты. Отец заметил это и стал присматриваться ко мне, затем к Обембе — ища то, чего сразу не разглядел.
— Вы как? С вами все хорошо?
— Мы вспомнили Ике и Боджу, — ответил брат и расплакался.
Некоторое время отец слепо смотрел на стену, затем поднял взгляд и сказал:
— Послушайте, вы оба должны оставить все это в прошлом. Вот почему я так стараюсь: занимаю деньги, ношусь туда-сюда — делаю все возможное, чтобы переправить вас в новое место, где ничто не будет напоминать о них. Взгляните на мать, взгляните, что с ней произошло. — Он указал на стену, словно там и стояла наша мать. — Эта женщина настрадалась. А почему? Из-за любви к своим детям. Любви к вам, ко всем вам.
Отец замотал головой.
— Поэтому прошу вас: прежде чем что-либо сделать, что угодно, подумайте о ней. О том, чем это для нее обернется. И только потом — только потом! — принимайте решение. Я не прошу вас думать обо мне. Подумайте о матери. Слышите?
Мы кивнули.
— Хорошо, а теперь принесите поесть. Я что угодно съем, даже остывшее.
Я отправился на кухню, на ходу обдумывая слова отца. Принес ему тарелку жареного ямса с яичницей и вилку. На лице отца вновь появилась широкая улыбка, и за едой он рассказал, как получал для нас заграничные паспорта в лагосском иммиграционном бюро. Он даже отдаленно не представлял, что корабль его потонул и все добро — карта желаний (Икенна=пилот, Боджа=юрист, Обембе=доктор, я=профессор) — пропало.
Затем отец достал пирожные в блестящих обертках и бросил нам по одной штуке.
— А знаете, что главное? — произнес он, роясь в портфеле. — Байо уже в Нигерии. Я звонил вчера Атинуке, и мы с ним поговорили. На следующей неделе он приедет сюда и отвезет вас в Лагос получать визы.
На следующей неделе…
Возможность уехать в Канаду вновь показалась такой реальной, что я приуныл: ждать до следующей недели было слишком долго. Мне так хотелось уехать. Я думал, мы соберем вещи и переберемся в Ибадан, переждем в доме мистера Байо, а когда визы будут готовы, то сразу оттуда и отправимся в путь. Никто бы не выследил нас в Ибадане. Так хотелось предложить это отцу, но я боялся реакции Обембе. Впрочем, позднее, когда отец, поев, лег вздремнуть, я рассказал о своих мыслях брату.
— Мы так себя выдадим, — возразил Обембе, не отрываясь от книги, которую читал.
Я тщетно попытался придумать ответ.
Брат покачал головой:
— Слушай, Бен, не надо, не мучайся. И не волнуйся, у меня есть план.
Вечером вернулась мать и сообщила отцу новости: в районе обыски, а на улицах толкуют о мальчишках, удочками убивших Абулу. Отец спросил нас, почему мы не рассказали ему об этом.
— Я думал, ограбление важнее, — ответил я.
— К нам приходили? — спросил он, строго глядя на нас из-за стекол очков.
— Нет, — ответил Обембе. — Я спал меньше Бена, но ничего не слышал — только как ты приехал.
Отец кивнул.
— Должно быть, он хотел что-то напророчить этим мальчишкам, и те дали ему бой, испугавшись, что предсказание сбудется, — сказал он. — Жаль, что в этого человека вселился такой дух.
— Наверное, так все и было, — согласилась мать.
Весь вечер родители говорили о Канаде: отец поведал матери о поездке с не меньшим пылом, чем нам, а у меня жутко разболелась голова. К тому времени как я отправился спать — раньше всех, — мне стало так дурно, что я приготовился распрощаться с жизнью. Желание перебраться в Канаду разгорелось с неистовой силой, я готов был уехать даже без Обембе. Оно жгло меня еще долго, даже после того, как отец уснул, развалившись в кресле и громко храпя. Спокойствие и уверенность покинули меня, их место занял леденящий душу страх. Я боялся, что нечто, чего я еще не мог угадать, но что уже чуял, — произойдет еще до конца этой недели. Вскочив, я растолкал брата. Он лежал, укрывшись враппой, но явно не спал.
— Обе, надо все рассказать родителям, чтобы отец увез нас, спрятал в Ибадане, у мистера Байо. Чтобы мы смогли через неделю уехать в Канаду.
Я выпалил все, точно заученный текст. Обембе выбрался из-под враппы и сел.
— Через неделю, — пробормотал я, задыхаясь.
Брат не ответил. Он смотрел на меня, словно не видя, а потом снова лег и скрылся под враппой.
Где-то посреди ночи, задыхаясь и обливаясь потом, все еще чувствуя головную боль, я услышал:
— Бен, проснись, проснись.
Меня растолкали.
— Обе, — ахнул я.
Первые несколько секунд я его не видел, но потом разглядел, как он носится по комнате, выгребает вещи из шкафа и складывает их в сумку.
— Вставай, идем. Надо уходить, этой же ночью, — сказал он, размахивая руками.
— Что, из дома уйти?
— Да, немедленно, — прервавшись на мгновение, зашипел на меня брат. — Послушай, я прикинул шансы: солдаты могут нас найти. Когда я убегал с реки, меня видел тот старый священник. Он меня узнал. Я его чуть с ног не сбил.
Обембе ясно увидел, как в ответ на это откровение мой взгляд наполняется страхом. Ну почему, думал я, Обембе не сказал об этом сразу?
— Боюсь, священник нас выдаст. Так что уходим, сейчас же. Солдаты могут заявиться к нам этой же ночью и опознать нас. Я не спал и слышал шум на улице. Если они не придут ночью, то утром уж точно. Или днем. Если нас поймают, то посадят в тюрьму.
— И что нам делать?
— Уходить, уходить — иначе никак. По-другому ни себя, ни родителей — особенно маму — не защитить.
— Куда же мы пойдем?
— Куда угодно, — начиная плакать, ответил Обембе. — Слушай, ты ведь и сам знаешь: утром нас поймают.
Я хотел ответить, но слова не шли на язык. Тогда Обембе отвернулся и расстегнул рюкзак.
— Ты что, разве не идешь? — спросил он, обернувшись и увидев, что я не тронулся с места.
— Нет. Куда идти-то?
— Едва рассветет, они придут и обыщут дом. — Голос у Обембе надломился. — Нас найдут. — Брат умолк и присел на краешек кровати. Но, не просидев и секунды, снова вскочил. — Нас найдут. — Он мрачно покачал головой.
— Мне страшно, Обе. Мы не должны были убивать Абулу.
— Не говори так. Он погубил наших братьев и заслуживал смерти.
— Не надо убегать, Обе. Отец найдет нам адвоката, — простодушно заявил я, задыхаясь от всхлипов. — Давай не будем убегать.
— Послушай, не глупи. Солдаты убьют нас! Мы ранили одного из них, и нас расстреляют как Гидеона Оркара[18], сам ведь знаешь. — Он подождал, пока до меня дойдет. — Представь, что с мамой будет. Солдаты — люди Абачи, в стране военный режим. Сбежим куда-нибудь — может, в деревню и оттуда напишем домой. Родители все устроят, встретят нас, отвезут в Ибадан, а оттуда мы полетим в Канаду.
Последние слова Обембе на время приглушили мои страхи.
— Ладно, — согласился я.
— Тогда собирайся, быстро, быстро.
Он подождал, пока я сложу свои вещи в сумку.
— Быстрей, быстрей, я слышу, как мама молится. Еще зайдет проведать нас.
Пока я запихивал свою одежду в один рюкзак, а нашу обувь — в другой, Обембе стоял, приникнув ухом к двери. Потом, не успел я ничего сообразить, он выскочил в окно со своей сумкой и обувью. В темноте едва виднелся его силуэт — я с трудом разглядел протянутые ко мне руки.
— Бросай мне свои вещи! — шепнул Обембе.
Бросив брату рюкзак, я сам выпрыгнул наружу и упал. Брат помог мне встать, и мы побежали через улицу, что вела к нашей церкви, мимо домов, погруженных в глубокий сон. Лампы на верандах да редкие уличные фонари почти не разгоняли ночную тьму. Обембе постоянно вырывался вперед и, дождавшись меня, бежал дальше. Останавливаясь, шепотом подгонял меня: «Давай-давай» или «Бегом-бегом». Страх усилился. Восставали из своих могил воспоминания, и странные видения сковывали мои движения. Я то и дело оборачивался на наш дом, пока он не скрылся из виду. Позади нас луна прорвалась сквозь облака и окрасила улицу и спящий город в серые тона. Откуда-то, перекрывая отдаленный шум, доносилось многоголосое пение под аккомпанемент барабанов и колокольчиков.
Мы пробежали приличное расстояние и, хотя в ночи разглядеть было трудно, добрались, наверное, до середины района. Внезапно отцовское наставление: «…Прежде чем что-либо сделать, что угодно, подумайте о ней. О том, чем это для нее обернется. И только потом — только потом! — принимайте решение…» — пронзило мой разум, и я словно наткнулся на невидимый прут. Я потерял равновесие, точно сошедший с рельсов товарный вагон, сердце загудело. Я не заметил, как оказался на земле.
— В чем дело? — спросил, обернувшись, Обембе.
— Я возвращаюсь.
— Что? Бенджамин, ты рехнулся?
— Я возвращаюсь.
Обембе подошел ко мне, и я, испугавшись, что он потащит меня за собой дальше, вскрикнул:
— Нет-нет, не подходи, не подходи! Позволь мне вернуться домой.
Обембе не остановился, и тогда я, вскочив на ноги, попятился. Из рассаженных коленок у меня сочилась кровь.
— Постой! Постой! — крикнул брат.
Я остановился.
— Я тебя не трону, — как бы сдаваясь, поднял Обембе руки.
Сбросив рюкзак, он подошел ко мне. Обнял и, как только его руки оказались у меня на плечах, попытался увлечь за собой. Но я, как любил делать Боджа, поставил ему ножку, и мы оба повалились на землю. Мы боролись, и при этом Обембе повторял, что мы должны бежать вместе, а я умолял отпустить меня назад, к родителям, чтобы они не теряли нас обоих. Наконец я вырвался, порвав рубашку.
— Бен! — позвал Обембе, когда я отбежал на некоторое расстояние.
Я плакал, уже не сдерживаясь. Брат смотрел на меня, раскрыв рот. Он всегда сразу понимал, что к чему, и видел: я был твердо намерен вернуться.
— Если не идешь со мной, то передай им… — попросил он дрожащим голосом. — Передай папе с мамой, что я… сбежал.
Он едва мог говорить. Сердце его разрывалось от горя.
— Передай, что мы — ты и я — сделали это ради них.
В один миг я оказался рядом и обнял его. Обембе крепко прижал меня к себе, погладил по затылку. Он долго плакал у меня на плече, затем отстранился. Некоторое время он пятился, потом побежал. Но вдруг остановился.
— Я тебе напишу! — крикнул он.
И вот тьма поглотила его. Я дернулся вслед брату и прокричал:
— Нет, не уходи, Обе! Не уходи, не бросай меня! — Но его уже и след простыл. — Обе! — снова позвал я, в отчаянии бросаясь за ним. Однако Обе не остановился: похоже, он уже не слышал меня. Я споткнулся, упал и снова поднялся. — Обе! — еще громче, еще отчаянней позвал я в темноту, выйдя на дорогу. Ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади я брата не увидел. Ни следа его. Кругом было тихо, ни души. Обембе исчез.
Я опустился на землю и снова разрыдался.
17. Мотылек
Я, Бенджамин, был мотыльком.
Хрупким созданием, что греется на свету, но вскоре теряет крылья и падает на землю. Когда умерли Икенна и Боджа, я почувствовал, будто укрывавший меня полог сорвало, но когда убежал Обембе, я рухнул с высоты вниз, как мотылек, у которого в полете вырвали крылья. Я превратился в существо, способное отныне лишь ползать, но не летать.
Я всегда жил подле братьев. Я рос, глядя на них, следуя их примеру, проживая свой вариант ранних лет их жизней. Без них я никогда ничего не делал — особенно без Обембе, от которого — почерпнувшего много мудрости от старших братьев и впитавшего еще больше из книг — я полностью зависел. Я жил с ними, полагался на них до того, что даже мысли у меня в голове появлялись, предварительно родившись в головах у них. И даже после смерти Икенны и Обембе я не сильно изменился, ведь рядом по-прежнему был Обембе — со своими ответами на мои вопросы. Но вот и он пропал, оставив меня на пороге двери, в которую я боялся войти. Не то чтобы мне было страшно жить одному, я просто оказался к этому не готов, не знал, что делать.
Когда я вернулся, наша комната показалась мне мертвой: пустой и темной. Я лежал на полу и плакал, в то время как мой брат убегал, с рюкзаком на спине и маленькой дорожной сумкой в руке. Тьма над Акуре постепенно рассеивалась, а он все бежал, обливаясь потом и задыхаясь. Должно быть, он бежал — вдохновленный историей Клеменса Фореля — как из лагеря для военнопленных. Пронесся тихой, темной улицей — до самого конца. Остановился ненадолго, глядя на пересечение дорог и решая, в какую сторону двигаться дальше. Но, как и Фореля, его мучил страх погони, и этот же страх наделял его разум мощностью турбины, заставляя мысли крутиться быстро-быстро. Должно быть, Обембе часто спотыкался и падал в ямы, запутывался в ползучих стеблях. Его одолевали усталость и жажда. Должно быть, он взмок от пота, покрылся пылью и грязью. Но он мчался дальше, неся в душе черное знамя страха. Страха, наверное, и за меня: что станет со мной, его братом, вместе с которым он пытался потушить пламя, охватившее наш дом. Пламя, грозившее в ответ пожрать нас самих.
Мой брат, вероятно, все еще бежал, когда небо посветлело и наша улица пробудилась, содрогнувшись от громких криков и выстрелов — как будто в город вошла вражеская армия. Слышались приказы, вой, стук в двери, яростный быстрый топот. Жужжали пули, щелкали бичи. Все эти звуки собрались воедино у наших ворот: пришло с полдюжины солдат. Когда отец открыл им, его отпихнули в сторону. Один военный пролаял, точно раненый пес:
— Где они? Где эти малолетние преступники?
— Убийцы! — сплюнул другой.
Испугавшись шума, Нкем разревелась. Мать принялась стучаться ко мне:
— Обембе, Бенджамин, проснитесь! Проснитесь!
Но тут раздался громкий топот, и ее перебили. Послышался крик, визги, и кто-то упал на пол.
— Прошу вас, прошу, они невиновны, невиновны.
— Молчать! Где мальчишки?
В дверь моей комнаты принялись колотить руками и ногами.
— Открывайте немедленно, или мы взломаем дверь и застрелим вас.
И я открыл.
Домой я вернулся спустя три недели после того, как меня забрали и я вступил в новый и пугающий мир без старших братьев. Я вернулся помыться. По настоянию мистера Байо, адвокат Биодун убедил судью отпустить меня — даже не под залог, а просто съездить домой, принять ванну. Отдышаться. Отец передал, что мать волнуется: как же так, я уже три недели не мылся. Всякий раз, как он передавал слова матери, я силился вообразить, как именно она это говорила, ведь за те три недели я сам почти ничего от нее не слышал. Мать вернулась в то же состояние, в какое погрузилась после гибели Икенны и Боджи, — ее вновь осадили невидимые пауки горя. И хотя она молчала, каждый взгляд ее и каждый жест словно бы содержали в себе тысячу слов. Я избегал матери, уязвленный ее горем. Когда умерли Икенна и Боджа, кто-то сказал, что, потеряв ребенка, мать теряет частичку себя. Перед вторым заседанием она поила меня фантой — я хотел сказать ей что-то, но не сумел. Дважды во время суда мать теряла самообладание и разражалась криками или плачем. Один раз это случилось, когда обвинение во главе с очень темнокожим мужчиной — в черной мантии он напоминал киношного демона — настаивало, что мы с Обембе виновны в преднамеренном убийстве.
В день перед первым заседанием адвокат Биодун посоветовал мне отвлечься и сосредоточиться на чем-нибудь постороннем — на окне, на барьере, отделяющем меня от судей… да на чем угодно. Конвой — охранники в коричневой форме — привел меня на встречу с ним, старым другом отца. Адвокат всегда улыбался и излучал уверенность, что порой раздражало. Они с отцом пришли ко мне в маленькую комнату для свиданий, а младший надзиратель запустил секундомер. В комнате стоял запах застарелого дерьма, постоянно напоминавший о школьном туалете. Адвокат Биодун просил меня не волноваться, заверив, что мы выиграем дело. При этом он добавил, что на суд будут оказывать давление, ведь я ранил одного из солдат.
В последний день моего ускоренного суда адвокат, раньше всегда такой уверенный в себе, уже не улыбался. Он был мрачен и тих. Экран его лица, на котором я прежде читал эмоции, подернулся рябью. Отец отвел меня в угол зала заседаний и открыл правду о том, что стало с его глазом, а потом подошел адвокат и сказал:
— Мы сделаем все, что в наших силах, остальное — в руках Божьих.
Забрать меня приехал пастор Коллинз — на своем фургоне, вместе с отцом и мистером Байо, который почти не виделся с собственной семьей в Ибадане и постоянно приезжал в Акуре — в надежде, что меня наконец отпустят и он заберет меня с собой в Канаду. Я его почти не узнал: с тех пор как мы виделись последний раз — а мне тогда было годика четыре, — он сильно изменился. Кожа у него сильно посветлела, а на висках пробилась седина. Говоря со мной, мистер Байо делал паузы, как водитель, который время от времени замедляет ход и после вновь ускоряется.
На бортах фургона стояло имя нашей церкви: «Церковь Ассамблей Бога, Акуре, Арароми» — и девиз жирным шрифтом: «Приходи какой есть, но выйди обновленным». Со мной разговаривали мало, потому что я почти не отвечал на вопросы, только кивал. С тех пор как меня забрали в тюрьму, я избегал бесед с родителями и мистером Байо. Не мог смотреть им в лицо. Отца так сильно поразило, что я выбросил на ветер свое спасение — шанс начать новую жизнь в Канаде, — что он только чудом, наверное, сохранял невозмутимое спокойствие. Я больше откровенничал с адвокатом, человеком с тонким, как у женщины, голосом. Биодун часто — чаще остальных — заверял меня в скором освобождении и слово «скоро» повторял постоянно.
Однако по пути домой я не выдержал и все же задал вопрос, что вертелся у меня в голове:
— Обембе уже вернулся?
— Нет, — сказал мистер Байо, — но скоро вернется. — Отец хотел было что-то сказать, но мистер Байо перебил его, добавив: — Мы уже послали за ним. Он придет.
Я уже хотел спросить, как его нашли, но тут отец произнес:
— Да, это правда.
Я подождал немного и спросил отца, где же его машина.
— У Боде, на ремонте, — коротко ответил он. Обернулся и посмотрел мне прямо в глаза, и я поспешил отвести взгляд. — Со свечами проблемы, — пояснил отец. — Плохие свечи.
Говорил он по-английски, потому что мистер Байо был из йоруба и не понимал игбо. Я кивнул. Машина тем временем въехала на разбитую дорогу, и пастор Коллинз, подобно прочим горожанам, вырулил на обочину, чтобы не трястись на ухабах. Мы ехали почти вплотную к подлеску, и о борт машины терлись стебли слоновой травы и прочих растений.
— С тобой хорошо обращаются? — спросил мистер Байо.
Он сидел вместе со мной сзади, а между нами лежали церковные брошюры, книги и листовки, и почти на всех них было одно и то же изображение пастора Коллинза с микрофоном.
— Да, — сказал я.
Меня не били, не мучали, но было чувство, что я солгал, потому как меня запугивали и унижали на словах. В первый день, когда из глаз моих безостановочно лились слезы, а в груди грохотало сердце, один из тюремщиков назвал меня «мелким убийцей». Но вскоре он исчез — после того как меня поместили в пустую камеру без окон, с решеткой вместо двери, сквозь прутья которой можно было разглядеть лишь соседние камеры. В них, словно звери в клетках, сидели заключенные. В некоторых камерах, кроме узников, больше ничего и не было. В моей имелся истрепанный матрас, ведро с крышкой, куда я испражнялся, да бочонок с водой, наполняемый раз в неделю. В камере напротив сидел светлокожий мужчина — шрамы, рубцы и грязь по всему телу и на лице придавали ему зловещий вид. Он сидел в углу, слепо глядя на противоположную стену, совершенно невыразительно, словно в ступоре. Позднее он стал мне другом.
— Бен, тебя там не били? — уточнил пастор Коллинз, когда я ответил на вопрос мистера Байо.
— Нет, сэр, — сказал я.
— Бен, скажи правду, — обернувшись, попросил отец. — Прошу, скажи правду.
Наши глаза встретились. На этот раз я не сумел отвести взгляд и вместо ответа заплакал.
Мистер Байо сжал мою руку, приговаривая:
— Прости, прости. Ma su ku mo — не плачь. — Ему очень нравилось говорить на йоруба со мной и моими братьями. Во время предыдущего визита в Нигерию, в 1991-м, он часто шутил, дескать, мы с братьями, будучи детьми, освоили йоруба, язык Акуре, лучше, чем родители.
— Бен, — ласково позвал пастор Коллинз. Мы тем временем приближались к нашему району.
— Сэр?
— Ты великий человек и останешься таковым. — Он вскинул руку. — Даже если тебя посадят — а я надеюсь, что во имя Христа, они этого не сделают…
— Да, аминь, — вставил отец.
— …Но если все же дело закончится этим, знай: нет ничего более великого и важного, чем пострадать за своих братьев. Нет ничего более великого! Господь наш Иисус говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»[19].
— Да! Воистину, — истово кивая, прорыдал отец.
— А ведь если тебя посадят, то ты пострадаешь не просто за друзей, но за братьев своих. — В ответ раздалось очень громкое «Да» отца и «Истинно, истинно так, пастор», с иностранным акцентом, мистера Байо.
— Нет ничего более великого, — повторил пастор.
Отец повторял свое «Да» до того рьяно, что даже пастор замолчал. А закончив, отец поблагодарил пастора — со скорбью в голове, но от всей души. Остаток пути мы провели в молчании. И хотя страх перед тюремный заключением усилился, мысль о том, что любой исход я приму во имя братьев, утешала. Странное было чувство.
К тому времени, как мы добрались до дома, я напоминал сам себе разбитый глиняный горшок, наполненный пылью. Дэвид все крутился вокруг меня, держась, однако, на приличном расстоянии и избегая моего взгляда. Всякий раз, как я тянулся взять его за руку, он отшатывался. Я бродил по дому, точно жалкий бродяга, внезапно оказавшийся при дворе короля. Я ступал осторожно и в свою комнату не заходил. Каждый шаг воскрешал прошлое с такой отчетливостью, что захватывало дух. Меня мало заботили дни, что я проводил в похожей на клетку камере с грунтовым полом, где на долгое время единственной компанией мне стала книга. Заботило то, как мое заключение сказалось на родителях, особенно на матери, а еще меня волновало, где сейчас брат. Моясь, я все размышлял о том, что рассказал мне отец на предыдущей неделе в зале суда.
— Ты должен кое-что знать, — сказал он мрачным голосом, ведя меня в угол, и я заметил слезы у него на глазах. Когда мы уединились и никто не мог нас подслушать, отец кивнул и выдавил улыбку, не желая показывать горя. Потом снова взглянул на меня и пальцем смахнул слезы. Снял очки и посмотрел на меня больным глазом. Он почти не снимал очков с того дня, как вернулся после операции. Слева у него на лице остался шрам. Наклонившись ко мне, отец взял меня за руку.






