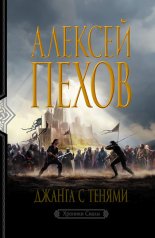Саквояж со светлым будущим Устинова Татьяна

— Ты возомнил себя гением, — продолжала Люда.
Родионов мельком на нее взглянул. Вид у нее был немного сумасшедший. — А на самом деле ты никто, бульварный писака! Кому нужны твои дерьмовые книжонки?! Никому! Да о тебе все забудут через год, через два, и ты умрешь под забором, нищий, старый ублюдок!
— Я пошел, — сказал Родионов. Она сидела в его рубашке, и красиво уйти никак не получалось. Или уходить без рубашки, или требовать ее вернуть — и то, и другое не слишком красиво. Он несколько секунд соображал, и напрасно.
Люда вдруг бросилась на него, стул опрокинулся, загрохотал, и винная бутылка закачалась на столике, опрокинулась и повалилась на ковер, из нее потекла тоненькая алая струйка, как кровь.
— Ты ничтожество, высокомерная тварь, ублюдок!! — Она сильно ударила его в скулу острым кулачком, а левой рукой двинула в ребра. Родионов не успел ее перехватить. Он вообще ничего такого не ожидал, когда начинал свою обличительную речь. — Ты думаешь, что меня так просто бросить, да? Ты думаешь, что я никто?! Да я тебя… уничтожу, я с тобой разделаюсь, с тобой и с этой твоей шлюхой!
Люда царапалась, кусалась и дралась, и в какой-то момент Родионов перепугался, что не сможет с ней совладать. Не бить же ее, на самом деле! Он отступал к двери, а она наскакивала на него, клевала, щипала, и глаза у нее были безумные.
— Остановись, — приказал Родионов, когда потасовка уже грозила перейти в драку, — остановись сейчас же!
Ничего не помогло. Кое-как, придерживая ее одной рукой, он нашарил на столике ключи от машины, и теперь нужно было еще открыть дверь. Спиной он чувствовал замок и дверную ручку — спасение было уже совсем близко! — но он никак не мог изловчиться и открыть.
Да что ж это такое, а?!…
— Я тебе отомщу, тварь, ублюдок недоделанный! Ты еще узнаешь, чего я стою, недоносок поганый!… Я тебя… Я… я тебя убью!
В этот момент замок, который Родионов судорожно дергал, наконец открылся, он вывалился на лестничную клетку, где было темно и пахло кошками, и прямоугольник света из Людиной прихожей вырвался вслед за ним, и Родионов увидел приоткрытую дверь квартиры напротив. Кто-то оттуда, из той квартиры, привлеченный шумом на лестнице, следил за ними!
Он затолкал Люду обратно, захлопнул дверь и побежал вниз, сжимая в кулаке ключи от машины. Побежал так унизительно и мешкотно, как не бегал никогда в жизни, и вся эта история с дракой и идиотскими разговорами была гадостью, и он чувствовал эту гадость так, словно она была у него во рту.
Он доехал до дома, влез под душ, очень горячий, такой, что едва можно было терпеть, долго тер себя мочалкой, стараясь оттереть гадость, потом вылез, не вытираясь, пошел на кухню и залпом выпил полстакана водки. Потом подумал и выпил еще полстакана.
На Люду наплевать, подумал он. Наплевать. Я-то как попался?! С чего меня-то понесло?! Нервы ни к черту стали из-за этой проклятой работы. Надо в отпуск ехать. В Турцию, покупать очередной ковер.
Вспомнив про ковер, он вспомнил и про Машу, водку спрятал и стакан ополоснул. Завтра она его увидит на столе, обо всем моментально догадается, а Родионову не хотелось, чтобы Маша знала, из-за чего он пил.
Гадость какая! Гадость и глупость.
Надо же было так вляпаться.
После водки он быстро уснул, но часов в пять проснулся и больше уже не спал, маялся, ворочался, пытался даже телевизор смотреть, но не смог и засел за компьютер. К тому времени, когда пришла Маша, он под горячую руку написал уже страниц восемь и теперь раздумывал, переписывать или и так сойдет.
Почему-то она не спешила подняться к нему, тихо возилась внизу. Он слышал, потому что дверь из его кабинета на площадку была приоткрыта. Через несколько минут оттуда, снизу, потянуло запахом кофе.
Он перечитал написанное, в одном месте поморщился, в другом засмеялся, в третьем быстро дописал и решил, что все пристойно. Можно и так оставить.
Правда, действие на этих восьми страницах решительно никак не развивалось, одни умные рассуждения, но это ничего. Ладно. Дальше пойдет веселее.
— Доброе утро, Дмитрий Андреевич.
Не поворачиваясь, он буркнул:
— Привет. Свари мне кофе.
Несколько секунд было тихо, а потом прямо перед его носом на столе возник подносик, а на нем кружка, от которой остро и сладко пахло, а рядом жесткая от крахмала салфетка, и серебряные ножик и ложка, и еще тарелочка, а на тарелочке два золотистых тоста, сыр и еще что-то вкусное, утреннее, символизирующее радость бытия.
— Спасибо.
— Дмитрий Андреевич, мне нужно с вами поговорить.
— Валяй.
Он взял тост, намазал на него паштет, откусил, засыпал крошками майку, стал стряхивать их пятерней и стряхнул — на клавиатуру.
— Маша!
Она нагнулась через его плечо и дунула на клавиши. Крошки разлетелись.
— Теперь все бумаги будут в крошках, — пробурчал Родионов недовольно, и еще откусил, и отхлебнул кофе, и в желудке стало тепло и хорошо, а на душе светло, и даже задержанная рукопись показалась неважной. Что там рукопись, когда есть бутерброд и кофе с молоком!
— Дмитрий Андреевич, мне нужно с вами поговорить.
— Ну, валяй, валяй!…
Она вышла из-за его плеча, обошла стол и села почему-то далеко, у самого окна, в неудобное кресло с высокой спинкой.
Кресло было найдено на помойке родионовским другом Григорьевым, который, будучи парижанином той самой «третьей волны» эмиграции, то есть уехавшим не слишком давно, чтобы все забыть, и не слишком недавно, чтобы не успеть соскучиться, очень любил русскую старину.
Григорьев, как все порядочные французские эмигранты, имел в дедушках русского академика, половину леса в Луцине, которая ошибочно была принята за дачный участок и выдана дедушке Академией наук именно в качестве участка. Как все французы, он очень любил Москву, разумеется! Едва только стало возможно, он открыл здесь отделение своей французской фирмы, завел приличную квартирку и приютил собаку Полкана. Полкан, будучи беспризорным, таскался по Луцину, попрошайничал, а на Новый год наедался так, что застревал в заборе, и приходилось выламывать ветхие колья штакетника, потому что Полкан не проходил. Время от времени Григорьев находил где-то то часы, то креслице николаевских времен и свозил это все на Ленинский знакомому антиквару Исааку Израилевичу. Исаак Израилевич реставрировал находку, и Григорьев получал совершенно ожившую, хотя подчас и не слишком удобную, вещицу.
Кресло, в которое зачем-то села Маша, дожидалось в кабинете у Родионова отправки в Париж, но дело застопорилось. Родионов подозревал, что друг его Григорьев пребывает в мучительных противоречиях с собой — неожиданно для себя он вдруг открыл, что в Москве… интереснее, чем в Париже.
В Москве есть нерв, напряжение жизни и, главное, есть то, чего так не хватает за любой границей. Здесь есть те, чье воображение можно поразить, а это так важно! Весник на своем особенном вороньем языке сказал бы, что это самое поражение воображения — одна из важнейших мотиваций! Здесь есть друзья, коллеги по бывшей работе, бывшие и настоящие жены, соученики, подруги, родственники, давние знакомые, недавние знакомые, знакомые родителей и родители знакомых — и всем есть до тебя дело, и всем до ужаса любопытно, кем ты стал, и страсть как хочется узнать, на что ты годен!
Родионов знал это по себе. Когда он стал знаменит и узнаваем, приятельницы его матери, дружившие с ней по сорок лет, поначалу с деланым недоумением спрашивали, чем же на самом деле занимается ее сын — пишет книжки? Какое странное занятие, ей-богу! А почему он при этом на работу не ходит?! Потом они лишь поджимали губы, а потом и вовсе перестали с ней здороваться, и тут Родионов понял, что у него все хорошо! Все просто отлично! Барометр показывает «бурю», а это гораздо лучше, чем «великая сушь»!
— Великая сушь, — пропел Родионов на мотив из оперы «Князь Игорь». — Великая, великая сушь!…
— Дмитрий Андреевич…
— Я не слышу, что ты там мяукаешь, — сказал он громко, — и зачем ты туда села? Мне тебя не видно. Пересядь и говори, в чем дело.
Маша помедлила и не пересела. Что-то с ней странное сегодня!
— Дмитрий Андреевич, я не могу ехать с вами в Киев. Простите.
Родионов сосредоточенно дожевал тост, а потом допил кофе.
— Я могу спросить, почему?
— По семейным обстоятельствам, Дмитрий Андреевич.
— Что это такое за обстоятельства?!
— Я… не могу вам сказать.
— Понятно.
Он зачем-то вытер руки о джинсы, вылез из кресла, пнул его ногой, так что оно шустро покатилось в сторону, и стремительно подошел к Маше. Когда ему было надо, он умел двигаться очень быстро.
Она вскочила и забежала за кресло.
— Так, в чем дело? Нам завтра лететь, а ты такие… фортели выкидываешь!
— Я не полечу, Дмитрий Андреевич. Я не могу.
Тут он заметил, что у нее какое-то странное лицо, как маска. И еще сбоку какая-то полоса, то ли желтая, то ли красная, не зря она села спиной к свету, как в детективе!
Родионов взял ее рукой за подбородок, повернул к свету и все увидел, хотя в следующую секунду она вырвалась. У нее стали злые и несчастные глаза.
— Ты что? Подралась? — спросил Родионов первое, что пришло ему в голову, потому что он сам подрался. Вот совпадение какое! — И с кем?
— Я ни с кем не дралась, Дмитрий Андреевич. Но у меня… проблемы, и ехать я никуда не могу.
— Маша, что случилось?! Тебя что, вчера в КПЗ забрали? Били? Издевались?
— Никто надо мной не издевался и не бил, Дмитрий Андреевич. Мне нужно… уладить свои дела. Я вас отвезу сегодня на НТВ и завтра на самолет, но сама лететь не могу.
Родионов подумал и ляпнул:
— Я тебя уволю.
— Нет, — быстро сказала Маша Вепренцева. — Не надо меня увольнять!
— Тогда объясни мне толком, в чем дело, и все! Я не могу тут… антимонии разводить, у меня дел по горло! Марков меня вчера, как лягушку, препарировал, потому что я книжку не сдал, и еще ты мне тут нервы треплешь! Говори быстро, ну! И царапина откуда?! С самосвала упала? Тормозила головой?
Маша засопела, отвернулась, и Родионов решил, что она сейчас заплачет. Что он станет делать, если она заплачет?! Она не должна плакать, потому что он совершенно не знает, что ему делать с ней, плачущей! Он тогда тоже раскиснет, а он не должен и не может раскисать, потому что у него роман, сроки, командировка и всякое такое! И вообще он равнодушный!… И еще подруга Люда вчера вечером вывела его из состояния душевного равновесия! А теперь и Маша, от которой он не ждал никакого подвоха, пытается уничтожить остатки его покоя! А покой, между прочим, необходим для работы!
— Дмитрий Андреевич, простите, что я вас так подвожу, но… я должна остаться в Москве.
— Зачем?! И как ты можешь остаться, если у нас… у тебя в Киеве работа?! Ты же не на прогулку едешь!
— Дмитрий Андреевич…
— Говори быстро, в чем дело!
Она заплакала и закрыла руками лицо. Наверное, с той стороны, где была длинная воспаленная царапина, ей стало больно, потому что она отдернула ладонь.
— Это мои… семейные проблемы. Это… не имеет отношения к вам.
Родионов замычал сквозь стиснутые зубы.
— Тебя чего, мама в угол наказала? Или розгами секла? Почему морда вся расцарапана?
Она молчала и плакала.
— Хорошо, — отрезал Родионов. — Отлично. Можешь идти, ты свободна.
Маша перестала плакать и посмотрела на него внимательно:
— В каком смысле свободна?
— Абсолютно во всех, — уверил ее великий писатель, — на НТВ я съезжу сам. Веснику только позвони, скажи, что ты не летишь. Встретимся после командировки. Постарайся за это время прийти в себя.
— Хорошо, — тихо сказала Маша Вепренцева.
Родионов вернулся за стол, дернул «мышь» и уставился в монитор.
— Да, — как будто вспомнил он, приготовляясь ударно печатать, — свой билет тебе придется переоформить, но я думаю, что это быстро. Или Табакову попроси, она же билетами занимается!
— Как… переоформить, Дмитрий Андреевич?
— На другое имя. Раз ты не летишь, я подругу с собой возьму. Подожди, я ей позвоню, спрошу паспортные данные. Или нет, ты ей сама позвони. Где моя записная книжка?…
Это был чистой воды блеф, но он отлично сработал. Неизвестно, поверила ли Маша, но она тут же сказала:
— Нет.
Чего— то в этом роде писатель Воздвиженский и ожидал. Он все про нее знал.
— Что нет? — спросил Родионов участливо. — Ты не знаешь, где моя книжка?
— Дмитрий Андреевич, я не хочу вам рассказывать, потому что это… просто семейное дело.
— Семейное дело с криминалом? — сухо поинтересовался Родионов и кивнул на ее щеку. — В процессе этого дела тебя били?
Она тоскливо посмотрела в окно, за которым было радостно, солнечно, весело, как бывает только в мае, когда все впереди.
«Да уж, — подумал Дмитрий Андреевич, — вот беда. Еще, боже избави, придется мне ее делами заниматься, а я не умею. И не хочу!»
— Хорошо, — произнес он, раздражаясь. — Если ты не хочешь говорить, тогда просто скажи, что нужно сделать, чтобы ты поехала со мной. Я все сделаю, и ты поедешь. Только не думай, пожалуйста, что я… такой благородный. Просто мне без тебя неудобно. Очень.
Маша опять села в григорьевское кресло, и лицо у нее приняло сразу несколько выражений, как будто на это самое лицо вдруг опрокинули кувшин с разными чувствами. Кажется, был такой кувшин в греческой мифологии. Или не кувшин, а ящик. И не с чувствами, а с болезнями и несчастьями.
— Мне нужно быстро увезти из Москвы детей.
Родионов насторожился.
— Тебе опять… звонили?
— Нет!
— Не звонили?
— Дмитрий Андреевич, это никак не связано с тем звонком, клянусь вам! Это… совсем другое дело, но мне правда нужно!
— Да что такое случилось-то?! — заорал Родионов. — Почему второй день подряд мы должны заниматься твоими детьми?!
— Вчера звонили и угрожали моим детям, если вы поедете в Киев! И все! То, что мне их нужно увезти, с Киевом никак не связано!
— Дьявол!
Оба замолчали и молчали довольно долго, изредка посматривая друга на друга.
— А дочери твоей сколько лет? — вдруг спросил Родионов.
— Пя… то есть шесть. Лерке шесть, конечно же.
— Молодая еще, — оценил великий писатель.
Маша Вепренцева кивнула.
— А муж? Может, ты его привлечешь к участию в эпопее?
— Нет! И его… вообще нет и… не было никогда.
Родионов поднял брови:
— Непорочное зачатие?
Маша пропустила богохульную и неуместную шуточку мимо ушей.
— Хорошо. А что, если мы твоего Сильвестра возьмем с собой в Киев, а молодую девушку ты куда-нибудь временно пристроишь? Ну, хоть жене Маркова!
— Кому?! — оторопело спросила Маша Вепренцева.
— Юле Марковой, — терпеливо объяснил великий. — Ты же с ней знакома!
— Знакома, но не настолько, чтобы она брала моих детей на временное содержание!
— Зато я знаком достаточно! Она изумительная женщина, и у нее своих двое. Старшая большая совсем, а младшая еще маленькая, вроде твоей. У них на даче охрана, в машине охрана, на озере охрана, и вообще жизнь организована хорошо, не то что у нас.
Это был увесистый камень в Машин огород, который просвистел впустую. Маша его даже не заметила.
— Ну что? Я звоню Юле?
От целого кувшина чувств осталось одно смятение, и Маша немедленно в него нырнула.
Отдать Лерку Юле Марковой, жене владельца самого крупного и знаменитого в России издательства?! А самой в это время лететь в деловую командировку с другим ребенком?! Продолжать «игру втроем», начатую вчера в пиар-службе?! Вовлечь начальника в свою семейную жизнь уже окончательно и бесповоротно?! Заставить его разбираться с ее проблемами?!
— Не-ет, — протянула она, — нет, Дмитрий Андреевич, это же совсем неудобно!
— Я не знаю, насколько это неудобно, потому что я вообще не знаю никаких подробностей, — сказал он язвительно. — Ты же мне ничего не объяснила!
— Я не могу…
— Вот именно. Я предлагаю тебе вариант решения вопроса. Если он тебе не подходит, оставайся в Москве и меняй свой билет. Я тебе уже говорил.
Они посмотрели друг на друга.
Аркадий Воздвиженский был чертовски наблюдателен, когда имел дело с посторонними людьми. Он замечал все — сигареты, галстуки, манеру говорить по телефону, курить или облизывать губы. Он знал, кто и как садится в машину, кто как ест, кто сколько пьет, и все это шло в дело, безостановочно, постоянно, недаром он писал свои истории так давно и столь успешно. Он все умел замечать, но только в том случае, когда дело не касалось его лично. Вот здесь он становился слепым, как крот.
А не посчитать ли нам, господа состоятельные кроты?
Ну что ж! Посчитаем!
Раз — он понятия не имел, что Маша в него влюблена.
Два — он думал, что она просто такой хороший работник и вообще толковая девушка, как называл всех тридцатилетних дам великий классик английской литературы Джон Голсуорси.
Три — он везде таскал ее за собой и был уверен, что Маша так восторженно на это соглашается просто потому, что ей нравятся работа и мир, который открывается перед ее глазами благодаря ему.
Четыре — он ходил с ней на балы и банкеты, и ему в голову не приходило, что окружающие могут относиться к ним как к «паре», и он неустанно осуществлял поиск новых девиц для личного пользования и знать не знал, что эти его поиски для нее мучительны, как самые изощренные пытки.
Пять — он считал ее ревность отчасти профессиональной, отчасти карьерной, ну, вроде того, что она боится, как бы не появился кто-то третий, кто вдруг оттеснит от нее шефа, и все. Все!
Вот сколько всего насчитали господа состоятельные кроты!
Маша Вепренцева не допустит, чтобы с ним летела «другая», и именно из своих карьерных соображений, так ему казалось.
Впрочем, люди всегда слышат не то, что им говорят, и видят не то, что им показывают, а то, что им удобнее или приятнее видеть или слышать!
Показывают, к примеру, бандитов. Да не тех, которые когда-то скакали по Шервудскому лесу, а вполне реальных, которые нынче скачут в «Лендкрузерах» между казино «Метелица» и казино «Голден Пэлэс». Показывают бандитов, а зрители видят чудесных молодых людей в чудесных автомобилях и в окружении чудесных красоток. Молодые люди любят детей и собак, родителей любят и жен, несправедливость мира приводит их в негодование, и благородная борьба парней за хорошую жизнь кажется как раз робингудовской, и в конце все плачут, потому что злые и продажные люди убивают их, светлых и благородных. И уже никто не слышит режиссера, который пытается объяснить собравшимся, что он имел в виду совсем не это, что он хотел продемонстрировать миру губительность насилия и беззакония, что вся внешняя красота жизни героев — это миф, блеф, утренний туман, а впереди только опустошение и гибель. Да и уверения эти кажутся по меньшей мере странными, и зрители как будто снисходительно похлопывают режиссера по плечу: ладно, ладно, мы все понимаем, не маленькие! Они же чудесные парни, особенно вот этот, который в следующем фильме уже играет Христа, и перевоплощение это загадочно, странно, немыслимо, но у кинематографа свои законы!
— Ну что? — спросил искуситель Родионов. — Звонить Юле или нет?
И Маша Вепренцева согласилась.
Конечно, звонить. Она не может остаться, и ей даже подумать страшно, что ее шеф полетит в командировку не с ней, а с подругой.
Она сдаст Лерку Юле — если та согласится, — купит билет Сильвестру, и как-нибудь все обойдется.
Только как?! Как?!
Беда пришла с той стороны, про которую Маша совсем забыла, и по сравнению с тем гадким телефонным звонком оказалась настоящей катастрофой, и тревога, которую невозможно было унять, накрыла ее с головой.
Она все думала: «Что мне теперь делать?» Маша думала так в метро, когда ехала на работу. Думала, когда варила кофе, думала, когда разговаривала с Родионовым.
«Что мне теперь делать?»
Да, да, сейчас она их спасет, обезопасит, а потом? Что они все станут делать потом, когда неизбежно придется возвращаться?!
Она останавливала себя, потому что точно знала, что все равно ничего не придумает, и начинала думать сначала, и это было мучительно и трудно.
В конце дня с извинениями, книксенами, приседаниями и лепетанием благодарственных слов она отвезла Леру на дачу Марковых, где ее приняла немного недоумевающая Юля, впрочем, вполне доброжелательная. Лерку тут же увели в дом, и она, как образцовый детсадовский ребенок, сразу пошла туда и даже оглянулась и помахала ладошкой, все еще пухлой, все еще младенческой, и Маша чуть не зарыдала, словно прощалась с ней навсегда.
Юля, удивившись еще больше, уверила ее, что с девочкой ничего не случится, и пригласила Машу на чашку чаю, и все это было так далеко от Машиной собственной жизни: устроенный и давно налаженный быт, ухоженный яблоневый сад, газоны, большая добродушная собака, которая, прислушиваясь к их разговору, задрала и смешно наставила одно ухо.
А на следующее утро они улетели в Киев — мрачный Родионов, похохатывающий Весник, подавленная Маша и ликующий Сильвестр Иевлев, которого взяли в «большое путешествие».
Если бы Маша Вепренцева знала, что ждет их в этом самом путешествии, она заперла бы своего сына на замок в квартире, где летом всегда было жарко, а зимой холодно.
Но она не знала и только десять раз повторила сыну, чтобы он «вел себя прилично»!
Комната оказалась огромной — зал, а не комната! — и в ней было как-то слишком «ампирно», как на ухо Маше заметил Родионов. Позолота на потолке, позолота на штофных обоях, на резных спинках стульев, на рамах внушительных картин. Ничего, кроме внушительности, картины не отображали, и художников, чьими фамилиями они были подписаны, Маша не знала.
Один попался смешной. Его звали Григорий Пробей-Голова.
Маша долго рассматривала его картину, прислушиваясь к голосам, которые то нарастали, то утихали у нее за спиной. Народу было много, и все сплошь — местные и столичные знаменитости. Картина висела на стене полукруглой веранды, примыкающей к залу.
Григорий же Пробей-Голова отобразил на своем полотне белостенную хату с подсолнухами и мальвами в палисаднике. На лавочке перед хатой стояли горшки и крынки, пузатые и вытянутые, покрытые чистыми марлицами и простоволосые, всякие. Картина Маше нравилась. Конечно, она была несколько… тяжеловата, но там было так много тягучего и теплого, как мед, солнца, так осязаемо была нагрета лавочка, так весело побелена хата, так живописны подсолнухи и мальвы, что в нее хотелось нырнуть. Сидеть на теплой лавочке, свесив босые пыльные ноги, жмуриться, слушать гудение пчел над ухом, лениво отмахиваться от мух, лузгать семечки, выковыривая их из улыбающейся подсолнуховой морды. И больше ничего, ну ничего не надо!…
— Да в том-то и дело, что я не знаю, — послышался вдруг громкий шепот. Маша посмотрела в сторону резной двери, возле которой висела сказочная картина. Шепот доносился оттуда. — Понятия не имею. Когда ее представляли, я не расслышала, но, по-моему, это прислуга. Да не знаю я!… Вот как теперь быть?! За общий стол ее сажать или нет?… Лидочка, как бы узнать, а? И главное, у него не спросишь, он же писатель, вдруг обидится!
Маша Вепренцева, сообразив, что речь идет о ней и именно про нее не знают — «прислуга» она или нет, покраснела до ушей, до корней волос. Картина с ухмыляющимся подсолнухом была забыта. Кровь вдруг с шумом ударила в барабанные перепонки, как морской прибой. Она и не знала, что кровь может так шуметь!
Нужно найти Сильвестра и уйти в свою комнату. Она не станет ничего объяснять, она быстро уйдет, и все.
Маша пощупала руками щеки. Шепот за дверью все продолжался, и ей хотелось дослушать из каких-то мазохистских, уничижительных соображений, но дослушать ей не дали.
— Как вам картина? — спросили за спиной, и Маша быстро обернулась. Позади нее стояла Катерина Дмитриевна Кольцова, жена олигарха и губернатора, и, говорят, даже будущего кандидата в российские президенты, которого Маша еще не видела. Про олигарха, как и кандидата в украинские президенты Головко, гостям было сказано, что «они заняты и будут только к ужину».
— По мне, так слишком много краски. А вам как?
— Мне нравится, — сказала Маша быстро. — Извините меня, Катерина Дмитриевна. Я должна найти своего сына.
— А что его искать? Ваш сын на лужайке за домом гоняет мяч вместе с нашим сыном, — безмятежно ответствовала Катерина. — Они там морс пьют. Я сама видела, как его понесли. Хотела побежать и тоже выпить, такая жара! А здесь почему-то одно спиртное.
И она кивнула в «зал», где, как в большом аквариуме, неторопливо плавали гости. От рыб они отличались тем, что еще разговаривали, шептались, смеялись, пожимали плечами и закатывали глаза.
«Нужно быстро изобрести какой-то предлог, чтобы уйти, — сказала себе Маша. — Сейчас же, ну!»
— Хотя подсолнухи хороши, — как ни в чем не бывало продолжала жена олигарха, — особенно вон тот, здоровый. Аркадий Воздвиженский ваш муж?
— Нет, — резко ответила Маша. — Он мой начальник.
— Да ну? — удивилась жена олигарха. — А похож на мужа.
Спрашивать было нельзя, но Маша — черт тебя подери, Маша! — все-таки спросила:
— Почему на мужа?
Катерина Кольцова очертила в воздухе неопределенный круг бокалом, который держала в руке:
— Не знаю. Он все время смотрит в вашу сторону и делает бровями вот так. — Она показала, как Воздвиженский «делает бровями». — Мой тоже всегда так делает, когда на приемах не знает, чем заняться. Мы называем это «невещественные знаки». Это из Гончарова, помните?
Маша метнула на нее быстрый взгляд.
Жена олигарха была в льняных брючках и какой-то финтифлюшке, до того простой и незатейливой, что становилось абсолютно ясно, каких денег стоит ее скромный летний наряд. Маша Вепренцева в пиджачной паре чувствовала себя рядом с ней как текстильный комбинат по производству солдатского сукна рядом с витриной брюссельских кружев. Еще ей казалось, что она красная и распаренная, как сахарная свекла в горшке, а эта самая жена олигарха была прохладной и свежей, как летний бриз.
Или бриз — морской? А что тогда бывает летним? Ветерок, дуновение, порыв? Пассат, муссон, торнадо, ураган «Гретхен»!
— Ма-ам, — завопил где-то поблизости Сильвестр Иевлев, — мам, можно мы с Мишкой в настольный теннис поиграем?!
Маша не видела Сильвестра и не могла понять, откуда он вопит, поэтому закрутила головой во все стороны, пытаясь его обнаружить, и не обнаружила.
— Они за кустами, — сказала Катерина Кольцова, — там вроде бассейн.
Она пристроила на перила свой бокал, сбежала по широким и гладким ступеням в сад и моментально полезла в кусты.
Маша Вепренцева вдруг подумала — как хорошо, наверное, быть Катериной Кольцовой. Как хорошо быть настолько уверенной в себе, чтобы не обращать совсем уж никакого внимания на то, как ты выглядишь со стороны и что о тебе подумают окружающие!
Следом за Катериной Маша вышла на английский газон и зажмурилась — здесь было очень много солнца, гораздо больше, чем на прохладной полукруглой веранде, и оно сразу приятно и нежно защекотало шею, и спине стало жарко под бронетанковым пиджачным сукном.
— Ма-ам, ты где?!
— Я здесь.
— Мам, я тебя не вижу!
— Я тоже тебя не вижу.
— Да вот же я, вот!
— Лезьте к нам, — подала голос Катерина Кольцова, — прямо через кусты, они не слишком густые.
Маша покорилась и полезла. Кусты затрещали, как ей показалось, очень громко, листья полезли в глаза, и она проломилась на ту сторону живой изгороди как раз в тот момент, когда на веранду вышла хозяйка дачи Мирослава Цуганг-Степченко, которая никак не могла решить, прислуга Маша или нет, и сильно из-за этого переживала. С ней были две прекрасные дамы и один джентльмен, значительно менее прекрасный. Все трое с изумлением уставились в пролом в кустах, который устроила Маша Вепренцева.
— Господи, — с громким недоумением сказала одна из дам, — что там такое?
— Это я, — зачем-то откликнулась Маша и из-за кустов глупо помахала рукой, — извините меня, пожалуйста!
Дама пожала плечами и приподняла безупречной формы брови, впрочем, быстро их опустила — как пить дать косметолог запрещал мимические ужимки во избежание ранних морщин.
Ее звали Лида Поклонная, и она была актрисой. Никто не знал, в каких фильмах и спектаклях она играла, зато все знали, что она жена знаменитого Андрея Поклонного, героя многочисленных телевизионных сериалов, концептуальных и массовых кинокартин, спектаклей, постановок, шоу и даже новейших эпопей. Про «звездную пару» писали газеты и журналы, их фотографии помещали на обложках, об их личной жизни судачило и за них переживало большинство населения державы, которое хлебом не корми, дай за кого-нибудь попереживать.
Остальных Маша не знала.
Катерина Кольцова с лужайки махала ей рукой, звала к себе, и Маша, оглянувшись на квадригу на ступеньках, пошла все быстрее, а потом побежала, словно за ней гнались.
— Мам, смотри, как тут здорово! А можно мы искупаемся?
— Нет.
— Да.