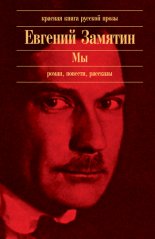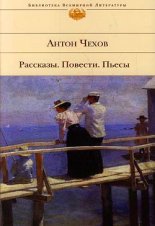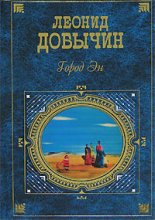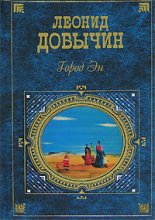Однокурсники Боборыкин Петр
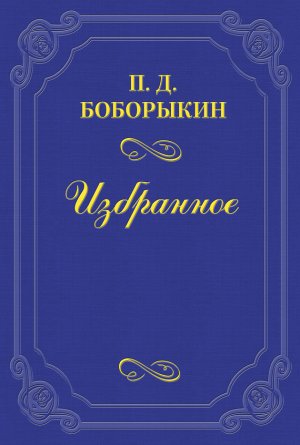
— Мистер Трамбал, — поинтересовался он, сдерживаясь изо всех сил, — «качественный состав», о котором вы упомянули, — включает ли это понятие в себя религиозную составляющую?
— Вообще-то да, — ответил директор вежливым тоном. — В Йеле нет так называемых квот. Но у них при приеме есть, в некотором смысле, ограничение по числу студентов-евреев.
— Но ведь это незаконно!
— Позвольте с вами не согласиться, — возразил Трамбал. — Евреи составляют — сколько? — два с половиной процента от общего числа населения Америки. Готов поспорить, в процентном отношении Йель принимает по меньшей мере в четыре раза больше.
Гилберт-старший не собирался спорить. Ему стало ясно: этот пожилой человек точно знает, каков ежегодный процент поступления евреев в его альма-матер.
Джейсон испугался, что вот-вот грянет буря, и всей душой хотел этого избежать.
— Послушай, пап, я не хочу учиться в заведении, где меня совсем не ждут. Я считаю — к черту этот Йель.
Затем он повернулся к директору и произнес извиняющимся тоном:
— Простите, сэр.
— Ну что вы, — отозвался Трамбал. — Совершенно понятная реакция. А теперь давайте мыслить позитивно. В конце концов, у вас очень неплохой выбор. Некоторые даже считают, что Гарвард — лучший университет страны.
Тед Ламброс
Великий Бог, не надо мне богатства
Прошу, не дай в себе разочароваться,
Чтобы в делах смог воспарить я ввысь
И острым взглядом видеть все как есть.
Генри Дэвид Торо, выпуск 1837 года
Все чувствительные люди эгоистичны.
Ральф Уолдо Эмерсон, выпуск 1821 года
Он ходил на занятия, но жил дома. Он принадлежал к тому немногочисленному, почти незаметному меньшинству, кто по финансовым соображениям не мог позволить себе роскошь жить в кампусе вместе со своими однокурсниками. Эти немногие лишь днем жили студенческой жизнью: вроде бы и гарвардцы, но не совсем — на ночь они вынуждены были возвращаться в обыденный мир автобусом или поездом.
По иронии судьбы Тед Ламброс родился чуть ли не под сенью Гарвардского двора. Его отец Сократ, приехавший в Америку из Греции в начале 1930-х, владел весьма популярным ресторанчиком «Марафон» на Массачусетс-авеню, в двух шагах от библиотеки Вайденера.
В его заведении, как он частенько хвастался перед членами своего коллектива (иными словами, перед своей семьей), каждый вечер собиралось такое количество великих умов, что не снилось и платоновской Академии. Здесь ужинали не только философы, но и нобелевские лауреаты по физике, химии, медицине и экономике. И даже сама миссис Джулия Чайлд[5] однажды посетила это место, отметив вслух, что приготовленное его женой мясо барашка в лимонном соусе — «весьма занятное блюдо».
Более того, его сын Теодор ходил в Кембриджскую классическую гимназию, которая находилась в такой близости к священной территории университета, что сама считалась чуть ли не его частью.
А поскольку благоговейное отношение Ламброса-старшего к университетским преподавателям граничило с обожанием, то вполне естественно, что и сын его рос с единственным заветным желанием — поступить в Гарвард.
В шестнадцать лет высокий и смуглый красавец Теодор стал помогать отцу в качестве официанта, и теперь юноша мог напрямую обращаться ко всем ученым мужам, которые наведывались к ним в ресторанчик. И когда эти светила науки даже просто здоровались с Тедом, его уже бросало в дрожь.
Он все размышлял, отчего так происходит. В чем кроется сила обаяния преподавателей Гарварда, которую он успевал ощутить даже в те считанные секунды, когда быстро ставил перед кем-то из них тарелку с «клефтико»?
И как-то вечером наступил тот решающий момент, когда ему открылась истина. Оказывается, все дело в том, что его кумиры невероятно уверены в себе. Эти небожители источали апломб, сиявший вокруг них подобно ореолу, — и не важно, о чем они говорили: о высоких ли материях, или просто о достоинствах жены нового преподавателя.
Будучи сыном иммигранта в первом поколении, Тед особенно восхищался этой их способностью любить себя и ценить собственный интеллект.
И у него появилась цель в жизни. Ему захотелось стать одним из этих любимцев судьбы. Не просто студентом университета, но настоящим профессором. Отец разделял его мечту.
К большому неудовольствию остальных детей семейства Ламброс, Дафны и Александра, папочка за общим столом имел обыкновение напыщенно и высокопарно говорить о славном будущем Теда.
— Не понимаю, почему все думают, будто он такой великий, — бывало, ревниво возражал юный Алекс.
— Потому что он такой и есть, — отвечал Сократ чуть ли не с юношеским пылом. — Из всей нашей семьи Тео — единственный настоящий Ламброс.
Он улыбнулся тому, как метко обыграл их фамилию, которая переводится с греческого языка как «светлый» или «блестящий».
Из окна комнатки на Прескотт-стрит, где Тед засиживался над учебниками за полночь, были видны огни Гарвардского двора — всего в двухстах метрах отсюда. Так близко, совсем близко. И если силы вдруг покидали его и внимание начинало рассеиваться, он обычно подбадривал себя мыслями: «Терпи, Ламброс, ты почти уже там». Ведь он, подобно Одиссею в бушующем море у берегов Феакии, понимал — там, на суше, его ждет спасение после долгих испытаний на пределе сил.
Сохраняя верность своим эпическим фантазиям, он мечтал о деве, которая ждет его на чудесном острове. О юной золотоволосой принцессе, похожей на Навсикаю. Но в мечтаниях Теда о Гарварде оставалось место и для рэдклиффских девушек.
Поэтому, читая в старших классах «Одиссею» для сдачи английского языка на «отлично» и добравшись до песни шестой, где Навсикая страстно влюбляется в прекрасного грека, которого волны вынесли на берег ее острова, он усмотрел в этом добрый знак: его тоже ожидает сказочный прием — лишь бы только добраться до цели.
Однако таких отличных отметок за год, как по английскому языку, у него набралось очень немного. В основном все это время он учился на твердые «четверки с плюсом». Причем добывал он их с превеликим трудом, не позволяя себе расслабиться ни на минуту. Смел ли он надеяться, что его примут в волшебный Гарвард?
По успеваемости он занял лишь седьмое место среди выпускников своей гимназии — с баллами чуть выше среднего. Правда, Гарвард обычно отбирал для себя не только отличников, но и тех, кто всесторонне проявил себя в школе. Но Тед решил, что это не для него. Откуда ему после занятий в школе и работы официантом взять время, чтобы ко всему прочему еще играть на арфе или выступать за спортивную команду? С мрачной объективностью он оценивал свои шансы и постоянно твердил отцу, чтобы тот не ждал невозможного.
Но ничто не могло поколебать оптимизма папаши Ламброса. Он верил, что рекомендательные письма от «крупных деятелей», которые регулярно обедают у него в «Марафоне», помогут Теду.
И каким-то образом так и произошло. Теда Ламброса приняли — хотя и без финансовой поддержки. Это означало, что он был приговорен оставаться в своей норе на Прескотт-стрит, не имея возможности вкушать прелести гарвардской жизни вне занятий. Ему придется вечерами вкалывать в «Марафоне», дабы зарабатывать свои шестьсот долларов на учебу.
Несмотря ни на что, Тед был полон решимости. Хотя это пока лишь подножие Олимпа, но он-то уже здесь и готов карабкаться наверх.
Ведь Тед верил в «американскую мечту»: если захотеть чего-то очень сильно, отдаться всем сердцем делу своей жизни — обязательно добьешься успеха.
И стремление покорить Гарвард горело в душе Теда, подобно «негасимому пламени», не дававшему Ахиллу покоя до тех пор, пока не пала Троя.
Впрочем, Ахиллу не приходилось вечерами обслуживать столики.
Эндрю Элиот
Нет, я не Гамлет, этому не быть!
Я лишь один из свиты, нужный для завязки,
Чтоб, услужив советом принцу, без опаски
Сойти со сцены, ждать, пока не позовут;
Я лишь придворный, ловкий и учтивый,
Благонамеренный, отчасти глуповатый,
Благоразумный и слегка трусливый,
А иногда простак чудаковатый,
А иногда и вовсе… шут[6].
Томас Стернз Элиот, выпуск 1910 года.
Последний из Элиотов поступил в Гарвард, чтобы продолжить традицию, начатую в 1649 году. Эндрю рос привилегированным ребенком.
Родители, даже после элегантного развода, щедро одаривали сына всем, о чем только можно было мечтать мальчику его возраста. Няня у Эндрю была англичанка, а количество игрушечных медведей не поддавалось счету. С раннего детства, сколько он себя помнил, его отправляли в самые дорогие пансионы и летние лагеря. Родители учредили трастовый фонд, чтобы обеспечить своему сыну надежное будущее.
Иными словами, они дали ему все, если не считать того, что не проявляли к нему особого интереса и обделяли своим вниманием.
Разумеется, они любили его. Это и так было ясно без слов. Может, именно поэтому они никогда не говорили ему об этом. Родители думали, будто он сам догадывается, как они признательны судьбе за то, что у них такой хороший и самостоятельный сын.
Однако Эндрю стал первым из всех представителей семейства Элиотов, считавшим, будто бы он не достоин поступления в Гарвард. Довольно часто он едко подшучивал над собой: «Меня возьмут туда учиться лишь за то, что моя фамилия Элиот и я умею писать ее без ошибок».
Несомненно, родословная предков огромным бременем давила ему на плечи, лишая уверенности в себе. Он был убежден в отсутствии у себя творческих способностей, и это, по вполне понятным причинам, усиливало чувство собственной неполноценности.
На самом же деле молодой человек был довольно яркой личностью. Он ничем не кичился, в словах был скромен — о чем известно из его дневников, которые он прятал от преподавателей. Прекрасно играл в футбол. Был крайним нападающим, умел остро подавать угловые, что позволяло центрфорвардам забивать голы.
Это было отличительным свойством его характера: он всегда был рад, если удавалось помочь другому.
Вне футбольного поля он был так же добр, заботлив и внимателен.
Более того, хотя он и не претендовал на исключительное отношение к себе, многие из приятелей считали его чертовски хорошим парнем.
Университет им гордился. Однако Эндрю Элиот единственный из всего выпуска 1958 года обладал качеством, которое отличало его от всех остальных студентов в Гарварде.
Он не был честолюбив.
*****
Примерно в пять утра 20 сентября к загаженному автовокзалу на окраине Бостона подъехал скоростной автобус, из которого вывалились пассажиры, в том числе уставший и взмокший от пота Дэниел Росси. Одежда на юноше была вся в мятых складках, взъерошенные рыжие волосы торчали во все стороны. Даже очки его закоптились за время путешествия через весь континент.
Тремя днями ранее он покинул Западное побережье, имея в кармане шестьдесят долларов, из которых у него оставалось ровно пятьдесят два. Он отчаянно экономил на еде, пока ехал сюда через всю Америку.
Совершенно измученный, едва волоча по улице свой единственный чемодан (с парой рубашек, доверху набитый нотами и партитурами, которые он просматривал в дороге), Дэниел направился к подземке, чтобы добраться до Гарвардской площади. Сначала он потащился в Холворти-холл, комната 6, — его новое жилище первокурсника в Гарвардском дворе, — затем поспешил как можно скорее пройти зачисление, чтобы успеть вернуться в Бостон и перевестись из калифорнийского отделения профсоюза музыкантов, где он состоял на учете, в местное, под номером 9.
— Не хочу обнадеживать тебя, малыш, — предупредила его секретарша. — У нас здесь миллион безработных пианистов. Вообще-то все, что предлагают клавишникам, — это работа в церквях. Но, видишь ли, Господь платит профсоюзу по минимуму.
Указывая пальцами с длинными ярко-красными ногтями в сторону доски, на которой белели листочки с объявлениями, она криво усмехнулась:
— Выбирай свою религию, малыш.
Внимательно изучив все предложения, Дэнни вернулся с двумя бумажками.
— Это мне подходит, — сказал он. — Играть на органе в Малденском храме в пятницу во время вечерней службы и в субботу, во время утренней. А еще воскресная утренняя служба в церкви в Куинси. Эти места еще не заняты?
— Раз висят объявления, значит, не заняты, малыш. Но чтоб ты знал, хлеб, который там предлагают, больше похож на крекеры «Риц».
— Да уж, — ответил Дэнни, — но я готов браться за любую работу, лишь бы платили. А по субботам у вас на танцах играют?
— Вот так-так! Да ты и вправду голодный. У тебя семья большая, которой нужно помогать, или что-то еще?
— Нет, я только что поступил в Гарвард, и мне баксы нужны, чтобы платить за обучение.
— Значит, эти богатенькие ребятишки в Кембридже не стали платить тебе стипендию?
— Это длинная история, — нехотя произнес Дэнни. — Но я буду признателен, если вы про меня не забудете. На всякий случай я буду к вам наведываться.
— Конечно заглядывай, малыш.
Накануне, около восьми утра, Джейсон Гилберт-младший проснулся в Сайоссете, на острове Лонг-Айленд.
Солнце в его спальне всегда светило ярче, чем в других комнатах. Наверное, потому, что отражалось в многочисленных сверкающих трофеях Джейсона.
Он побрился, надел новую теннисную куртку «Лакост», затем с трудом перенес багаж, включавший ракетки всех сортов — как для тенниса, так и для сквоша, — вниз, в свой двухдверный «меркурий» с откидным верхом 1950 года выпуска. Ему не терпелось с ревом помчаться по Поуст-роуд в своем багги, который он переделал собственными руками: увеличил мощность мотора и даже добавил вторую выхлопную трубу из стекловолокна.
Семейство Гилбертов в полном составе — мама, папа, Джулия, домоправительница Дженни и ее муж, садовник Максвелл, — все по очереди прощались с Джейсоном.
Было много поцелуев и объятий. И короткое напутствие отца:
— Сынок, я не желаю тебе удачи, поскольку она тебе не нужна. Ты рожден, чтобы стать номером один — и не только на теннисном корте.
Хотя Джейсон и не подал виду, но эти прощальные слова, призванные подбодрить, возымели совершенно противоположное действие. Юному Гилберту и так было не по себе при мысли о том, что он покидает родимый дом и отныне ему предстоит испытывать характер в окружении действительно лучших членов лиги своего поколения. А тут еще отец в последнюю минуту напоминает о том, как много он ждет от сына, — это только добавило нервозности.
Но возможно, ему стало бы легче, знай он, что в этот день не только он один выслушивал подобные слова: повторяясь сотни раз, они эхом прокатились по разным уголкам страны, их произносили сотни любящих отцов, точно так же провожавших своих единственных и неповторимых отпрысков в Кембридж, штат Массачусетс.
Через пять часов Джейсон уже находился в общежитии для первокурсников и стоял перед дверью в комнату А-32 Штраус-холла, куда его определили. Из двери торчал клочок желтой бумаги, оказавшийся запиской.
Моему соседу: я всегда сплю после обеда, поэтому, пожалуйста, не шумите.
Спасибо.
Подпись была простой: «Д. Д.».
Джейсон тихо открыл ключом дверь и почти на цыпочках внес свои вещи в одну из пустующих комнат. Уложив чемоданы на металлическую кровать (она тихонько скрипнула), он выглянул в окно. Перед ним открылся вид на Гарвардскую площадь — там царила шумная суета. Но Джейсон не возражал. Настроение у него было бодрое, поскольку оставалось еще время, чтобы прогуляться до стадиона на Солджерз-филд и поискать себе партнеров для игры в теннис. Уже одетый во все белое, он захватил с собой ракетку «Уилсон» и банку с мячами «Спаулдингз».
Ему повезло: в одном из теннисистов на университетском корте он узнал того самого парня, которому пару лет назад уступил в финале одного летнего турнира. Парнишка был рад увидеть здесь Джейсона и, согласившись сразиться с ним, довольно скоро ощутил: его прежний соперник, только что объявившийся в Гарварде, стал играть значительно лучше.
Вернувшись в Штраус-холл, Джейсон обнаружил в дверях другую записку на желтой бумаге, в которой сообщалось, что Д. Д. ушел обедать, оттуда пойдет заниматься в библиотеку (в библиотеку — при том, что их еще не зачислили!) и вернется часам к 10 вечера. Если сосед планирует прийти позже этого времени, то к нему огромная просьба вести себя как можно тише.
Джейсон принял душ, надел новенький вельветовый пиджак «Хаспел», быстро перекусил в кафетерии на площади, а затем направил свои стопы в сторону Рэдклиффа[7] — присмотреться к девушкам-первокурсницам. В общежитие он вернулся около половины одиннадцатого и проявил должное уважение к своему незримому соседу, который нуждался в отдыхе.
Наутро его ожидала очередная записка.
Ушел на зачисление.
Если позвонит моя мать, скажите ей, что вчера я поужинал хорошо.
Спасибо.
Джейсон скомкал листок с последним посланием и быстрым шагом вышел наружу, чтобы присоединиться к очереди, которая растянулась на целый квартал у стен здания Мемориал-холла.
Однако вопреки высоким помыслам, о коих можно судить из содержания записки, неуловимому Д. Д. не суждено было стать первым зачисленным студентом из всего курса. Поскольку, едва часы пробили девять и открылись массивные двери Мемориал-холла, туда уже вошел Теодор Ламброс.
За три минуты до этого он покинул свой дом на Прескотт-стрит, чтобы первым перешагнуть через этот порог и тем самым занять хотя и крошечное, но постоянное место в истории старейшего университета Америки.
Ему казалось, это и есть Рай.
*****
Отец Эндрю Элиота привез его из штата Мэн в классическом семейном многоместном автомобиле с откидными сиденьями, который был доверху загружен тщательно упакованными чемоданами: в них лежали твидовые и клетчатые пиджаки, белые щегольские туфли, различные мокасины, широкие шелковые галстуки и запас рубашек на целый семестр — на пуговицах и со стоячими воротничками. Короче говоря, это была его студенческая форма.
Как обычно, отец с сыном были не очень-то разговорчивы друг с другом. Слишком много поколений Элиотов проходило через одну и ту же процедуру переезда в университет, поэтому необходимость в разговорах уже отпала.
Они припарковались у ворот, ближайших к Массачусетс-холлу (некоторые из его прежних обитателей служили еще под командованием Джорджа Вашингтона). Эндрю забежал в Гарвардский двор и поспешил в комнату Джи-21, чтобы заручиться поддержкой своих старинных приятелей по подготовительной школе в деле переноски вещей. Пока его друзья выгружали багаж и таскали его на четвертый этаж, Эндрю вдруг оказался наедине со своим отцом. Мистер Элиот воспользовался этой возможностью, чтобы сказать несколько слов в качестве напутствия.
— Сынок, — начал он, — я буду очень признателен тебе, если ты постараешься не вылететь отсюда. Хотя школ в нашей великой стране бессчетное множество, но Гарвард все-таки один.
Эндрю с благодарностью принял этот мудрый родительский совет, пожал отцу руку и умчался к себе в общежитие. Оба его соседа уже принялись помогать распаковывать вещи. То есть раскупорили бутылку шотландского виски. И поднимали тосты за воссоединение друзей после лета, в течение которого они слегка покутили в Европе.
— Эй, парни, вы чего, — запротестовал Эндрю, — могли хотя бы спросить меня. Кроме того, нам же надо пройти зачисление.
— Да брось ты, Элиот, — произнес Дики Ньюол, делая очередной глоток. — Мы прогуливались там совсем недавно: чертова очередь растянулась на целый квартал.
— Да уж, — подтвердил Майкл Уиглсворт, — все эти придурки хотят первыми зачислиться. Но в гонке, как нам хорошо известно, не всегда побеждают быстрые.
— В Гарварде, думаю, всегда, — вежливо предположил Эндрю. — Во всяком случае, трезвые точно. Пойду посмотрю, что там.
— Я так и знал, — хихикнул Ньюол. — Старина Элиот, дружище, да у тебя задатки первоклассного зануды.
Эндрю стоял на своем — сомнительные шуточки этих преппи[8] его не трогали.
— Я пошел, парни.
— Ну и иди, — сказал Ньюол, надменным жестом отпуская его. — Если поторопишься, мы оставим тебе немного твоего же «Хейг энд Хейг». А кстати, где у тебя остальные бутылки?
Итак, Эндрю Элиот зашагал через Гарвардский двор в конец длинной очереди, закрученной подобно нити, чтобы стать ее частью и вплестись в пеструю ткань под названием «Выпуск 1958 года».
*****
К этому времени все студенты первого курса уже находились в Кембридже, хотя прежде, чем последний из них будет официально зачислен, должно пройти еще несколько часов.
В темном зале с огромным окном из витражного стекла толпились сплошь будущие мировые лидеры, лауреаты Нобелевской премии, промышленные магнаты, нейрохирурги, а также несколько дюжин страховых агентов.
Прежде всего каждому из них вручили по большому желто-коричневому конверту, в котором содержалось несколько видов заявлений: их надо было подписать (в четырех экземплярах для бухгалтерии, в пяти экземплярах для секретаря учебного заведения и, непонятно зачем, в шести экземплярах для студенческой поликлиники). Выполняя всю эту бумажную работу, молодые люди сидели бок о бок за узкими столами, которые тянулись в ряд до бесконечности.
Среди анкет, которые нужно было заполнить, попалась одна — для «Филлипс Брукс-хауса»[9], где содержались вопросы, связанные с религиозной принадлежностью (отвечать не обязательно).
Хотя никто из них не отличался особой набожностью, Эндрю Элиот, Дэнни Росси и Тед Ламброс поставили отметки в графах рядом с названием своих церквей: епископская, католическая, греческая православная соответственно. Джейсон Гилберт, в свою очередь, отметил, что не принадлежит ни к одной из религий.
После официальной регистрации им пришлось дополнительно продираться сквозь бесконечный строй ярых активистов, которые размахивали газетами и во все горло убеждали первокурсников, теперь уже официально ставших студентами Гарварда, вступить в различные организации: молодых демократов, республиканцев, либералов, консерваторов, альпинистов, аквалангистов и так далее.
Бесчисленное множество неугомонных студентов, распространителей университетской прессы, шумно уговаривали всех подписываться на «Кримзон» («Это единственная ежедневная газета в Кембридже, которую можно читать за завтраком!»), на «Адвоката» («И ты сможешь когда-нибудь сказать, что читал этих ребят до того, как они стали пулитцеровскими лауреатами!») и на «Памфлет» («Если подсчитать, то получится всего по одному пенни за каждую шутку!»). Короче говоря, никому не удавалось выйти отсюда, не раскошелившись, — кроме самых стойких сквалыг или совсем уже жалких нищих.
Тед Ламброс мог никуда не записываться и ни на что не подписываться, так как день его был уже полностью распределен между курсами: академическими днем и кулинарными вечером.
Дэнни Росси записался в клуб католиков, предположив, что религиозные девушки более скромные, а потому с ними будет проще познакомиться. Возможно, они даже окажутся такими же неопытными, как и он сам.
Эндрю Элиот пробирался через все это столпотворение с видом бывалого путешественника, привыкшего прорубать себе путь через густые заросли джунглей. Те дружеские сообщества, в которых состоял он, комплектовались в более спокойной обстановке и при гораздо меньшем стечении народа.
А Джейсон Гилберт просто купил моментальную подписку на «Кримзон» (чтобы иметь возможность отсылать домой маме с папой отчеты о собственных достижениях), после чего невозмутимо прошествовал сквозь толпу крикунов и зазывал — с тем же спокойствием, с каким его предки некогда переходили через Красное море, — и вернулся к себе в Штраус-холл.
И, о чудо из чудес, таинственный Д. Д. не спал. Во всяком случае, дверь в его комнату была открыта, а на кровати лежал некто, зарывшийся носом в учебник по физике.
Джейсон отважился обратиться напрямую.
— Привет, это ты Д. Д.?
В ответ из-за книги осторожно выглянули очки с толстыми стеклами в роговой оправе.
— Ты что, мой сосед? — раздался встревоженный голос.
— Ну, меня прописали в Штраус, А-тридцать два, — ответил Джейсон.
— Значит, сосед, — сделал логический вывод молодой человек.
После чего он аккуратно отметил бумажной скрепкой страницу, на которой остановился, отложил в сторону книгу, встал с кровати и протянул холодную и чуть влажную руку.
— Я — Дэвид Дэвидсон, — представился он.
— Джейсон Гилберт.
Тогда Д. Д. вперил подозрительный взгляд в своего соседа и спросил:
— Надеюсь, некурящий?
— Да. Не люблю табачный запах. А к чему такие вопросы, Дейв?
— Прошу тебя, я предпочитаю, чтобы меня называли Дэвид, — сделал замечание тот. — Спрашиваю, ибо я специально просил, чтобы мне дали некурящего соседа. Вообще-то я хотел в одноместный блок, но первокурсникам не полагается жить поодиночке.
— А откуда ты приехал? — поинтересовался Джейсон.
— Из Нью-Йорка. Средняя школа с научным уклоном в Бронксе. Я был финалистом конкурса Вестингауза[10]. А ты?
— Из Лонг-Айленда. Из Сайоссета. Был финалистом всего-навсего парочки теннисных турниров. Ты занимаешься спортом, Дэвид?
— Нет, — ответил юный ученый. — Это пустая трата времени. Кроме того, я собираюсь поступать на медицинский, и мне нужно будет много заниматься дополнительно, например, химией. А ты уже выбрал себе специальность, Джейсон?
«Боже, — подумал Джейсон, — неужели мне придется отвечать на вопросы этого зануды только потому, что он мой сокамерник?»
— Правду говоря — еще не решил. Но пока я буду размышлять над этим, может, сходим и купим что-нибудь из мебели для нашей гостиной?
— Зачем это? — осторожно спросил Д. Д. — У каждого из нас есть кровать, письменный стол и стул. Разве нам еще что-то надо?
— Вообще-то неплохо было бы приобрести диванчик, — предложил Джейсон, — сам знаешь: расслабиться, поваляться с книжкой, когда не надо на лекции ходить. А еще нам понадобится небольшой холодильник. Чтобы можно было по выходным предлагать гостям прохладительные напитки.
— Гостям? — переспросил Д. Д., разволновавшись. — Ты собираешься устраивать здесь вечеринки?
Терпение у Джейсона почти иссякло.
— Скажи мне, Дэвид, а ты случайно не просил, чтобы тебе в соседи дали необщительного монаха?
— Нет.
— Ну и я о том же. А теперь скажи, ты будешь участвовать в покупке подержанного диванчика или нет?
— Мне диванчик не нужен, — демонстративно заявил сосед.
— Ладно, — сказал Джейсон, — я сам заплачу. Но если увижу, что ты на нем сидишь, запрошу с тебя арендную плату.
После обеда Эндрю Элиот, Майк Уиглсворт и Дики Ньюол прочесали все крупные мебельные магазины в районе Гарвардской площади в поисках нужных вещей. В конце концов в одном из них они откопали лучшее из всего, что было, — мебель, обитую искусственной кожей. Потратив на эту покупку три часа жизни и 195 долларов, они стояли теперь рядом со своими сокровищами перед входом в крыло «Джи», которое находилось на первом этаже здания.
— Черт, — воскликнул Ньюол, — прямо в дрожь бросает, как подумаю, сколько куколок можно будет уломать на этом потрясающем диване. Они только взглянут на него, сами сразу же разденутся и — прыг! — уже там.
— В таком случае, Дики, — прервал Эндрю мечтания своего старинного дружка, — надо поскорей затащить его наверх. Не то вдруг какая-нибудь клиффи[11] будет идти мимо, пока мы тут торчим, и тебе придется демонстрировать свое умение на людях.
— Я могу, — бесстрашно парировал Ньюол и тут же добавил: — Ладно, давайте отнесем наше имущество наверх. Мы с Энди берем диван.
Затем, повернувшись к самому крупному участнику их трио, он крикнул:
— Ты управишься с этим креслом один, Уиглсворт?
— Запросто, — коротко ответил атлет-великан.
Он тут же поднял огромное кресло, водрузил его себе на голову, словно это был раздувшийся до невероятных размеров футбольный шлем, и пошел наверх по лестнице.
— Это наш могучий Майк, — сострил Ньюол. — Краса и гордость Гарварда, в ком будет вечно жить командный дух, и первый человек среди выпускников этого университета, кому в будущем выпадет честь исполнять роль Тарзана в художественных фильмах.
— Всего три лестничных пролета. Ну пожалуйста, ребята, — заклинал Дэнни Росси.
— Эй, послушай, паренек, мы договаривались, что только доставим эту штуковину. Ты не предупреждал о ступенях. Мы поднимаем рояли только на лифте.
— Да ладно вам, ребята, — упорствовал Дэнни. — Вы же знаете, в гарвардских общежитиях нет никаких лифтов. Ну что вам стоит поднять инструмент на три пролета и вкатить в мою комнату?
— Еще двадцать баксов, — ответил один из грузчиков, крепкий малый.
— Но как же так, я за этот чертов рояль заплатил тридцать пять!
— Решайся, малыш. Или хочешь стать «поющим под дождем»?
— У меня нет двадцати баксов, — простонал Дэнни.
— Нюни утри, студент, — рявкнул тот из грузчиков, который был поразговорчивей.
И легким шагом они удалились.
Дэнни посидел несколько минут на ступенях Холворти-холла, обдумывая затруднительное положение, в котором оказался. А потом его осенило.
Он поставил перед инструментом шаткую табуретку, поднял крышку дряхлого рояля и начал наигрывать популярные мелодии — сначала робко, затем все уверенней, — чтобы вдохнуть жизнь в стертые клавиши.
Погода стояла теплая, почти все окна в Гарвардском дворе были распахнуты — неудивительно, что почти сразу вокруг него собралось довольно много людей. Несколько наиболее энергичных первокурсников даже принялись танцевать, чтобы заодно поддержать форму перед предстоящими победами в Рэдклиффе, а также и на других площадках танцевальных сражений.
Он был великолепен. А его сокурсники были по-настоящему взволнованы тем, что среди них обнаружился такой талантливый музыкант. («Этот парень — второй Питер Ниро»[12], — заметил кто-то из них.) Наконец Дэнни закончил играть — вернее, это он думал, что закончил, но не тут-то было. Все хлопали ему и кричали, чтобы сыграл еще. Он стал принимать заявки на исполнение различных произведений: от «Танца с саблями» до «Трех монеток в фонтане».
В конце концов на месте происшествия случайно оказался один из университетских полицейских. Именно на это Дэнни больше всего и рассчитывал.
— Эй, ты, — грозно рыкнул полицейский, — играть на пианино у Гарвардского двора запрещено. Двигай отсюда в общагу вместе со своим инструментом.
Толпа неодобрительно зашумела.
— Послушайте, — обратился Дэнни Росси к своей благодарной аудитории. — Почему бы нам всем вместе не поднять рояль по лестнице в мою комнату? А там я смогу играть хоть всю ночь.
Раздались крики согласия, и с полдюжины самых крепких парней из присутствующих с радостной готовностью подхватили инструмент Дэнни и понесли наверх.
— Погодите минуту, — предупредил коп. — Помните: никакой музыки после десяти вечера. Таковы правила.
Снова послышались свист, ропот, улюлюканье, тогда Дэнни Росси вежливо ответил:
— Да, господин полицейский. Обещаю, я буду играть только до обеда.
Хотя Тед Ламброс и не удостоился привилегии переехать в общежитие из каморки, в которой провел все свои школьные годы, он тем не менее большую часть этого дня тоже провел в заботах, приобретая в «Курятнике» очень важные предметы.
Прежде всего он купил зеленый рюкзак для книг — вещь, совершенно незаменимую для серьезного студента Гарвардского университета. Рюкзак — это как практичный талисман: подходит для того, чтобы носить в нем инструменты, нужные в работе, и одновременно выдает в человеке настоящего ученого. Кроме того, он заплатил за большой прямоугольный флаг малинового цвета, на котором красовалась кичливая надпись буквами из белого сукна: «Гарвард, выпуск 1958 года». И пока другие первокурсники развешивали точно такие же вызывающие тряпки по стенам своих общежитий в Гарвардском дворе, Тед покрыл этим куском ткани письменный стол в своей крошечной комнатке.
Для полного счастья он обзавелся курительной трубкой солидного вида — когда-нибудь обязательно научится ею пользоваться.
По мере того как день клонился к вечеру, он все проверял и перепроверял свой тщательно подобранный гардероб из подержанных вещей, пока мысленно не объявил себе, что готов встретить завтрашний день, а с ним и все те испытания, которые ожидают его в Гарварде.
А потом атмосфера волшебства рассеялась, и он направился по Массачусетс-авеню в «Марафон», где снова напялил на себя все то же потрепанное барахло, чтобы подавать на стол кембриджским львам мясо молодого барашка.
Это был день стояния в очередях. Сначала утром, у стен Мемориал-холла, а потом, сразу после шести вечера, у входа в столовую «Фрешмен-Юнион», где сформировалась колонна из желающих поужинать, которая протянулась наружу, вниз по гранитным ступеням и дальше — чуть ли не до Куинси-стрит. Естественно, все первокурсники были в пиджаках и при галстуках, хотя различных расцветок и неодинаковых по качеству — в зависимости от вкусов и возможностей тех, кто их носил. Университетские правила подробно разъясняли, что студенту Гарварда пристало принимать пищу только в приличной одежде.
Однако этих разодетых по всем правилам джентльменов ожидал неприятный сюрприз: в столовой не оказалось тарелок.
Еду здесь накладывали в пластмассовые, почти как для собак, миски желтовато-коричневого цвета, зачем-то разделенные на неравные части. Единственно целесообразным отделением в этом хитроумном приспособлении была круглая дырка в самом центре — туда можно было поставить стакан с молоком.
При всей оригинальности конструкции емкость не могла скрыть того прискорбного факта, что еда для первокурсников оказалась совершенно никудышной.
Что это за мелко нарезанные кусочки бурого цвета шлепком наваливали им в миски на первой раздаче? Крикливые буфетчицы утверждали, будто это мясо. Большинство же считали, что по виду это скорее похоже на струганые подметки, а по вкусу так оно и есть — никто даже не сомневался. Всем полагалась добавка, но вряд ли это кого утешало. Кому охота дополнительно мучиться, жуя то, что не жуется?
Единственным и настоящим спасением стало мороженое. Это лакомство было представлено здесь в огромном количестве сортов. А для восемнадцатилетних юношей такое обстоятельство затмевало любые кулинарные неудачи. Тем более если мороженого много.