Дело, которому ты служишь Герман Юрий
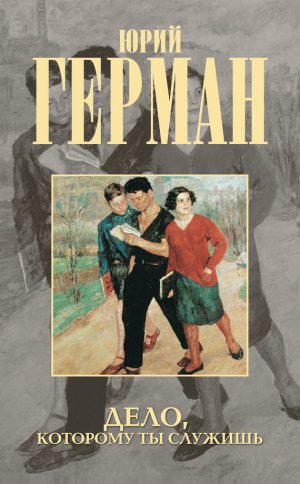
— Вот видите, «но» сразу. А ведь вы решительно ничего не сделали, чтобы к вам валом пошли больные. Тут, коллега, надо стать общественником, бойцом, солдатом, а не неким божьим избранником, который сидит у моря и ждет погоды. Вот, например, в Монгуше от больных отбоя нет, несмотря на засилье лам и шаманов; в Бадане мы строим второй корпус больницы, там Мельников сразу понял огромное политическое значение своей работы, а не только это, как мы любим выражаться, «гуманное», «гуманизм»… Здесь не только доброе дело нужно делать, тут, Владимир Афанасьевич, нужно заставить народ поверить врачу, а это великое, огромное дело…
Он помолчал, отхлебнув чаю, закурил папироску.
— В свое время в этой стране достаточно покуролесили международные подлецы, именуя себя врачами. Вам это известно?
— Немного известно.
— Всякого рода негоцианты, купчики, скупщики, проходимцы — все эти разбойники с большой дороги пронюхали своим проклятым нюхом, что здешние оленеводы, скотоводы, рыбаки, землепашцы и иные труженики почему-то поверили в пользу оспопрививания, то ли эпидемии выкашивали народ вчистую — не объяснить нынче, но поверили. Так вот, международные эти проходимцы возьми этим и воспользуйся, запаслись детритом и за каждую прививку брали «божескую цену» — всего только по овце. Прививали приказчики, а то мальчонки, и никому, конечно, не было интересно — свежий ли детрит, а уж каков он доходит сюда из больших городов Европы — сами представляете. Естественнейшим манером при этаком размахе коммерции даже бесполезного этого детрита на всех не хватало. Разводили его глицерином, а то и просто для прививок глицерин употребляли. За день работы, за баночку-скляночку глицерину получал мистер, месье, вообще один из них — отару овец, голов сотен три. Ну, а самое интересное состоит в том, что инструмент, которым делалась насечка, никогда не дезинфицировался, представляете себе, никогда. Следовательно, путем обманного оспопрививания разносился сифилис в размерах, которые и учесть невозможно.
— Да правда ли это? — болезненно морщась, спросил Устименко.
— То-то, что правда. Ведь для скотины-колонизатора важен только его бог — католический, протестантский, буддийский, его бог Макарка, именуемый в дальнейшем Чистоган. А здешний житель ему, колонизатору, — инородец, дикарь, туземец, созданный к его, колонизатора, обогащению. И мы с вами, Владимир Афанасьевич, как это ни странно, сейчас расхлебываем преступления, сотворенные странствующими рыцарями Чистогана, мы должны принудить здешний народ увидеть в нас то, что мы есть на самом деле. Наша и ваша задача, разумеется, трудна, но почетна. Советский — и порядочный, советский — и добрый, советский — и участливый, советский — и справедливый, советский — и бескорыстный — все это через посредство нашего труда здесь должно стать синонимами, понимаете вы меня, Владимир Афанасьевич?
Никогда, пожалуй, Володя не видел Богословского таким взволнованным и таким удивительно славно раздраженным. И опять, как в Черном Яре, Володя весь преисполнился зависти к Николаю Евгеньевичу, к его внутренней, духовной, нравственной сущности, к тому, как широко и вместе с тем точно умел Богословский думать, к тому, как он жил — во имя дела, для дела, ради дела, и нисколько при этом не жертвенно, а как-то радостно, весело, целиком отдавая себя своему труду. Вот почти не оперирует такой замечательный хирург Почему? Потому что занят более нужной работой, самонужнейшей, и необходимость этой работы, ее важность для общества и есть та награда, которая возмещает ему потерянную на время любимую хирургию.
Они еще не допили чай, когда вернулся веселый, с лукавым взглядом Тод-Жин. Сбросил заиндевевшую доху, сел против окна, так что солнечные лучи били прямо ему в лицо, и задумался с чашкой в руке.
«Вот в чем дело! — вдруг поразился Володя. — У него же глаза орла — он смотрит на солнце».
— Ну? — спросил Богословский.
— Сейчас пойдем, сейчас! — сказал Тод-Жин. — И Мады-Данзы пусть идет. — Он усмехнулся. — Многие боятся, что здесь их лишат возраста — так они называют смерть, и ламы шепчут им об этом, и шаманы шепчут, но мы должны показать, что здесь их не только не лишат возраста, но и вылечат, да, а, так? И пусть, товарищ, — он повернулся к Володе, — начнет делать свое дело…
Тод-Жин вновь задумался, глядя на белое, холодное, сверкающее солнце. В это утро Володя не колол дрова, не делал гимнастику, не читал, не сидел в своем приемном покое. В это холодное, ветреное утро он, незваный, пошел в Кхару принуждать лечиться больных людей. По скрипящему снегу с ним вместе шли Богословский, Тод-Жин и еще трое здешних знакомых Тод-Жина. Колючий, холодный ветер бил в лицо Володе, завывал в юртах, в которые они заходили, стлал по утоптанному полу юрт едкий, коптящий дым негреющих костров. Блеяли в загонах возле изб и вросших в снежные сугробы лачуг продрогшие козы, овцы, бараны. Скрывались в поземке, подальше от глаз Тод-Жина, Володины мучители — ламы и шаманы. Хрипели голодные, злые псы. Сверкнули где-то, уже в сумерках, волчьими огнями глаза Маркелова. Он шагал в огромной дохе, опирался на дубину, с докторами и с Тод-Жииом поздоровался приветливо, прорычал простуженным голосом: почему-де не жалуют к нему в гости — гостевать. Тод-Жин остановился для вежливой, по обряду, беседы.
— Как поживаете и хорошо ли здоров ваш скот? — спросил он. Так полагалось здесь начинать разговор.
— Мой скот хорошо поживает, — ответил Маркелов. — А ваш скот здоров ли?
— И мой скот здоров, да, так, — сказал Тод-Жин. — Здоровы ли вы и ваши родные?
Когда обряд кончился, Тод-Жин, глядя своими глазами орла в волчьи, окаянные глаза Маркелова, произнес раздельно:
— Вы не будете иметь факторию, которая занята больницей. Она, извините, не ваша, вы, извините, вор, так, да, вы хотели ее украсть, не правда ли, да, но купчую вы не имеете.
— Мы — налоги, цивилизация, — зарычал было Маркелов, но Тод-Жин перебил его.
— Вот так все будет именно, — сказал он, — и вы получите бумагу как надо. Теперь я пожелаю вашему скоту хорошего зимовья и корму…
— И вашему, — поворачиваясь спиной, произнес Маркелов.
Володя, не выдержав, хихикнул, Тод-Жин строго на него взглянул.
С поклонами, все как полагается, они вошли в юрту. Здесь дым ел глаза, и здесь сначала поговорили про здоровье скота, потом про здоровье хозяев. Об этом спрашивать было уже совершенно незачем: хозяин стоял близко, электрические фонарики горели ярко, чудовищная сифилитическая язва разъедала нижнюю губу и подбородок невысокого, широкоплечего, видимо очень сильного человека.
— Бытовой, так, да? — спросил Тод-Жин.
— Надо думать! — ответил Богословский.
Тод-Жин заговорил с хозяином юрты на своем языке. Жена хозяина стала медленно оседать на пол, покрытый кошмами, заламывать руки, выть. Тод-Жин ничего этого не замечал. Хозяин смотрел на него внимательно, жена подползла к Володе, прижала его руку к своему лицу, завыла громче. Тод-Жин все говорил, не останавливаясь, порою кивая в сторону Устименко и Богословского.
— Кол-Зал и она идут в больницу, товарищ, — сказал Тод-Жин Володе. — Ты их вылечишь, да?
Володя кивнул: с этой формой болезни он умел бороться.
— Когда?
— Скоро.
— Когда скоро?
— Два месяца — это со страховкой.
— И язвы не будет?
— Язвы не будет. Но потом еще долго придется лечиться.
— Если язвы не будет, он станет твоим лучшим агитатором, товарищ, да.
И Тод-Жин опять заговорил с хозяином. Жена больше не выла, она слушала. Данзы тихо переводил Устименке, что речь идет о том, кто будет смотреть за скотиной. Тод-Жин обещает договориться с соседями.
Хозяина другой юрты знал Мады-Данзы. Этого пожилого человека с запавшими глазами и серым от страданий лицом звали Саин-Белек. Он уже давно не мог двигаться и совершенно разорился, лечась у ламы Уя — самого дорогого здешнего лекаря. И шаманы его тоже лечили, но так, чтобы не знал обидчивый лама. По словам Саин-Белека, его лечили очень хорошо, особенно Уя. Саин-Белек ежедневно пил освященную медвежью желчь и делал примочки из отвара муравьев. Если бы не искусство мудрейшего Уя, он бы, конечно, давно «лишился возраста».
Тод-Жин зажег свой сильный электрический фонарик, Богословский сел на топчан, ловкие руки его мгновенно нашли то, что лама называл «посланным аза», то есть «посланным чертом», и скоплением злой пены.
— Паховая грыжа, — сказал Николай Евгеньевич своим мужицким, деловым говорком. — Надо оперировать.
— Он не умрет? — спросил Тод-Жин.
— Надеюсь, что нет.
Саин-Белека под завывание его семьи на носилках понесли в больницу. Данзы побежал вперед готовить ванну, а также затем, чтобы предупредить «мадам повар», которая могла испугаться, увидев, что больница становится больницей. Впрочем, и сам Данзы несколько робел надвигающихся происшествий. Топить печи — не лечить людей, а тут еще слово «операция».
Глаза у Тод-Жина были совершенно непроницаемы, когда он приказывал тому или иному человеку идти к товарищу доктору. Но ему повиновались. С ним нельзя было спорить. Он не слушал никаких возражений. И смотрел прямо в глаза, прямо и строго.
Еще в одной юрте они нашли порядочно напуганного деда, который почти ничего не слышал. Богословский лукаво усмехнулся и сказал, что завтра-послезавтра вернет деду Абатаю слух. Володя сразу догадался, в чем дело, но промолчал. Ему было весело, именно весело, как бывало в детстве. Конечно, то, что они вытворяли сегодня — Богословский, и он, и даже Тод-Жин, — было, в общем, не очень-то солидно, но это было начало, великолепное начало, за успех нельзя было не поручиться. Дед влез в доху и сам пошел в больницу. Тод-Жин с усмешкой пояснил, что невестка не дает Абатаю возможности полечиться у самого захудалого шамана, а тут обещают, что через день-два все будет в порядке.
ВОТ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, КАК НАДО РАБОТАТЬ
Вечером в больнице Володя сделал свой первый обход. Больные лежали на койках, вымытые в ванне, сердитые и испуганные. «Мадам повар» поставила всем в блюдечках сладкого сгущенного молока, но никто ничего не ел. Оказалось, что хитрый лама Уя перебежал-таки дорогу деду Абатаю и прокричал ему в ухо, что он достоверно знает — в больнице всех сегодня же отравят страшным ядом «мгну».
— А зачем? — удивился дед Абатай.
— Им нужно свежее человеческое мясо! — не сморгнув, заорал лама. — Они лечат свои раны, прикладывая к ним хорошее человеческое мясо. И они также вялят человеческое мясо.
Дед Абатай подался было назад к юрте, но, как назло, встретил Тод-Жина с врачами. Конечно, по дружбе старик поделился со всеми больными «мудростью», услышанной им от ламы, и теперь всем было не по себе.
Но, с другой стороны, после ужина все лежачие увидели свершившееся чудо. Кто в Кхаре не знал старую, добрую, толстую Опай! И кто не знал, что она вот-вот «лишится возраста», так как ей нечем было дышать. Она становилась синей, царапала пальцами землю, глаза у нее вылезали, и лама Уя ее обходил стороной, потому что забрал у старухи четырех коней и ничем ей не помог. А теперь ей сразу помогли. Ее только укололи, и все сейчас же прошло. Она было совсем «лишилась возраста» в коридоре, но к ней подошел молодой доктор со стеклянной штучкой, из которой торчала иголка, уколол добрую Опай, она на всякий случай завизжала, а потом начала улыбаться. Она улыбалась все шире, до самых ушей, а наулыбавшись и надышавшись, стала говорить речь. Ни Богословский, ни Володя не понимали, о чем говорит старуха Опай, но ясно было только одно — сейчас здесь, в больнице, начнется другая, совсем другая жизнь.
— Все-таки это немножко отдает шарлатанством! — сказал Володя Богословскому. — Ну — бронхиальная астма, ну — адреналин, так ведь…
— Помолчите, — сказал Богословский.
Что-то происходило интересное. Непрестанно болтая, старуха поднялась и схватила блюдечко со сгущенным молоком у деда Абатая. У нее теперь было очень сердитое лицо. В мужской палате все смотрели на нее со страхом. Потом старуха Опай вылизала блюдечко и, победно сверкая глазами, ушла из больницы. А деду Абатаю «мадам повар» принесла другое блюдце, полное до краев, потому что он едва не плакал, когда Тод-Жин стал стыдить его за сплетню насчет яда и человеческого мяса.
— Завтра мы сделаем несколько маленьких чудес, — уютно посмеиваясь, сказал Богословский, — а там, попозже, вам, придется, дорогой Владимир Афанасьевич, поработать без чудес. Но работа у вас будет — за это я вам ручаюсь…
Тод-Жин стоял у черного промороженного окна в коридоре и курил свои сигареты. Внезапно он повернулся к Богословскому и сказал жестким, напряженным гортанным голосом:
— Я хочу поблагодарить тебя, товарищ, да, поблагодарить за радость, за то, что ты рад. Это не я благодарю тебя, это благодарит наш народ, да, благодарит, хотя еще не понимает, но поймет. И тебя, товарищ, — он повернулся к Володе, и Володя с изумлением, счастьем и любовью увидел, что в глазах орла кипят слезы, — и тебя за то, что ты понимаешь, и еще сделаешь, и будешь…
Он повернулся и ушел куда-то далеко, в самый конец коридора, а Володя и Богословский еще долго сидели молча.
— Ну ладно, — сказал наконец Богословский, — утро вечера мудренее. Прикажите вашему Санчо Пансе заняться стерилизацией к завтрему. Пораньше оперировать начнем.
— Кого первым?
— Да что ж… сделаем, пожалуй, грыжу.
— А если до начала операционного дня я начну промывать серные пробки деду Абатаю, как вы считаете, Николай Евгеньевич? Слышать он станет сразу лучше, настроение еще поднимется в палатах?
Богословский усмехнулся:
— Что ж, попробуйте!
В семь часов утра Володя вызвал Абатая в приемный покой. Николай Евгеньевич еще спал. Посеревший от работы Данзы (он всю ночь возился с биксами — стерилизовал) стоял торжественно в белом халате, в шапочке — ни дать ни взять тоже доктор. На столике голубым пламенем горели спиртовки. А на Володю старик даже и смотреть поначалу не смел — так величествен был этот русский: и халат, и шапочка, а на лбу — круглое, сверкающее, невероятной красоты зеркало, приделанное к голове, наверное в честь старого Абатая. Вот взглянула бы невестка, как бы она теперь зауважала старика.
— Как себя чувствует ваш скот? — вежливо начал беседу Абатай.
Данзы перевел, что скот русского доктора чувствует себя отлично. А как чувствует себя скот дедушки Абатая?
Тут Абатай замялся. Сказать, что его скот тоже хорошо себя чувствует, было опасно — вдруг русский схитрит и потребует плату, как шаман или лама. А чем платить? Сказать же громко, что никакого скота у него не было, старик считал для себя унизительным. Поэтому он только вежливо покашлял. Не поймаете! Никто теперь не сможет утверждать, что у деда Абатая есть скот.
— Ну, хорошо! — сказал Володя. — Приступим!
Дед сел на табуретку, шею ему повязали полотенцем. Великий русский доктор ловко, щипцами, вынул из сверкающей кастрюльки чудодейственный стержень, и очень скоро в ухе у деда Абатая стало тепло и славно, так славно, что старик даже зажмурился. Потом и в другом ухе тоже стало тепло. А спиртовки все горели, и это было похоже на жертвенный огонь, только гораздо красивее, и Самоглавнейший Советский Шаман все сверкал своим зеркалом, наверное отгоняя им от деда злых духов: чертей «аза» и «кай-бын-ку».
Одно только мучило деда, что никто не видит, как его ошаманивает русский доктор. Никакой лама так не умеет, никакой шаман! Если бы еще русский хоть немножко поскакал и побил в бубен, тогда, может быть, другие больные проснулись бы и пришли.
— А в бубен бить? — спросил дед у Данзы.
— Молчи, дед, молчи, — строго ответил Данзы.
— Немножко бы хоть ударили, — плаксиво попросил дед. — Чуть-чуть. Я белку подстрелю, принесу.
— Не мешай доктору, дед!
— И соболя принесу.
— Говорю, не болтай!
И вдруг дед понял, что слышит гораздо лучше, чем раньше. Данзы ведь не кричал, он только говорил, и негромко говорил, а дед слышал все его слова.
— Ой! — воскликнул дед. — Я слышу! Ой!
Володя осторожно и методично что-то делал в другом ухе. А когда он вынул вату, дед стал слышать еще лучше.
Мады-Данзы важно перевел:
— Завтра, когда товарищ русский доктор и я еще полечим тебя, ты начнешь слышать так хорошо, как здоровый ребенок. Иди, дед. Отдыхай!
Володя снял с головы свое прекрасное зеркало, и дед совсем загордился: значит, действительно зеркало надевалось только для него. А Данзы погасил спиртовки: значит, и спиртовки горели для Абатая. Ну и ну! Нет, конечно, такое удивительное лечение не могло обойтись даром, и дед предупредил:
— Но ведь я бедный человек!
— Это нас не интересует! — сказал важный Данзы.
— Я ничем не могу отблагодарить!
— Ты можешь поклониться доктору, большего от тебя не требуется.
Абатай, кряхтя, поклонился. Потом все замелькало перед ним — уж кланяться так кланяться, с него не убудет. И он кланялся до тех пор, пока Володя не схватил его за плечо и не закричал, что он этого не потерпит. Старик вздохнул, глядя на Володино красное, сердитое лицо. Наверное, все-таки требует коня, или олешек, или овец. И наверное, сейчас выгонит вон из больницы. Но никто деда никуда не выгонял. Наоборот, он принялся за завтрак — за прекрасную кашу, за лепешки с чем-то липким и сладким, за чай с молоком. А проснувшиеся соседи расспрашивали его нарочно тихими голосами, и он, не торопясь, важно отвечал. Пусть помучаются, не все сразу, понемножечку…
В девять Николай Евгеньевич начал мыть руки. И на нем, и на Устименке, и на Данзы были надеты теперь придуманные Володей и сшитые «мадам повар» длинные пиджаки из клеенки, поверх которых натягивались сырые халаты. При Володином способе стерилизации халаты и все прочее необходимое для операции получалось сырым.
— Оперировать будете вы, — сказал Богословский. — Я нынче и ассистент, и операционная сестра.
Саин-Белек лежал на операционном столе испуганный, словно заяц, поводил носом, ворчал и жаловался Мады-Данзы:
— А почему доктор не привинтил к своей голове круглое зеркало? А почему для меня зеленые огни не зажгли? Разве я хуже деда Абатая? Дед Абатай — нищий, только-только не с сумой побирается, а я, если захочу, и баранов могу подарить этим докторам. Пусть привинчивают зеркала, скажи!
Грыжа была двусторонняя, громадная и, конечно, невправимая. Володя стоял раздумывая. Богословский делал местную анестезию.
— Ну как? — спросил он.
— По Спасокукоцкому.
— Это разумеется, — улыбнулся Богословский. — Нет бога, кроме бога, и Магомет — пророк его.
— А что, — с вызовом ответил Володя. — Для меня Спасокукоцкий — истинное чудо и как клиницист, и как хирург, и как просто практический врач.
Он взял из руки Богословского скальпель и сделал разрез на палец выше паховой складки. Обнажился апоневроз наружной, косой мышцы живота. Мады-Данзы слабо охнул, увидев кровь, и стал пятиться к двери.
— Вернитесь на свое место! — велел ему Богословский. — Слышите, вы?
Володя рассек подкожную клетчатку и фасции Купера. Николай Евгеньевич ассистировал молча, не руководя и только пристально всматриваясь. Кровь он убирал быстро и необыкновенно ловко. Саин-Белек иногда стонал, порой пускался в рассуждения, но тотчас же забывал, о чем вел речь.
— До сих пор помню фразу из учебника, — сказал Николай Евгеньевич: — «Накладывают на срединный лоскут апоневроза, как борт сюртука на другой борт, и пришивают к нему».
— И пришивают к нему, — повторил Володя, осторожно натягивая лигатуру. Он чувствовал, что операция сделана хорошо, и испытывал состояние радостного возбуждения.
Но тем более следовало вести себя «в рамочках», как говорила Варя. При таком хирурге, как Богословский, смешно было чувствовать себя мастером своего дела.
— Молодцом справляетесь! — похвалил его все-таки Николай Евгеньевич.
— При вас-то не страшно! — искренне ответил Володя, когда они оба мыли руки перед следующей операцией.
— Страшно, не страшно, — проворчал Богословский и взял корнцанг.
Оперировали женщину, еще не старую, по имени Кук-Боста; она уже давно не могла ходить, живот ее страшно раздулся, лама Уя назначил ей «лишиться возраста» очень скоро. Богословский предположил гигантскую кисту. Володя рассек брюшину до лонного сочленения и толстым троакаром пунктировал переднюю стенку кисты. Тотчас же в подставленное эмалированное ведро пошла жидкость — литр за литром. Но, несмотря на все предосторожности, Кук-Боста едва не погибла от шока. Покуда Богословский делал все, что полагается делать в таких случаях, проклятый Мады-Данзы выскользнул из операционной и рассказал всем, что Кук-Боста «лишилась возраста».
Володя между тем вывел кисту в рану брюшной стенки и удалил ее. Богословский подал иглу, Устименко зашил рану кетгутом. Кук-Боста теперь дышала ровно, глубоко и покойно.
— Молодцом! — сказал Николай Евгеньевич.
— Ваши ученики! — ответил Володя.
Вдвоем они перенесли Кук-Босту в палату и положили ее на кровать. И санитарами им приходилось быть в эти дни труда и побед.
Больные тараторили в коридоре: Мады-Данзы наврал, вот какая хорошая лежит Кук-Боста, дышит, живот больше не торчит; нет, великие советские доктора и ее не «лишили возраста».
Размывшись (на этот день они все кончили — так им казалось), Богословский закурил тоненькую папироску. Володя стоял рядом, думал.
— Один неглупый доктор утверждает, — сказал Богословский, — что женщины куда храбрее мужчин. Разумеется, мужчины храбры на поле боя, но ведь там не всякая пуля бьет в лоб, иная и в куст. А в операционной непременно ждет нож, от него никуда не денешься.
Сзади, неся на подносе чай, подошел Данзы.
— Вот тоже еще храбрец, — усмехнулся Богословский. — Это человек, на которого вполне можно положиться, не так ли, Владимир Афанасьевич?
Данзы улыбнулся, поклонился.
— Еще одна такая история, и вам придется выгнать вашего помощника в толчки, Владимир Афанасьевич, — серьезно, громко и раздельно сказал Богословский. — Смотреть противно — здоровый мужчина, а трус. И еще панику разводит в больнице. Безобразие. Убежал из операционной и разболтал, что Кук-Боста умерла.
— Она тогда умерла! — довольно справедливо возразил Мады-Данзы.
— А теперь жива! — чмокая погасшей папироской, сказал Николай Евгеньевич. — Короче, чтобы этого больше не было.
Он еще не накурился, когда Тод-Жин с виноватым лицом доставил еще двух больных: молодую вдову Туш с аппендицитом на шестом месяце беременности и еще женщину с маститом. Туш была в очень тяжелом состоянии, и Богословский, покосившись на Устименко, приступил к операции сам. Туш бредила. Она была совсем еще юной — эта шестнадцатилетняя вдова; здесь борьба шла сразу за две жизни, и борьба тяжкая: отросток был замурован плотными спайками, а когда Богословский его нашел, то оказалось, что аппендикс перфорирован. Николай Евгеньевич даже головой покачал и вздохнул. Надо было ждать выкидыша, к тому были все показатели, да и сопротивляемость организма Туш была такова, что едва ли эта девочка-мама могла справиться с перитонитом.
Женщину с маститом Руду и еще больного Кун-Чен-Додзиба, замученного зобом, оставили на завтра. Размываясь, Богословский сказал:
— Потеряем мы эту Туш? А? Жалко, черт дери, а что делать?
Туш положили в отдельную палату. Пока возле нее дежурил Данзы, на ночь дежурства распределили Богословский и Володя. Когда они с Тод-Жином обедали, в Володину комнату просунулся дед Абатай и заговорил, глядя на Тод-Жина. Взамен платы за лечение старик предлагал себя больнице в качестве истопника. Мады-Данзы — теперь большой человек, тоже доктор (Тод-Жин едва заметно улыбнулся), он все время занят, а печки нужно топить? Нужно. Подметать метлой нужно? Конечно, пока что дед Абатай еще не подметал, но этому искусству при его сметливости, уме и ловких руках он уж как-нибудь научится. И в кухне он мог бы тоже помогать, такого работника во всей Кхаре не сыщешь, — говорил про себя скромный дед, — он ведь знаете какой умный? Это ничего, что он не слишком молодой. Он зато знает много великолепных сказок, которые он может рассказывать больным. Например, про умную птицу Шишкиш, как она обманула лису, или про старика Течикея, как он достал кошелек величиной с верблюжью шею, или про хитрого и подлого медведя, который…
— Хорошо, — сказал Тод-Жин, — я посоветуюсь с доктором, товарищем. Подожди.
Володя слушал Тод-Жина молча, потом ответил:
— Как вы считаете, так и сделаем. Но мне ведь еще люди понадобятся.
Тон-Жин повернулся к старику.
— Я остаюсь? — спросил Абатай.
— Ты остаешься.
— Кем я буду?
— Ты будешь большим человеком! — торжественно сказал Тод-Жин. — У тебя будет много трудных и почетных обязанностей.
— Я буду чиновником? — спросил Абатай, который с нынешнего дня привык ничему совершенно не удивляться.
— Нет, дедушка, ты будешь дворником.
— Но это, я надеюсь, не менее почетно.
— О нет, — без улыбки ответил Тод-Жин. — Это гораздо более почетно, чем быть чиновником!
Абатай ушел, пожелав здоровья скоту и семьям тех, кто так добр к нему. В палате он лег на койку, погладил обеими ладонями свой впалый живот и рассказал, что скоро он, дед Абатай, будет таким толстым, что все не найдут слов для выражения удивления и восторга. Дело в том, пояснил Абатай, что русские и сам Тод-Жин умолили его остаться служить при больнице. И должность у него будет потруднее, чем у любого чиновника.
— Ври побольше! — сказал со стоном Саин-Белек. — Кому нужны нищие, побирушки? Если уж брать чиновником, то меня!
К полуночи Туш выкинула ребенка — мертворожденного. Володя разбудил Николая Евгеньевича. Началась битва за жизнь самой Туш. «Во всем мире она одна, — сказал про нее Тод-Жин, — хорошо, если бы удалось не «лишить ее возраста». Всего шестнадцать лет…»
Но у нее не было сил даже страдать.
И все-таки юная женщина Туш выжила. Это была тяжелая, неслыханно тяжелая для Володи ночь, и день тоже был потом очень трудный — с двумя тяжелейшими операциями, и еще ночь миновала, в общем, без настоящего сна. Так — урывками. Только на рассвете, на морозном рассвете, после второй ночи юной женщине Туш стало легче. Физиологический раствор, раствор глюкозы, внутривенные, капельные вливания втащили ее обратно из-за того порога, куда она уже ушла. И грелки, с которыми Володя бегал эти ночи от «мадам повар» в маленькую третью палату, и то, как они вдвоем с Богословским приподнимали совершенно невесомую, словно перышко, Туш, чтобы она полусидела, и зонд — все вместе спасло Туш. Еще через день она даже смогла поплакать по своему похороненному первенцу, а потом попила молока и уснула. Володя стоял над ней и смотрел, как она дышит. И рядом с ним — плечо к плечу — стоял Тод-Жин и тоже смотрел. Смотрел своими бесстрашными, жесткими, неподвижными, не боящимися солнца глазами орла.
— Она будет работать у тебя в больнице, товарищ, да, так, — сказал Тод-Жин. — Она умная и легконогая девушка, да. Я знал ее мужа, хороший муж, он умер потому, что здесь не было тебя, товарищ. Его повезли на коне далеко, и он умер, а когда вскрыли тело, то оказалось, что его совсем просто было вылечить. Он был членом нашей партии здесь — первым, да, так.
Когда Туш проснулась, Тод-Жин один сидел на табуретке возле ее кровати. Она взглянула на него с удивлением. Он заговорил негромко:
— Здесь, в больнице, тебе сохранили возраст, Туш. Ты теперь одна, Туш. Но если ты останешься тут, ты не будешь одна. Человек должен совершать хорошие поступки. Ты будешь их совершать тут. Потом, со временем, если ты будешь достойна этой великой чести, мы направим тебя в город городов, в Москву, учиться. Ты еще совсем молода, ты можешь успеть выучиться на доктора, на человека, который дарит людям возраст. Твой муж надеялся вместе с тобой уехать учиться. Ты должна выполнить его желание.
— Да, — сказала Туш.
— Ты все поняла?
— Да.
— А почему ты плачешь?
— Я плачу потому, Тод-Жин, что умерли и мой муж, и мой первенец.
— Не плачь, Туш. Они умерли потому, что мы живем еще дикой и глухой жизнью. У тебя был аппендицит. Он начался не сейчас, а раньше. Еще когда я был у вас в прошлую зиму. Если бы у нас тогда был доктор, ты сохранила бы своего первенца и своего мужа. Ты поняла меня?
— Да!
— Прощай, Туш.
— Прощай, Тод-Жин.
В этот день Богословский и Тод-Жин уехали. Пожимая Володину руку, Богословский сказал:
— До свидания, Владимир Афанасьевич. Я рад был вас видеть. Думаю, что мы еще встретимся. Во всяком случае, где бы я ни был, если не имеете возражений, стану тащить вас к себе…
Подумал и строго добавил:
— На вас можно положиться, так мне кажется.
Володя стоял багровый: видимо, он действительно ничего доктор, если Богословский говорит ему такие слова. А Тод-Жин попросил:
— Очень, совсем поверь Туш. Она будет тебе хорошо помогать, да. И старуха Опай — она может еще помогать. Многие могут помогать, если найти к ним путь. Да, так?
— Да! — сказал Володя.
Они уехали, и Устименко остался один на один со своей больницей и со своими больными. И еще со своей начинающейся славой.
Ну и страшно же ему было в этот вечер!
ОПЯТЬ ОДИН
Дед Абатай действительно теперь слышал, как в юности, и селение Кхара не могло надивиться на это маленькое чудо. Все глухие не только из Кхары, но из дальних стойбищ потянулись к Устименке. А когда он говорил, что не может вылечить того или иного из глухих, они не верили, предлагали отблагодарить оленем, овцой, лошадью, один древний старик-вдовец пообещал даже «совсем хорошего верблюда», — старик этот собрался жениться, а жениться глухому было как-то немного совестно. И дед Абатай, который невероятно уверовал в Володино медицинское могущество, советовал:
— Вы его мало просите. Надо хорошо просить, долго, плакать надо, кланяться до самой земли. Он великий шаман!
С глухими у Володи не ладилось. Зато Кук-Боста, из которой они с Богословским откачали три ведра жидкости, и добрая, толстая Опай, и легконогая Туш везде прославляли советского доктора Володю, русскую больницу и русских новых, не таких людей. Не такие — это значило: не Маркеловы. Маркелова здесь боялись и ненавидели; почему — Володя толком не знал.
Егора Фомича Володя встречал часто, когда ходил на вызовы в дальние юрты Кхары. Маркелов вглядывался в Володю внимательно, здоровался вежливо, потом долго провожал недобрыми цыганскими глазами. Однажды Володе показалось, что Маркелов хочет ему что-то сказать, и он остановился. Но Маркелов зашагал прочь, опираясь на свою тяжелую дубину, подволакивая ногу.
С тех пор как Устименко стали вызывать к больным, очень пошатнулись дела ламы Уя и шамана Огу. Хитрый лама даже покинул Кхару. А Огу остался и нарочно ходил по Кхаре во всем своем облачении, предназначенном для камланья: ему казалось, что так он выглядит внушительнее и страшнее. Но дед Абатай наврал, что слышал от достопочтеннейших русских докторов, как Огу нарочно наколдовал болезни многим людям и, в частности, Кук-Босте за то, что она недодала ему одного барана, и Огу стало совсем худо. Он теперь остался только злым колдуном, а не врачевателем, злые же колдуны вовсе не нужны людям, разве что навести на кого-либо порчу, но ведь на такие доходы и воробей не прокормится, не то что Огу, который и водку пил, и без мяса не умел обедать.
— Совсем плохо теперь стало проклятому Огу! — вздыхал дед Абатай.
Даже ребятишки кричали вслед шаману разные непристойности, когда он тащился между юртами, позванивая своим бубном, в высокой шапке, на которой жилами было вышито отвратительное человеческое лицо, со своим обвитым лентами шестом, на котором висели три мешочка: в первом — «небесный» камень, в другом — «земной», а в третьем — пища для этих «живых» камней.
— Отдай нашу овцу, собака! — кричал шаману один сорванец.
— Не смей ходить мимо нашей юрты! — пищал второй.
— Мы тебя не боимся! — кричал третий, но это была чистая неправда. Они все его боялись, да еще как!
Стоило шаману Огу обернуться своим остреньким лицом, да еще сделать страшную гримасу, да еще потрясти шестом с лентами, как все храбрецы с воем разбегались, а потом долго дрожали и произносили заклинания от дурного глаза проклятого колдуна: захочет — и заведется у тебя в животе три ведра воды, как у Кук-Босты, потом режь и откачивай, это, ого, как больно!
Работы у Володи было очень много, и теперь он не стыдился, слушая далекую Москву, — он делал свое дело, и, наверное, сносно. В общем, правильно, что сюда послали его. Пожалуй, справился бы и Пыч, и Огурцов, а насчет Светланы и Нюси — это вряд ли…
Однажды, послушав Москву, он настроился на Вену, чтобы послушать музыку, лег и закрыл глаза. Но тотчас же сел на койке — вместо музыки вдруг заговорил австрийский канцлер Шушниг, только что приехавший из гитлеровской резиденции — Берхтесгадена.
Слышно было на редкость отчетливо, и к полуночи Володя все понял: фашист Зейс-Инкварт объявил, что, сменив бывшего канцлера, он попросил Гитлера послать в Австрию войска. Вальсов больше не передавали, вместо Неоконченной симфонии Шуберта, которую Володя так часто слышал раньше, загремел военный оркестр, и наконец какие-то луженые глотки проревели нацистскую песню о Хорсте Весселе. Вот оно — начиналось то самое, о чем предупреждал отец, когда говорил о том, что войны «подзадержат науку вашу», то, о чем говорил и Родион Мефодиевич.
Володя еще повозился у приемника.
Все радиостанции передавали музыку. «Танцуют! — горько подумал Устименко. — И Париж танцует, и Лондон, и Рим… Эх, сейчас бы с теткой поговорить, хоть полчаса, хоть час…»
Он хотел было лечь спать, но постучала «мадам повар» — привезли с прииска обожженного мальчика.
Теперь часто выдавались совсем бессонные ночи.
С первыми теплыми ветрами исчез из Кхары шаман Огу. Люди говорили, что, перед тем как уйти в тайгу, он долго колдовал перед больницей, и люди боялись, что больница провалится «сквозь землю», или умрет доктор Володя, или случится большой пожар. Но время шло, и ничего не происходило.
Дурная язва Кол-Зала почти совсем зажила. Нынче, когда жители Кхары увидели вернувшегося в свою юрту Кол-Зала и поняли, что эту болезнь лечат, от больных не было отбоя. И других заболевших тоже было достаточно. Сейчас кровати стояли даже в коридоре, и в больших сенях, и в маленьком коридорчике, который вел в кухню, к «мадам повар». И два смертных случая никого не напугали, Володя не пожалел времени и объяснил больным, что эти двое бедняг слишком запустили свои недуги — тут уж никакая наука ничего не могла поделать.
— Надо приходить ко мне вовремя, — сказал он строго, — и тогда никто не «лишится возраста».
Но недаром говорят, что хирург умирает с каждым своим пациентом. И это испытал Володя, один вскрывая трупы погибших. Он не был виновен в этих смертях, но все ли он сделал, чтобы спасти молодого пастуха, доставленного с тягчайшим перитонитом, и пожилого охотника, которого задрал медведь. «Они оба умерли после операции — значит, вследствие операции». Впрочем, охотник одиннадцать дней пролежал в юрте, прежде чем родственники доставили его в больницу. И опять проклятая фраза: после — значит, вследствие.
Мертвых увезли, по обычаю, на лошадях в горы. Володя не мог смотреть в глаза родным. «Светланочка, Женечка Степанов! — вспомнил он институтских товарок и товарищей. — Мишенька Шервуд! Ординаторы, будущие научные светила, иждивенцы, объедалы, как-то вам поживается?» И, потягиваясь бессонной, мучительной ночью на узкой своей койке, мечтал: «Ничего, встретимся, я вам все скажу, скоты!»
«В общем», как любил выражаться Евгений Степанов, Володя невероятно уставал, уставал до того, что после рабочего дня не мог уснуть. Утром и вечером он принимал в амбулатории и не справлялся. Потом обходы, назначения, вызовы. Разве мог он не пойти, когда его звали к больному? И два раза в неделю операции. Операции без помощников, без хирургической сестры, без ассистентов. Ведь нельзя же было считать трусливого Данзы хотя бы подобием помощника? Ох, какое это было мучение, какая каторга, сколько сил стоили эти операции, каким фокусником сделался Володя, хоть в цирке выступай! И как научился он держаться, как не позволял разбалтываться собственным нервам, которые, оказывается, у него были.
«Ты надорвешься, мальчик мой родной! — писала ему Аглая. — Ты не выдержишь. Приезжай в отпуск, поедем на Черное море!»
Володя грустно улыбался. Разве могут они реально понять там, в Советском Союзе, здешние обстоятельства? Даже такие умные люди, как тетка и Родион Мефодиевич. На кого он оставит больницу? Оставить сейчас то, что с таким трудом создано, — это значит погубить дело, вновь посеять недоверие, вновь уйти с занятых позиций. Впрочем, Родион Мефодиевич понимал. «Твой отец был бы рад за тебя, — написал Володе Степанов, — можешь мне поверить. И если поразмыслить, то ты поднял эстафету Афанасия Петровича и действуешь так, как он действовал там, где мы с ним были. А все же побереги себя, тут Аглаюшка права».
Милую женщину по имени Туш Володя уже давно начал понемножку приучать к работе хирургической сестры. Это были трудные обязанности, но Туш так старалась, так горячо хотела научиться, так горько плакала, если Володя вдруг на нее покрикивал, так смотрела ему в глаза, желая угадать его мысли, с тем чтобы предупредить приказание, что со временем он перестал на нее сердиться, а только мягко говорил:
— Не следует, Туш, волноваться, и все пойдет отлично.
Туш была очень сообразительна, легко и быстро двигалась, ловкие, маленькие, смуглые руки ее радостно и толково выполняли то, что нужно было для больного, для операции, для дела, которому она только еще училась. Больные всегда звали Туш, без нее стало трудно обходиться, самую тяжелую, неприятную, грязную работу она начинала и кончала, словно это и не работа вовсе, а неожиданно выпавшее на ее долю счастье.
Володю Туш учила языку своего народа. И учила тоже с радостью, живо и весело, поблескивая темными, с золотыми ободочками зрачков глазами, чуть улыбаясь маленьким розовым ртом.
К весне Устименко хоть и с трудом, но уже понимал и охотников, и скотоводов, и землепашцев («поящие землю водой» — так назывались они здесь, потому что проводили арыки), и не только понимал, но и говорил немного, самое главное, то, без чего было трудно обходиться. И уже без улыбки на традиционное приветствие отвечал, что скот его здоров, и сам спрашивал то, что положено было вековой вежливостью. А Туш, скромно опустив глаза, поправляла его, когда он делал те или иные ошибки.
Мады-Данзы ненавидел Туш, но скрывал это, предполагая, что женщина просто-напросто нужна Володе, потому что она красивая и молодая женщина, а Володя красивый и молодой мужчина. Изредка он замечал, как Туш смотрит на Володю, каким обожанием светится ее взор, и замечал также, что Володя вдруг беспричинно краснел в присутствии Туш, и Данзы было странно, что Туш так долго не ложится в постель с доктором. Впрочем, это не слишком занимало его. Гораздо неприятнее было то, что Туш сделалась теперь главнее Данзы, и даже дед Абатай пробовал делать Мады-Данзы какие-то указания. Вообще они — Абатай и Туш — встряли между доктором и Данзы, мешая ему быть самым главным в Кхаре и самым нужным человеком для доктора.
Победить же их он не мог.
«Мадам повар» очень любила Туш, и дед Абатай тоже был на их стороне, один с троими Данзы никак не мог справиться и только терпел в ожидании того случая, когда из столицы приедет он и Данзы расскажет ему, что эти трое все. Так именно и скажет ему «большевистские»! Их троих выгонят. Что произойдет потом — Мады-Данзы не думал.
Вечерами, когда в больнице становилось потише, Володя горько и нежно подолгу думал о Варваре. Кровь горячо била в виски, горело лицо, хотелось позвать: «Варюха!» — вдруг откликнется, вдруг подойдет, спросит, как бывало: «Чего ты, Володя?»
Но никто не подходил. Устименко крепко сжимал зубы, подвигал к себе медицинскую книгу. Но образ Варвары не исчезал, с ним не так-то легко было справиться. Володя встряхивал головой, ругался, заставлял себя думать о Варе как можно хуже. Пусть делает что угодно! У него своя жизнь, у нее своя! Каждый шагает своим путем! Огни, цветы, вихрь вальса, поцелуи, а затем, разумеется, то, что Женька называет «физиологией». Пот проступал на Володином лбу, руки дрожали, делалось душно, он распахивал форточку, потом вновь садился к столу. Недешево ему обходилось заставлять себя вдумываться в прочитанное, но все-таки он читал, он обязан был читать.
Тод-Жин выписывал для всех своих докторов и книги, и журналы на разных языках, и это очень помогало Володе — ведь он не мог бывать в клиниках, не мог посещать конференции и научные заседания, он мог только читать. Работать, читать, размышлять.
И писать письма.






