Дело, которому ты служишь Герман Юрий
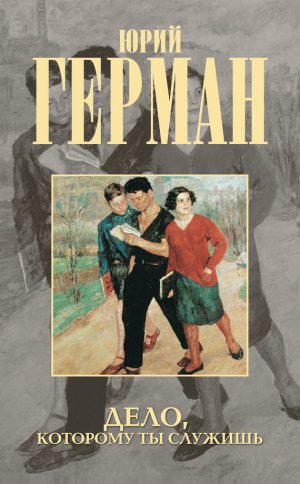
— …сим званием! — громко, дрогнувшими голосами произнесли все шестеро молодых врачей.
— «…я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое нынче вступаю…»
У Пыча, у Старика Пыча, у самого железного человека на курсе, вдруг что-то пискнуло в горле, он отер слезу и передал бумагу Огурцову. А тетя Сима, уборщица, известная в институте своей ненавистью к студентам, уже толкала их по ногам шваброй и сердилась:
— Уходи отсюда, сколько надо просить…
— Брысь! — бешеным голосом гаркнул Старик. Но настроение было уже сорвано, Гиппократову клятву читать никому не хотелось.
— Ладно, все! — сказал Пыч. — Будем считать инцидент испорченным. Вырасту большой, попомню захватывающую и трогательную картину нашего выпуска. Был бы Полунин жив, он бы им показал.
— В отношении трехпалого свиста, как выражался товарищ Маяковский? — спросил Огурцов.
— Еще шваброй по ногам бьет! — жалостно сказал Старик. — Я не хвост собачий, я врач с дипломом, хотите покажу?
На лестнице всем стало уже смешно.
В парк Володя пошел один. И не для того, чтобы попрощаться со зданиями клиник — он нисколько не был сентиментален, — а просто, чтобы посидеть немного и прийти в себя. Все-таки очень он устал за эти дни. Но едва он свернул в кленовую аллею, как напоролся на Ганичева. Пройти мимо было уже невозможно, а разговаривать очень не хотелось, тем более, что Володя отлично знал, о чем станет говорить патологоанатом.
— Получили диплом?
— Получил.
— Красиво все было?
— Как в сказке, — грустно сказал Володя.
— У нас в институте это умеют! — согласился Ганичев. — Наплевать в душу в лучший день жизни молодого человека — это они мастаки.
— А вы? — неожиданно сгрубил Володя.
— Что я?
— А вы почему там не были? Вас боятся и уважают. При вас бы никому не наплевали в душу. Почему же вы сидите здесь на лавочке?
— Послушайте, Устименко! — обозлился Ганичев. — Вы понимаете, что вы говорите? Я старый человек, я устал, там душно…
— Полунин с его больным сердцем там бы непременно был, — грубо прервал Ганичева Володя. — А насчет старости и усталости, извините, но мне это неприятно слушать, Федор Владимирович. Помните, как Полунин говорил, что величайший враг науки, прогресса, цивилизации и просто врачебного ремесла — вялость. А теперь вы, друг Полунина, проповедуете эту самую вялость. Ах, да что…
Он махнул рукой.
— Ладно, черт с вами, — виноватым, но обиженным голосом сказал Ганичев. — Молодежь — народ безжалостный.
— А вам жалость нужна? Не рано ли?
Теперь они глядели друг другу в глаза.
— Ваш пожарный старик Скрипнюк, о котором вы так трогательно мне рассказывали, — произнес Володя, — жалости, наверное, не просил. И не о том я, — с тоской и болью заговорил он, — поверьте, не обижайтесь, а о другом — почему так много людей судят, злятся, а сами сидят вот на лавочке, вместо того, чтобы бороться с тем, на что они злятся и что судят? Объясните мне.
Его печальные глаза внимательно вглядывались в ганичевские. И Федор Владимирович не выдержал, отвернулся…
— В конце концов, вы правы, — сказал он мягко, — не во всем, разумеется, но в некоторых частностях. Впрочем, я вас остановил не для того, чтобы узнать ваше мнение о моей особе. Мне нужен ответ: остаетесь вы у меня на кафедре или нет.
— Конечно, нет!
— Прекрасно! Ну, а если бы Полунин был жив, вы бы остались у него?
— И у него не остался бы, — подумав, ответил Устименко. — Лет через пять я бы, может быть, к нему приехал…
— Соизволили бы?
— Соизволил бы.
— Но почему?
— И вы, и он учили нас другому.
— Нас! — воскликнул Ганичев. — Вас в расширительном смысле, а не вас лично.
— Сергей Иванович Спасокукоцкий был в свое время земским врачом, — сердито отрывая слова, заговорил Володя, — и вы сами нам о нем рассказывали. И сами доказывали, что глубокие практические корни его научных устремлений произрастают и по нынешнее время с тех самых пор, когда он был земским врачом. Именно вы нам говорили о многогранности научных интересов Спасокукоцкого, о глубине проникновения в сущность проблемы — э, да что я вам ваши же слова повторяю…
— Наука, — нудным голосом заговорил Ганичев, но Володя не слушал его: он понимал, что Федор Владимирович хочет ему добра, но хочет и себе ученика. А он, Устименко, не хотел быть ничьим учеником, он хотел делать дело.
И, не слушая, он пережидал, пока выскажется Ганичев, наслаждался тишиной, тем, что нынче никуда не надо спешить, теплым, радужным, душистым светом солнечных пятен, радовался, глядя на смешного, плешивого воробья-забияку, боком наступающего на целую стайку своих собратьев.
— И это все для того, чтобы потом у вас выспрашивать тему для диссертации? — спросил Устименко, когда Ганичев кончил свою речь.
— Но вы же не станете выспрашивать? Вы сами отыщете!
— Зачем же мне отыскивать, Федор Владимирович, если у меня нет для этого никакой внутренней потребности. Спасокукоцкий для скелетного вытяжения сам смастерил скобы с барашками от коньков и спицами из струны рояля. Я не знаю — научная это деятельность или нет, но она продиктована живой потребностью дела, а не желанием иметь степень. Или мытье рук нашатырным спиртом, или желобоватые зажимы для желудка, или, в конце концов, вопросы переливания крови. И то, что под его руководством делается, идет от требований жизни клиники, а клиника у него всегда связана с молодостью, с земской больницей. Разве неправ я? Или возьмите Пирогова. Всем известно, что он жестко относился ко всяким вымученным диссертациям и к ученым-гомункулусам. А Руднев — очень легко и доброжелательно. Так я лично за Пирогова. Незачем плодить искусственных научных деятелей. И дорого, и науке вредно, и делу неполезно. Так я лично считаю и думаю.
— А кто вы такой, чтобы считать или не считать, лично думать или лично не думать! — совсем рассердился и расстроился Ганичев. — Кто вы, объясните мне?
— Дипломированный врач.
— Нескромно, Устименко.
— А почему мне нужно считать, что скромность моем деле — хорошая штука? Вот приеду в глушь, в дыру, и буду до того скромным, что по каждому случаю стану при помощи санитарной авиации вызывать консультанта. Так?
Ганичев потянулся, зевнул, вздохнул:
— О господи!
— Переутомились вы от меня? — сочувственно спросил Володя.
— Не переутомился, а как-то глупо все необыкновенно. Вы ведь одаренный человек.
— Так я же знаю! — воскликнул Володя. — Я в этом нисколько не сомневаюсь, иначе бы я бросил институт, потому что и вы, и Полунин, и Постников учили нас тому, что врач должен быть не только знающим, но и одаренным. А я хочу быть врачом.
— Ну ладно, убирайтесь, — сказал Ганичев, — я вас все равно прижму по комсомольской линии.
И действительно прижал.
В ЗАТИРУХИ!
Только после нескольких дней упорных боев Володе удалось получить назначение в деревню Затирухи, в двухстах километрах от железной дороги.
— И еще на пароме через реку нужно! — сладострастно посулил Ганичев.
— Переберемся! — ответил Володя.
В общем, ему было приятно, что из-за него идет такая кутерьма в институте. Пыч тоже «распределился» в далекую деревенскую больницу, Огурцов уехал в Каменку, но многие еще болтались, ходили на прием к начальству, отбывали в Москву с письмами.
На карте области Володя свои Затирухи не нашел. Выезжать ему предстояло через неделю. Тетка Аглая выслушала Володино повествование о его будущем без всякого восторга.
— И поедешь? — спросила она.
— Поеду.
— Но ведь там нет больницы?
— Есть амбулатория. Больницу построю.
— Сам?
— Сам.
— А вас учили строить?
— А тебя, бывшую прачку, учили управлять государством?
— Ну, государством я не управляю.
— Ну, а мне самому лично строить не придется. Буду управлять строительством и давать руководящие указания.
Аглая вздохнула.
Володя смотрел на нее жестко — перечить ему не следовало.
«Люблю я эти разговоры о том, что молодежь у нас не та!» — подумала Аглая и, еще раз вздохнув, пошла покупать Володе высокие сапоги, полушубок, меховую шапку, валенки. А Володя, словно отрезвев, ужаснулся. «Что же Варя? Как же теперь быть? Ведь это значит совсем без нее? Теперь, когда каждую минуту нужно с ней советоваться, теперь, когда все начинается с самого начала? Как же?» — растерянно и тоскливо думал он, не находя себе места дома.
И побежал к Степановым.
— Салютик! — сказал ему Евгений, открыв дверь. — Заходите, герр профессор. Есть некоторые крайне симпатичные новостишки…
По случаю жаркой погоды Евгений был в коротких штанах, которые ему сшила Валентина Андреевна, мамаша, из особой материи. Штаны эти назывались не штаны, а «шорты», так же как свой плащ Женя называл почему-то «мантель». На волосах у него была сетка, и курил он теперь трубку, подаренную Додиком, с которым у Евгения после ряда крупных потасовок установились хоть и немного иронические, но, в общем, приятельские отношения.
Варвара тоже была дома; развалившись на тахте, читала стихи. «Антология» было написано на переплете золотом, а дед Мефодий готовил окрошку.
— Как раз к самому обеду, — двусмысленно сказал он. — Окрошечки покушаешь, деточка…
— Ты чем расстроена? — спросил Володя Варвару.
— А как ты думаешь? — зло ответила она и ушла из комнаты.
— Так-то, друг ситный! — хлопая себя ладонями по ляжкам, сказал Евгений. — Если бы моя Ираидочка не оставила меня ради дачи и дитяти, я бы, наверное, и вовсе с ума сошел.
Он загадочно поглядывал на Володю.
— Что ж у тебя за новости? — уныло осведомился Устименко.
— И у меня, герр доктор, и у тебя.
Весь его облик выражал довольство самим собою, своими шортами, своими короткими крепкими ногами своими чуть жирноватыми, но все-таки мускулами, самочувствием, здоровьем, ближайшим будущим, окрошкой, которую он станет есть.
— Значит, в Затирухи мы не едем.
— Это как же?
— А так же, Владимир Афанасьевич. Горздрав направил в соответствующие организации требование на двух специалистов персонально: ты будешь работать ординатором в первой городской имени Парижской коммуны больнице, а я, являясь санитарным врачом, иду в аппарат горздрава. Каково?
Володя угрюмо молчал.
Скрипнула дверь — у притолоки остановилась Варвара в другом, свежем, белом платье.
— «И на челе его высоком не отразилось ничего!» — продекламировал Евгений. — Ты как будто бы даже недоволен, товарищ будущий ординатор? Или ты считаешь, что сын человека, героически отдавшего свою жизнь за свободу Испании, должен ехать в Затирухи, а Нюся, Светлана, Алла и наш аккуратный Миша устроятся по городам?
Володя сидел, опустив голову, не глядя на Евгения. А тот и совсем разошелся, очень расшумелся, стал даже покрикивать.
— Мне при Варваре невесело развивать эту тему, — говорил Евгений, — в сущности, это даже не слишком прилично, только ведь с такими, как ты, приходится: подумай, святая твоя простота или что то здесь худшее, но подумай — в Затирухах нет даже клуба, так ведь?
— Нету! — кивнул Володя.
— И Дома культуры, разумеется, и кружка драматического, и спектаклей. Есть все это или, кроме твоей амбулатории, там не на что рассчитывать?
— А он, наверное, и не интересовался! — крикнула Варвара. — Зачем этому великому человеку такие подробности?
— Посмотри, на кого она похожа! — произнес Евгений и положил руку на Варино плечо. — Посмотри внимательно! Твое железное сердце ничем не проймешь, тебе наплевать, ты занят только собой, своим «внутренним миром», как патетически тебя изволит оправдывать Варвара, но меня ты не проведешь. Если у тебя есть дело на земле и призвание к этому делу, то у нее тоже есть и дело, и призвание. Эгоизм — вещь святая, но только до тех пор, пока эгоист не начинает ходить по трупам. А ты, насколько я понимаю, не такая простая штучка. Ты, пожалуй, самый умный у нас на курсе, ты по виду только овца. И твоя идейная поездка в Затирухи — это начало карьеры, да, да, не таращи на меня глаза, это начало большого пути «деревенского доктора». Ты с самого низу хочешь начать, не теряя времени на приспосабливание в городе, ты там пару годочков отбудешь, зато вернешься барином и пойдешь шагать. А она за эти два года с тобой, она, Варвара, погибнет в глуши… Ее…
— Перестань! — попросила Варвара.
— Ее талант пропадет! — воскликнул Женя. — И кто будет нести за все это ответственность? Кто? Пушкин? Неужели непонятно тебе, какое преступление ты совершаешь во имя своих эгоистических соображений и расчетов? Неужели…
— Ладно, хватит, — сказал Устименко, поднимаясь и с кривой, ненастоящей улыбкой вглядываясь в Варвару. — Я уж давно утверждал, что вы все одна семья — и ваша Валентина Андреевна, и Додик ваш, и ты с Евгением. Подлец, Женя, потому еще подлец, что во всех решительно людях подозревает скрытого подлеца. Вот ты сегодня употребил слово «карьера», на твоей совести пусть оно останется, но ты, ты, Варя, как же ты промолчала?
Губы его по-детски задрожали, но он мгновенно справился с собою и заговорил тише, неожиданно спокойным голосом:
— Так я тебе скажу, почему ты промолчала. Ты потому не ответила своему братцу, что и сама так рассуждаешь в глубине души. А если ты так рассуждаешь, то для чего я тебе? Для чего я — подлец и приспособленец, рассчитавший свою жизнь вперед по карьеристским соображениям? Жизнь подлеца со мной хочешь разделить? В страданиях подлеца желаешь участвовать? Так ведь я, Варя, не тот. И ты не можешь это не понять. Ты даже понимаешь, но только Евгений сильнее, мама твоя сильнее, и вот сейчас ты мне веришь и понимаешь меня, я же вижу, а немного погодя они тебе все объяснят со своей точки зрения, и все будет внешне необыкновенно похоже, только это будет не про меня и не про других таких, как я, это будет про Женечку. Но вы все думаете, что мир населен Женечками? Неправда! И не плачь, Варя, это сейчас совершенно уже ни к чему, я тебя нисколько не обижаю, я говорю то, что думаю; этот разговор, конечно, последний, и вам обоим надо же знать, что я думаю. Впрочем, может быть, и не надо. И наверное даже не надо. И вообще вздор это — про себя говорить, оправдываться, доказывать. Ясно, повторяю, только одно ясно, Варя, что если ты с ним согласилась и промолчала…
— Я не согласилась, — сказала Варя. — Я только в том…
— А мне и в том — много! — ответил Устименко. — Геологию ты свою бросила, учишься только формально — значит, пустила жизнь под откос, слушаешь кретинов, которые нашептывают тебе про твой якобы талант, а ведь таланта, Варя, нет, есть обезьяньи некоторые способности, но это так — для домашней вечеринки, а не для дела, не для труда, не для обязанностей…
— Я не понимаю, зачем тебе слушать этот вздор? — спросил Евгений, закуривая трубку, подаренную Додиком. — Это же, в конце концов, оскорбительно!
— Это все очень горько, — близко подойдя к Варе, почти шепотом сказал Володя. — Это очень горько, и, пожалуй, не было у меня более поганого дня в жизни, но ничего не поделаешь. До свидания!
— До свидания! — сказала она, поднимая на нею взгляд. Но он нарочно разминулся с ней глазами, потому что было трудно видеть это горе в еще детских Варькиных глазах.
Дед высунулся из кухни, велел собирать на стол «под окрошку».
— Ну что ж, салютик! — крикнул Евгений вслед Володе.
— Скотина! — сквозь зубы сказала брату Варвара.
Володю она догнала, когда он поднимался на трамвайную площадку. Он как бы даже и не удивился, услышав ее голос. Трамвай мотало и трясло на стыках и поворотах. Володя, глядя в сторону, поверх маленького Вариного уха с сережкой, говорил:
— Поедешь в Москву или куда-нибудь в большой город, поступишь, может быть, в высшее театральное учебное заведение, засверкают огни рампы, цветы поднесут, что там еще бывает? Я окажусь, к общему счастью, не прав. Но и тогда тем более, зачем тебе Затирухи? Самое главное, о чем идет нынче речь, — по-разному мы с тобой относимся к жизни, и хоть было время, когда ты как бы меня понимала, так это вовсе ты меня не понимала, нисколько даже, а просто была детская игра в понимание. Разве неправда?
— Володя, — сказала она.
— Прощай, Варя! — ответил он. — Прощай! Если досуг будет — напиши. Я отвечу. А больше нам ни к чему разводить эти панихиды…
На ходу он спрыгнул с трамвая, пробежал рядом с вагоном несколько шагов и сразу отвернулся. Такой уж он человек — отворачивался даже в тех случаях, когда был неправ.
«Наверное, в моем положении следует напиться! — подумал Володя, увидев вывеску с бутылкой и пивной кружкой. — Или начать курить!» Но тут же он забыл об этих мыслях, подавленный тупым горем.
ПРОЩАЙ, ВАРЯ!
Несколько дней он никуда не выходил, валялся в своем закутке, думал, ночами не мог уснуть. Дважды крутил телефонную ручку, чтобы позвонить Варе, но так все-таки и не позвонил. А однажды в знойный полдень ему принесли пакет за пятью печатями из Москвы, из наркомата. Расписаться в получении пакета следовало дважды, и не карандашом, а чернилами.
В конверте была большая бумага, в которой говорилось, что Устименке Владимиру Афанасьевичу надлежит немедленно выехать в Москву в распоряжение Народного комиссариата здравоохранения к товарищу Усольцеву. В большой бумаге была приложена записка от Богословского. Николай Евгеньевич писал, что «согласно нашей с вами договоренности» он рекомендует Володю т. Усольцеву для выполнения той ответственной, важной и интересной работы, о которой они, то есть Володя и Николай Евгеньевич, «беседовали на пристани в Черном Яре». Датирована записка была еще девятым мая нынешнего года.
Под вечер к Володе домой пришли вдвоем Постников и Ганичев. Аглая Петровна укладывала Володино имущество в чемодан. Володя рылся в книгах.
— Куда это он собирается? — хитро щурясь, спросил Федор Владимирович.
— Да вот такую штуку получил, — ответил Устименко, показывая пакет из наркомата. — Понять не могу, в чем дело.
— Дело нехитрое, — ответил Иван Дмитриевич. — Заграница.
— Какая еще заграница? — всплеснула руками Аглая. — Мальчишка совсем еще неприспособленный, а тут…
— Мальчишка неприспособленный, но толковый! — разглаживая усы, сказал Постников. — И положиться на него можно. Вот три человека его и рекомендовали — Богословский, который там уже работает, профессор Ганичев, который хотел изготовить из Устименки патологоанатома, и я, который вижу в вашем племяннике недурного, со временем, конечно, практического хирурга. Усольцев, подписавший письмо, в свое время был нашим учеником и, случается, с нами советуется… Все, надеюсь, понятно?
— А какая заграница? — спросил Володя.
— Во всяком случае, не Париж, — ответил Ганичев. — Предполагаю — Азия, и трудная. Устраивает вас?
На прощание выпили шампанского. Володя был и грустен, и рассеян, Постников молчал, Ганичев, протягивая Володе руку, произнес:
— Ну, ни пуха вам ни пера. Напишите оттуда. И поверьте, голубчик, мне жаль, искренне жаль, что вы не остались со мной.
В вагон Аглая вошла вместе с Володей.
— Хорошо отоспись дорогой, — попросила она, — совсем замученный стал мальчик, на икону похож, а не на человека.
Более суток Володя проспал. Потом съел сразу все заготовленные теткой бутерброды, булку с марципаном, четыре крутых яйца и вновь завалился спать: он отсыпался за все это время, не видел никаких снов, но и радости не испытал, окончательно проснувшись. Что-то очень дорогое, очень главное и страшно важное в его жизни навсегда миновало.
В Москве на вокзале он побрился, постригся, начистил башмаки у мальчишки айсора, купил на всякий случай коробку папирос и поехал к товарищу Усольцеву. Его приняли сразу. Бывший ученик Ганичева оказался плотным человеком лет тридцати пяти, с простым и грубоватым лицом солдата, стриженный под машинку, в рубахе сурового полотна.
— Мы думаем направить вас за рубеж, в Н-скую республику, — сказал Усольцев, быстро и неприветливо обшаривая глазами Володино лицо. — Мы надеемся, что вы оправдаете оказанное вам доверие и употребите все силы для того, чтобы потом вас там поминали только добрыми словами. И вас, и, следовательно, ту страну, в которой вы получили образование и которая сформировала вас как гражданина…
Усольцев говорил казенными словами, но голос при этом у него совсем не был казенным и глаза сделались неожиданно веселыми.
— Папиросочки у вас не найдется? — спросил он вдруг.
Володя помнил, что купил коробку папирос, но ответил, что не курит: было неприятно думать — вот купил папиросы и угодил начальству.
— Заграница вовсе не такая, какой мы себе ее представляем, — продолжал Усольцев. — Коктейль-холла там вы не найдете, кинематограф вряд ли, а вот шаманов и разного международного сброда порядочно. Жить будете крайне трудно, работать тоже очень нелегко. Помощников в смысле младшего медицинского персонала вы там не найдете до тех пор, пока не докажете, что вы лечите лучше, чем шаманы, и пока, следовательно, тамошние товарищи не пожелают вам помогать, выучившись у вас же.
Он смотрел на Володю внимательно, не мигая, ждал.
— Решили?
— Решил.
— Что же вы решили?
— Я поеду.
— Не испугаетесь? Не станете писать маме и папе — заберите меня отсюда? Подумайте, вы ведь очень молоды.
— У меня нет мамы и папы, — сухо ответил Володя. — Что же касается до моей молодости, то я врач, остальное же не имеет никакого значения.
— Ну что ж, оформляйтесь! — сказал Усольцев. — Срок договора — три года.
Оформляли Володю довольно долго, но гораздо больше и времени, и энергии, и сил понадобилось Устименке для того, чтобы снарядить самого себя в этот нелегкий путь. А когда и хирургические наборы, и медикаменты, и книги, и одежда были куплены, то всего этого оказалось так много, что Володе совершенно негде было повернуться в маленьком номере только что выстроенной комфортабельной гостиницы «Москва».
Проводить племянника за границу приехала тетка Аглая, а из Кронштадта, как будто даже случайно, вдруг появился Родион Мефодиевич. Теперь он уже был капитаном первого ранга, весело жаловался, что занят круглые сутки, и упрашивал Володю, чтобы он уговорил упрямую тетку переехать в прекрасный город Ленинград или в Рамбов — Ораниенбаум, если боится она жить на острове. Аглая же смеялась, и Володе было видно, как она украдкой целует мужа в седой висок. Володе Степанов привез подарок — радиоприемник и запас анодных сухих батарей, чтобы слушать радиопередачи без электричества.
— Там очень даже понадобится, — говорил Родион Мефодиевич, обучая Володю пользоваться приемником. — Там, брат, вдали от всего эта штуковина для тебя будет первое дело…
Володе было немножко грустно и чуть-чуть жалко себя, но и эта грусть, и эта жалость совершенно тонули в том огромном, особом чувстве ответственности, которой охватывало его, когда он думал, как переедет границу и как начнет работать за границей — туманной, неопределенной и наверняка очень трудной. Становилось даже жутко при мысли об одиночестве там, за рубежом, но он гнал все это прочь от себя — ведь Богословский-то доверяет ему, почему же он сам должен не доверять себе?
— Пошли бы вы прошлись по Москве, — тоном старика сказал Володя тетке и Степанову, — что вам со мной тут тлеть?
Но Родион Мефодиевич и тетка никуда не ушли. Выпив бутылку нарзану, Степанов сбросил свой красивый китель с широкой золотой нашивкой, и, оставшись в тельняшке, поигрывая мускулами (он очень стеснялся татуировки на руках — всех этих змей, тигров, разорванных цепей и лозунгов синего цвета), Родион Мефодиевич оглядел Володино, как он выразился, «хозяйство», подумал и с удивительной ловкостью сначала все распределил, а потом начал паковать личное и казенное имущество. А тетка тут же обшивала ящики, чемоданы и тюки мешковиной. Работая, они оба — муж и жена — смешно пели какую-то не слышанную Володей песенку, и по этой новой песенке было видно, что у них своя, особая, уже неизвестная Володе жизнь.
Запевал тонко и быстро Родион Мефодиевич:
- За околицей селенья
- Небывалое явленье —
- Из-за лесу-лесу вдруг
- Раздается трубный звук…
А тетка, откидывая назад голову и лукаво блестя глазами подхватывала припев:
- Дур-дум-дум, дур-дум-дум,
- Дур-дум-дум, ах дур-дум-дум!
Пела она нарочно густым голосом и мило-вопросительно, а Родион Мефодиевич выводил высоко, как делывал это, «гоняя чертей», дед Мефодий:
- Раздаются тары-бары,
- В село въехали гусары,
- Все красавцы усачи,
- Впереди всех трубачи…
И вновь, перекусывая суровую нитку острыми, мелкими, белыми зубами, подхватывала Аглая!
- Дур-дум-дум, дур-дум-дум.
- Дур-дум-дум, ах дур-дум-дум!
Степанов опять запевал:
- Командирам избы дали,
- По хлевам солдаты стали,
- А в овине без свечи
- Разместились трубачи…
Улыбаясь, слушал Володя:
- Дур-дум-дум, дур-дум-дум,
- Дур-дум-дум, ах дур-дум-дум!
— Ловко? — спросил Степанов.
— Это где же вы научились? — удивился Володя,
— А там, Владимир, где воля, и холя, и доля, — покраснев, ответила Аглая. — Сами научились…
Обедать пошли в большой, новый, полупустой ресторан. Несмотря на то, что народу было очень мало, официант долго не подходил, и Родион Мефодиевич начал багроветь и сердиться. Старший официант с удивительно нахальным лицом и сытыми брыльями над крахмальным воротничком сообщил, что нынче большой наплыв интуристов и что «а» (при этом он подвернул толстый указательный палец на руке) кухня не справляется и «б» (при этом он подвернул такой же пухлый безымянный палец) в первую очередь здесь обслуживаются именно интуристы. Тут он поклонился в спину сытого господина в ворсистом пиджаке.
— А вы бы повесили вывеску, что советские граждане обслуживаются во вторую очередь! — посоветовал Степанов. — Именно так: «во вторую»!
Но Аглая положила свою ладонь на его смуглую руку, и он заморгал и сразу развеселился.
— Ты когда-нибудь задумывалась о том, что такое душевное лакейство? — спросил он жену, и они, словно позабыв о Володе, стали разговаривать друг с другом. А он хлебал свой рассольник и думал о Варе, о том, что могли бы так же сидеть тут с ней вдвоем и говорить о разных вещах, а потом вместе поехать на то трудное, увлекательное и загадочное дело, которое ожидало его. На эстраду унылой цепочкой поднялись оркестранты, задвигали стульями, кто-то главный — первая скрипка, что ли, — серьезно, громко и начальственно высморкался.
— Еще один коньяк! — велел иностранец в ворсистом пиджаке.
— Наверно это все, Родион, — словно издали донесся до Володи теткин голос. — Ты, кстати, всегда, если раздражен, делаешься ужасно несправедливым.
Володя доел котлету, зевнул и сказал:
— Между прочим, я тоже тут сижу. Вы оба приехали из разных городов для того, чтобы проводить меня, и совсем сразу же забыли об этом. Нехорошо же!
На вокзале Степанов и Аглая простояли до самого отхода поезда. Тетка была в белом плаще, в шелковом платке, накинутом на плечи, в темных волосах ее красиво блестел какой-то диковинный гребень — она иногда любила такие цыганские штуки. Родион Мефодиевич держался очень прямо, а когда поезд тронулся, приложил ладонь к козырьку фуражки, словно на параде. Еще долго Володя видел Аглаю, как она бежала по перрону, расталкивая провожающих и высоко подняв руку. Яркий свет электрических лампионов озарял ее поднятое кверху, загорелое, чуть скуластое лицо с блестящими от слез глазами…
А потом тетка потерялась в толпе, ветер сильно ударил в коридор вагона, щелкнул занавесками. Убегали назад огни Москвы, оставалась позади Москва, город, который посылал Володю, Владимира Афанасьевича, врача Устименко В. А., работать за границу.
ВОЛОДЯ ПРИЕХАЛ ЗА ГРАНИЦУ!
Через шесть дней пути Володя зарос колючей бородой. Он, пожалуй, намеренно не брился, несмотря на то, что была и у него бритва, и сосед по купе — пожилой военный с круглой плешью — не раз предлагал свою. К границе следовало быть посолиднее!
Но тут, на границе, внешность врача Устименки не привлекла ничьего внимания. Пограничники проверили документы, таможенники — тюки и чемоданы. Была глубокая, ветреная, мозглая ночь. Где то неподалеку выла и грохотала горная речка. Володя пил крепкий чай из большого толстого стекла стакана и ждал. Поезд, уютно светя ярко-желтыми теплыми окнами, еще стоял у перрона станции Медвежатное. В зале ресторана прохаживались маленький японец в очках с очень умным сморщенным личиком, рослые рыжие англичане, с ними красивая, статная, сильно накрашенная женщина…
Ударили два звонка, третий, длинно засвистал главный кондуктор. Сотрясая землю, тяжелый состав двинулся во тьму дождливой ночи, к арке, разделявшей государства. Володя допил чай, расплатился последними советскими деньгами. Погодя пришли четыре человека, низко поклонились Володе, стали грузить имущество в кузов полуторки. Говорили эти люди не по-русски, они были уже «заграничные». Наконец, когда все было уложено, закрыто брезентом и затянуто веревками, пограничник с тремя кубиками пожал Володе руку, сказал рязанским говорком:
— Ну, ни пуха ни пера, товарищ доктор!
— Желаю здравия! — ответил Володя, как говаривал иногда Родион Мефодиевич.
Полуторка медленно тронулась и минут через пятнадцать остановилась. Люди с керосиновыми фонарями, в клеенчатых плащах, в фуражках с большими козырьками — пограничники сопредельной стороны — долго проверяли Володины бумаги, таможенники щупали и переворачивали тюки. Володя подремывал. Горная речушка, казалось, ревела над самой головой. Наверное, прошло много времени, прежде чем офицер-пограничник, козыряя двумя пальцами, совсем иначе, чем делали это наши, с любопытством вгляделся в советского врача, оскалил желтенькие, прокуренные, редкие зубы, дважды помахал фонарем. Шофер включил фары, в сыром воздухе медленно, со скрипом поднялся тяжелый шлагбаум. Машина, натруженно гудя всеми своими пожилыми частями тела, словно нехотя, поднималась в беззвездном, сыром мраке в гору. К утру стало холодно, к вечеру — потеплело. Володины спутники спали в кузове, играли там в какую-то непонятную игру, на привалах ели, отрывая зубами полусырую баранину. На второй день пути Устименко увидел — в небе, над петляющей дорогой плавно парил огромный, как самолет, орел. Потом ночью машина переползла высохшее русло реки, попала в густую грязь, вновь выбралась на проселочную дорогу. Вместе со всеми Володя толкал буксующий грузовик вперед, потом подкладывал доски, копал, пихал тупой радиатор назад. И, как те, кто ехал с ним, научился кричать:
— Эхе-хе хоп! Хоп ж!
На рассвете они миновали большое кочевье. Из юрт струились дымы, кони с буйными гривами, с вьющимися по ветру длинными хвостами, огнеглазые, долго бежали перед грузовиком. В другом кочевье Володя ел странную, горько-соленую и очень вкусную похлебку с кусками бараньего сала, в третьем — пил чай. Широкоскулые люди внимательно осматривали его, некоторые трогали крепкие, из юфти, сапоги, хвалили. Володя никому не улыбался и не кланялся, не гладил по головам детей и не произносил те слова, которые успел уже усвоить. Самым унизительным казалось ему подлизываться перед народом. Он был самим собою, даже чуть строже. Он внимательно прислушивался, приглядывался, запоминая, как едят, как пьют, как здороваются, как благодарят. Он искал те черты, за которые потом следовало уважать эту страну и ее людей, он искал характер народа, его отличительные, главные признаки. Пока это было трудно, даже невозможно — найти и понять, но одно ему стало ясно: все эти миссионерско-интеллигентские рассуждения о «больших детях» — вранье. С этими не слишком болтливыми, гостеприимными и суровыми людьми следовало держаться наравне, спокойно, серьезно и уважительно.
К исходу третьих суток пути, отдыхая у юрты на кошме, Володя увидел шаманов. Они стояли неподалеку и рассматривали русского врача, переговариваясь между собой. Вечерний степной ветер пошевеливал их колдовскими атрибутами — висевшими на поясах шкурками дятлов, сухими кореньями, медвежьими лапами, когтями беркутов. И какой-то звоночек все время мелодично позванивал в грязном, словно засаленном бубне старого шамана.
«Это мои враги, — подумал Володя. — С ними мне предстоит бороться».
— Пи-ра-ми-дон! — вдруг сказал шаман помоложе и поклонился Володе.
— А? — не понял Устименко, так необычайно было это слово здесь, среди кочевников, на степном ветру.
— Пи-ра-ми-дон! — повторил шаман и, сделав страдающее лицо, приложил ладонь к виску: — Пирамидон!
Кивнув, Володя пошел к полуторке. Пришлось довольно долго повозиться, прежде чем ему удалось вытащить из оцинкованного ящика коробку с таблетками. И конвертик аптечный Володя тоже достал. На ветру, под тоскливый вой облезлой собаки, он написал по-латыни: «Pyramidoni 0,3.» Шаман низко поклонился, сунул сразу две таблетки за щеку и начал что-то длинно объяснять шоферу. Погодя шофер растолковал Устименке, что шаман не советует Володе сидеть на кошме, так как сидящий на кошме есть малый шаман, а большой шаман, старший, должен садиться только на белую кобылью шкуру. Тот, кто сидит на белой шкуре, куда больше зарабатывает, чем тот, который унижается до кошмы. Так шаман отблагодарил Володю за пирамидон.
…Ночевали они в степи у речки Казырла-Хаа. На рассвете Володя увидел огромные стада овец, дымы пастушечьих костров, увидел теряющиеся в тумане, слабо вычерченные громады далеких гор.
Немного позже они выехали на удивительную дорогу, выложенную потрескавшимися, плоскими камнями. Возле дороги словно бы дремал серый, каменный, ушастый, с безгубым ртом, с провалившимися косыми глазницами маленький, одинокий карлик.
— Чингисхан! — сказал шофер Володе.
И знаками объяснил, что эта дорога тоже была построена людьми Чингисхана, но не сейчас, а давно, совсем давно.
Володя кивнул — ему вспомнились вдруг Постников и его слова о том, как долго человечество помнит всяких чингисханов.
Навстречу неслись горные отроги, крутые, мощные, высокие. Над снеговыми шапками курились облака. Володя знал — сегодня они перевалят гряду и будут в столице.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ПУТЬ В КХАРУ
Ночь он провел в гостинице, в номере с ванной, с большим окном, с феном-вентилятором. И, проснувшись, долго не понимал, где он, какой это город, зачем он здесь.
В департаменте народного здравоохранения его принял сухонький чиновник в золотых очках, за которыми поблескивали внимательные, умные и неприятные бусинки темных глазок. Речь чиновника лилась плавно, переводчик — грузный мужчина в халате, накинутом поверх пиджака, — говорил короткими, рублеными фразами:
— Господин представитель департамента сожалеет. Русский врач будет иметь трудный путь и трудную работу. Очень трудное. Слишком трудное. Велико слишком трудное. Наше общее сожаление безгранично. Четыреста километров верхом или ждать санного пути по реке на упряжках. Тоже большой мороз. Плохо. Летом на лошади через тайгу и Охотничий перевал.
Чиновник поклонился, в его худых, с крупными суставами пальцах быстро бежали молочного цвета четки.
— Весной и осенью проезд невозможен! — сказал переводчик. — Реки разливаются, болота непроходимы. Так, а? Охотничий перевал нельзя, Кхара отдаленное место, так, да? Кхара не имела врача никогда. Русский врач будет иметь много работы…
Опять полилась тихоструйная речь чиновника, опять зашевелил он пергаментными губами, но переводчик ничего перевести не успел. Властной рукой широко распахнулась дверь, вошел человек лет тридцати, в широком свитере, в болотных сапогах, с жестким выражением изрезанного ранними морщинами, невеселого лица.
Стряхивая пепел сигареты на пол, не обратив никакого внимания на подобострастные поклоны чиновника и переводчика, сел, заговорил негромко, приятным, сиповатым голосом:
— Здравствуйте, товарищ. Они пугают, наверное, да? Но вы не бойтесь, товарищ. Я учился в великой Москве, я знаю, что для вас, товарищ, это не страшно…






