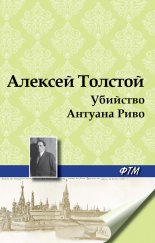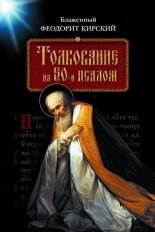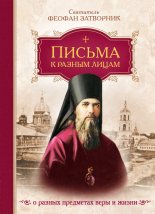Звездный билет (сборник) Аксенов Василий
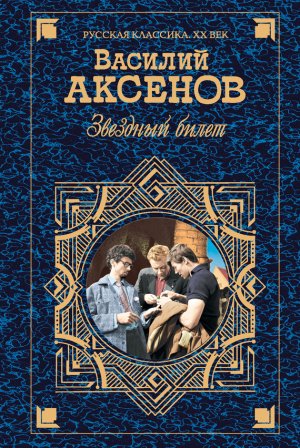
Она ответила, что ничем не может ему помочь. Они шли по мохнатым лунным теням, по пятнам сверкающего снега.
— Сириус? — спросила она, показав на созвездие.
Он закричал, что Сириус, что это гнусно, жестоко, что для всех у нее есть жалость, кроме него. И неужели из-за того дикого, нелепого случая, в котором никто из них совсем не виноват…
— Послушай, оставь ты меня. Разве ты не видишь — ночь-то какая, — сказала она.
Он повернулся и побежал назад, яростно и легко он унесся от нее по аллее.
Луна была с маленькой, еле заметной ущербинкой. Она огибала сосны, вежливо плыла над Таней, пока не спряталась в елках. Таня останавливалась, чтобы разглядеть планеты. Парк кончался, уже был виден трамвай и огоньки такси.
Таня побежала, ей почудилось вдруг, что на трамвайной остановке может оказаться Марвич. Так ей всю зиму казалось — вот-вот из-за угла вывернет Валька в своем обшарпанном пальто. Ах да, теперь ведь он новое пальто себе купил. Наверное, какое-нибудь дурацкое импортное пальто.
— Ерунда, — сказал молодой человек в темных очках другому молодому человеку в свитере. — В том фильме, о котором вы говорите, ничего нового нет. Элементарное раздвоение личности, вот и все.
Свитер стал возражать, но темные очки уже склонились к Тане:
— А вы, Таня, как считаете?
— Мне-то какое дело? — дернула плечиком.
Очки одобрительно пожали ее руку:
— Вы очень умны. Я много слышал о вас. Очень хочу стать вашим другом.
— Хорошо, подружимся, — сказала Таня и ушла с Мишей.
Начались звонки, и все повалили в зал. Полчаса ушло на представление группы. Павлик не жалел эпитетов для всех, он сказал, что переживал свою вторую молодость, работая с этим коллективом. Коллектив раскланивался и улыбался, вспоминая дожди и солнце, и как ругались, и как мирились, и как чудно было.
— А теперь мы покажем вам нашу скромную ленту, — сказал Павлик.
Коллектив сошел с эстрады в зал. Танино кресло оказалось рядом с автором. Автор хорохорился, косил правым глазом на какого-то критика, иронически улыбался и шептал Тане на ухо: «Провал, Танька! Полный провал».
Погас свет, и потекла знакомая музыка, и потекли сто раз виденные кадры пролога, потом титры…
— Правда, приятно? — шепнул автор. — Все-таки приятно. Послушай, Таня, между нами какая-то двусмысленность, ты не находишь? Может быть, ты думала, что я ухаживаю за тобой, так это ошибка. Я ведь, знаешь… Я хотел бы с тобой дружить. Ну, конечно, не как парень с парнем, но все-таки, чтобы между нами были простые, ясные отношения.
— Да отстаньте вы все от меня! — вдруг почти громко воскликнула Таня.
Автор дернулся и затих.
«Ой, как я плохо играю! — думала Таня, глядя на экран. — Жуть! Фу! Побежала, побежала, дурища, бездарь! Что во мне от таланта? Ноги у меня талантливые, вот и все. А мало ли девчонок с длинными ногами! Ну, зачем нужен был этот план? Уставилась бараньими глазами! А что от меня требовалось? В сценарии была красивая девушка, вот я и играла красивую девушку. Ну, поплакала разок, ну, поругалась. Так всю жизнь я буду играть „красивых девушек“. Веселое амплуа! Что толку? Может, когда состарюсь, тогда только и сыграю по-настоящему. Если будут меня еще снимать. А я хочу сейчас играть и сыграю еще, не думайте! Я сыграю трагическую роль, если ее кто-нибудь напишет. Напишут ее для тебя, как же, дожидайся! Я глупая, я мало читаю, вон в „Современнике“ девки какие умные! Я теперь книжки буду читать, вот что!»
Таня, конечно, напрасно так убивалась. Играла она вовсе не плохо, может быть, даже и хорошо, и все в этом фильме было неплохо, а может быть, даже и хорошо, все было на «современном уровне», все на месте, кроме, разумеется, действия. Действия вот не было, к сожалению. Показана была симпатичная жизнь на симпатичных ландшафтах, ну, естественно, и разные передряги, но не такие уж и страшные — короче говоря, поиски места в жизни.
Побежал знакомый и милый прибалтийский пейзаж: сосны, длинные пляжи, черепичные крыши маленького городка, — и вдруг появилась на несколько секунд темная и узкая, как щель, улица Лабораториум, и четыре башни, а та башня… Таня не видела раньше смонтированного целиком фильма и не знала, что здесь есть это место, и, когда улица Лабораториум исчезла, ей захотелось крикнуть: «Остановитесь, остановитесь, и больше ничего не показывайте!»
Но все это быстро промелькнуло. Она закрыла глаза, и, как будто во сне, ей захотелось ринуться в эту темную расселину, чтобы промчаться насквозь и вылететь с другой стороны, подобно птице на легких, но сильных крыльях.
Она побежала по булыжнику, перепрыгивая через разбитые горшки, сломанные ящики, осколки посуды, через нечистоты, через дымящиеся кучи тряпья, но в конце улицы стоял железный звон: стражник, огромный, бочкообразный, самовароподобный, закрыл собою выход, положив суставчатую руку на крышу башни. Тогда она обернулась — улица мгновенно умылась дождем, блестел булыжник, из ниши торчали ботинки Марвича, в глубине теплилась его сигарета. Был десятый час, где-то вблизи пело радио, доносились гудки из порта. Марвич вылез чумазый и смешной. Они взялись за руки и легко побежали по улице своих юношеских химер, по блаженной памяти улице Лабораториум на вокзал за билетами.
В зале послышался смех, взлетели легкомысленные аплодисменты.
— Смеются, — шепнул автор. — Смеются там, где надо.
Таня посмотрела вдоль ряда. Вся их группа сидела с блаженными улыбками. Это уж всегда так: как бы ни собачились в ходе производства, к концу картины вся группа убеждена в том, что сделан шедевр. К тому же у всех приятные воспоминания о натурных съемках, о том городе.
Кстати, вот ей-то и не надо было бы снова смотреть этот фильм, особенно сегодня. Письмо и этот фильм — слишком много для одного вечера.
«Что делать?» — подумала она, когда увидела в массовке, в толпе прохожих длинную шею и собачью улыбку Кянукука.
Он очень гордился тогда — ему дали проход. Он вел под руку даму и комично вихлялся. Вечером только и разговоров было, что о дебюте «полковника» в кино. Все советовали ему, как перевоплощаться. «Ты похож на Бельмондо», — говорили ему, и он тут же, отвечая на такое внимание к его особе, разыграл сцену из гангстерского фильма. В общем смеху было много.
«Постоянно мы над ним смеялись, бесконечно, утомительно. К концу это превратилось уже в скучное издевательство. Естественно, считалось, что он все снесет, не обидится, а он вот не снес. Может быть, письма Марвича подняли в нем мятеж? Марвич над ним не смеялся».
«Витька, — писал он ему, — ты странная личность. Таким, как ты, я был в семнадцать лет. Где тебя консервировали, мил-человек? Мне кажется, что у тебя и девушки-то не было никогда, одни фантазии. Напиши мне обо всем, не бойся откровенности и перестань, пожалуйста, нести такую дичь про Лилиан. Если она действительно существует, то зачем ты тогда треплешься о ней перед всякими подонками? Мне кажется, что я сделал ошибку, не взяв тебя тогда с собой. Надо было схватить тебя за шиворот и втащить в вагон. Впрочем, это еще поправимо. Осенью мы с Сережей отправимся в далекий путь, и если ты не балда и не окончательный шут, то поедешь вместе с нами. Сережа тебя сделает человеком. Знаешь песню: „А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы“? Может быть, это романтика и не чистой воды, но на меня она действует, потому что я сам истер по этим деревянным тротуарам не одну пару подметок.
Теперь скажи мне, друг, пожалуйста, такое: ты что, влюблен в Таню? Только честно, без балды. Если это так, то я тебе по-настоящему, без всякого юмора сочувствую, потому что она моя от начала и до конца и, что бы с ней ни случилось, в конечном счете она будет со мной. Что бы ни случилось! Да с ней и не случится ничего, ничего к ней не пристанет.
Итак, жму лапу. Пожалуйста, не финти и сообщи, нужны ли деньги. Привет Лилиан. Обнимаю. Валентин».
Были и другие письма, шуточные и дурашливые, но это, наверное, было главное и последнее. Ответить на него Кянукук уже не успел.
Тут она вспомнила, как неслыханно возмутила ее уже сама мысль, что Кянукук влюблен. В тот вечер он пригласил ее в ресторан. Для него, видно, это был какой-то особенный вечер.
«Эх ты, — подумала она о себе, — дрянь ты порядочная, не дала мальчику даже возможности повздыхать. Ведь он не домогался тебя, как иные, и ни одного сального взгляда не бросил. Он жаждал лишь меланхолии, но у тебя уже был рыцарь, Олег, сильная личность. Тебе уже грезилась большая любовная биография, „чтобы на старости лет было что вспомнить“. Хорошее, должно быть, это утешение на старости лет. А в самом деле, что утешит нас на старости лет?..
Вот здесь я ничего играю, сносно. Правильно двигаюсь. Все равно я стану актрисой, не такая уж я бездарь».
Фильм, благополучно перевалив через кульминацию, благополучно катился к концу. Подчищались всякие неувязочки, все постепенно выяснялось и обосновывалось, осуществлялся важнейший закон искусства — все «ружья» палили со страшной силой. В конце сквозила естественная лирическая недоговоренность. Все было в порядочке, и все остались довольны: простодушная публика была растрогана, профессионалы оценили умелую режиссуру и операторскую работу, снобам осталось много поводов для насмешек. Загорелся свет, грянули аплодисменты.
В фойе и во всех других помещениях установилось оживленное приподнятое брожение. Пространства для перебежек не было никакого, и поэтому кучки и отдельные люди двигались хаотически, сплетаясь в случайные клубки, расходясь, вежливо толкаясь, покачиваясь и словно подчиняясь какой-то неслышной музыке. Во всяком случае, это было увлекательное дело, и никто не торопился уходить.
Таня тоже двигалась неизвестно куда, вместе с Павликом, Кольчугиным, Потаниным и другими, теряя их по одному, отвечая на поцелуи и рукопожатия, пока не осталась вдруг одна.
Вокруг стояли незнакомые люди. Они, конечно, посматривали на нее как на героиню вечера, но обратиться не решались.
«Как странно, — усмехнулась Таня, — никто меня не беспокоит, никто не предлагает дружбу». Она вынула из сумочки сигарету и закурила. Толпа вокруг медленно колыхалась, перемещаясь.
— …я не знаю, может быть, я примитив, но мне понравилось.
— Простите, это уже не тот уровень разговора. Что значит понравилось или не понравилось?
— …слабости очевидны…
— …но и достоинства…
— А кто же спорит?
— Вы сами сказали, что…
— …кассовый успех…
— …что же плохого…
— …очаровательно, очень мило…
— …надоело про молодежь…
— …Калиновская очень хороша…
— …все мы слишком снисходительны…
— …жестокость такого рода…
— …правда характеров…
— …снят только верхний слой…
— Бросьте мудрствовать лукаво!
— В конечном счете не все ли равно?
— Вы видели «Крик»?
— А ты чего молчишь?
— Буфет еще работает?
— Старик, познакомь с Калиновской.
— …стряхнуть пыль с ушей!
— где уж нам, дуракам, чай пить…
— …мелодию запомнили?
— …ту-ра-ру-ра… Так?
— …молодежь, понимаете, молодежь…
— Я-то читал. А ты-то читал?
— Простите, костюмчик этот не в Париже ли брали?
— В Париже.
— Не в «Самаритан» ли?
— В «Галери де Лафайет».
— Угу, спасибо.
— … мы совсем замотались, натуру пропустили, главк рвет и мечет…
— …я вам говорил, дорогой, слушались бы старика…
— …он очень талантлив, очень…
— …этот?
— Этот не очень.
— А тот?
— Это сволочь!
— Тише!
— Я вам говорю, Марцинович сволочь…
— …пора уже о праздниках…
— …шьете что-нибудь?
— Что нового?
— Слава богу, ничего.
— …я бы иначе…
— …вы бы, конечно…
— …кто это, кто это?
— …вы, старик, еще молоды…
— …молодежь, молодежь…
— А что Боровский?
— Боровский в Индии.
— А Фролов?
— В Бирме.
— А Лунц?
— В Непале.
— Кто же будет кино снимать?
— Кина не будет.
— …ха-ха-ха… остроумный черт…
— …иди-ка сюда, иди-ка…
— …дай я тебя поцелую…
— …видали мы таких…
— …друзья, товарищи, братья…
У Тани закружилась голова. Тут как раз ее обнаружили, и снова начались поздравления, поцелуи, ее тащили куда-то — естественно, в ресторан. Нужно было пить шампанское, смеяться, изображать счастливицу. По дороге к ресторану ее ухватила под руку высокая критикесса в новомодном седом парике.
— Уверяю вас, — энергично говорила она, — в ближайшие годы ваш талант заблещет новыми гранями. Мне кажется, что вы не просто красоточка — вы значительная личность. Я уверена. Печаль человеческого сердца вам доступна. Я хотела бы о многом поговорить с вами. Ну, что там хитрить — я предлагаю вам дружбу. Идет?
Пробежал сияющий Павлик, махнул рукой — сюда, друзья, сюда! Они сдвинули несколько столиков, Кольчугин собрал деньги. Кто выложил трешку, а кто и десятку. Кольчугин надел очки и строго продиктовал официантке заказ.
Сегодня все шумели, всех охватило желание настежь распахнуть души, объясниться друг другу в любви, выяснить все недоразумения и весело пить — мы это заслужили!
Только Тане хотелось остаться одной и уйти в переулки, где начиналось весеннее поскрипывание дверей и ошалелые мальчишки уже заступали на полуночную вахту у ворот, уйти, и тихо бродить, и все решить за какой-нибудь час.
Бочком, смущаясь, подошли родители.
— Танюша, мы домой. Поздравляем тебя, родная, поздравляем. Тебя проводят?
— Что пишет Валентин? — тихо спросила мама.
Таня посмотрела на нее:
— Приглашает к себе.
— Поедешь?
— Конечно, поеду.
Мать побледнела и закусила губу.
— Когда? — спросил отец.
— Не знаю.
Родители ушли.
Таня старалась веселиться, не хотелось огорчать товарищей. Шумный и беспорядочный пир подходил уже к полуночи, смешались салаты и закуски, тосты и объятия, кое-кто стал уже уходить, когда к Тане подошел Олег.
Люди, знакомые с ним по Прибалтике, стали шумно звать его к столу, но он только поклонился довольно церемонно и попросил Таню отойти с ним на несколько минут — ему нужно поговорить с ней.
— Пойдем, — сказала она и быстро прошла через ресторан, через фойе, спустилась в гардероб и взяла свое пальто.
Они вышли на улицу и медленно пошли к площади Восстания. Гигантский высотный чертог закрывал полнеба. На фасаде его одно за другим гасли окна, образуя неясный темный пунктир.
Большая полная луна, словно скатившаяся с роскошного шпиля здания, беспомощно висела поодаль. По Садовому кольцу медленно двигался гигантский междугородный трейлер. Все предметы были крупны и отчетливы в эту ночь.
— Что же ты молчишь? — спросила Таня.
— Трудно, — проговорил Олег.
— Как дела-то вообще? — бездушно спросила она.
— Разве это тебя интересует? — сказал он. — Ну, защитил диплом.
— А как твои друзья?
— Какие друзья?
— Как какие? Эдуард, Миша, верные твои друзья, соратники…
— Не иронизируй. На что мне эти подонки? Я ведь стал старше…
Они свернули на Садовое. На мостовую то и дело выбегали люди, пытающиеся поймать такси. Впереди, обнявшись, шла парочка, спокойно, как в лесу, она шествовала и пела: «На меня надвигается по реке битый лед, на реке навигация, на реке пароход…» Девушка фальшивила.
— «Пароход белый-беленький», — машинально запела и Таня, но тут же оборвала песню. — Значит, стал старше, умнее, строже?
— Вот что, — надменно сказал Олег, — давай закончим этот треп. Я хотел тебе сказать… Тогда я унизился перед тобой там, в парке… Ну, считай, что этого не было. Я тебя выбросил из головы.
— Вот и прекрасно, — сказала Таня. — Браво!
— Столько девчонок вокруг, а я унижался перед какой-то дурочкой. — Он укоризненно покачал головой.
— Да брось ты! Ведь договорились же, что этого не было. Ничего у нас с тобой не было.
Она покосилась на него и вдруг заметила, как резко и жестоко изменилось его лицо. Он схватил ее за руку.
— Дурак я, интеллигентик! Зря я возился тогда с тобой. Сейчас бы бегала за мной.
— Сейчас милиционера позову, — тихо сказала Таня.
— Дура! — Он отпустил ее руку. — Прощай!
Через минуту он догнал ее на такси. Такси поехало вдоль обочины тротуара вровень с Таниными шагами. Олег спустил стекло и высунулся:
— Подвезти?
— Мне здесь два шага.
— Давай по-умному, — сказал Олег, — ведь мы же взрослые люди… Зачем ругаться?
— Может быть, ты хочешь предложить мне дружбу? — любезно осведомилась Таня и свернула в переулок.
Такси взревело и устремилось по диагонали к осевой линии.
Таня сразу забыла про этот разговор. Дом ее был уже рядом, и она побежала, отстукивая каблучками, чуть задыхаясь от ветра и пригибаясь; прошла сквозь строй хихикающих мальчишек, смело — через проходной двор, под долгий свист загулявшего молодца, мимо тенькающих слабыми ночными звуками окон; вышла на тихий свой московский угол, где Валька когда-то провел столько часов, околачиваясь возле подъезда.
Дома не спали, ждали ее. Началось обсуждение премьеры. Отец сказал, что фильм подкупил его своей чистотой и благородной идеей. Точно сформулировать идею он не смог. Мама сказала, что воспитательное значение… Затем прочла перечень телефонных звонков за день. Звонили с «Ленфильма», приглашали приехать на пробы, звонили с Киевской студии, звонил корреспондент журнала «Панорама полночи» (Гданьск), кроме того, звонили Толя, Илья, Петя и Люба.
Когда родители уже легли, Таня тихонько вошла в их комнату и потянулась к книжным стеллажам.
— Ты чего, мышь? — пробормотал отец.
— Книгу взять.
— Какую?
— Какую-нибудь. Стихи.
— Блок справа, на третьей полке.
С томиком Блока она вошла к себе, раскрыла и прочла:
- О весна без конца и без края,
- Без конца и без края мечта!
- Узнаю тебя, жизнь, принимаю
- И приветствую звоном щита!
Она сбросила туфли и погасила свет. Ночная комната сразу увеличилась в размерах. Призраки, плоские и объемные, тихо зашелестели, начиная свою простую беззлобную жизнь. Таня встала на подоконник и просунула голову в форточку, обозревая видимый отсюда мир.
Тяжелый греческий профиль кариатиды скрывал от нее луну. Нежная грудь кариатиды, заляпанная голубями, серебрилась лунным светом, и серебрился мощный живот. Внизу светился пустой асфальт. По нему, посвистывая, прошел к телефонной будке гуляка, милый и бесхарактерный человек. Был виден кусочек пруда, дымная вода. Плыл замызганный лебедь, дергаясь и выщипывая блох. В темном окне аптеки под маленькой лампой белел колпак дежурного фармацевта. Медленно проехал хлебный фургон.
Таня захлопнула форточку и бросилась на кровать, обхватила голову руками, смиряя гул в голове и гул во всем теле, смиряя свою тоску и радость, вытесняя лица, и свет, и голоса, объявляя перерыв, перемирие, антракт, заснула.
2
В апреле фильм вышел на экраны. Большинство газет расхваливало его, «серьезные» журналисты высказались неопределенно, знатоки отзывались иронически, широким массам фильм нравился.
Горяев, автор сценария, вздохнул спокойнее, зимние его дела успешно завершились: картина закончена, сборник рассказов сдан в издательство, новая повесть в молодежном журнале шла под всеми парусами. Он почувствовал полную освобожденность, уловил запах весны и отправился в закусочную «Эльбрус».
В закусочной он встретил Бессарабского, заведующего отделом крупной газеты. Бессарабский был высок, он возвышался над дымящимися горшочками и молодыми людьми, любителями кавказской кухни, и махал Горяеву: иди сюда!
Горяев пошел к нему с неохотой: с Бессарабским надо было целоваться. Есть такие люди, что лезут к тебе целоваться всякий раз, хотя и встречаешься ты с ним не меньше трех раз в неделю.
Так и в этот день — Бессарабский поцеловал Горяева. Потом все было ничего, после поцелуя с Бессарабским можно было разговаривать, как с нормальным человеком, и Горяев с удовольствием поведал ему о том чувстве полной освобожденности, которое он сейчас испытывал, о том, как хорошо направлять свои стопы туда, куда тебе хочется в данную секунду, и не думать об обязательствах, не суетиться, не впадать в панику.
— А почему бы тебе не съездить в командировку от нашей газеты? — сказал Бессарабский. — Общнись, старик, с народом.
Он назвал новую стройку на большой сибирской реке и сказал, что нужен репортаж с этой стройки, «крепкий писательский репортаж о земле, о людях — в общем о борьбе, как ты сам понимаешь».
Горяев ту же согласился. Зимнее сидение в Москве успело ему надоесть. Он не мог долго находиться в этом городе, хотя и начинал по нему скучать сразу по прибытии в любое другое место земного шара, будь то внутри страны или за границей.
Они расстались с Бессарабским возле «Эльбруса», договорившись встретиться завтра в редакции для оформления командировки.
Горяев медленно пошел по направлению к Арбату. Он брел спокойно и безмятежно под сильным ветром, полным весенних прихотей и надежд.
День был пасмурный. Качались голые пока ветви Тверского бульвара. У Никитских ворот, среди торгующих киосков и тележек, на этом уютном московском перекрестке он встретил Таню Калиновскую, героиню своего фильма. При всех своих случайных встречах с ней он вспоминал прошлое лето в маленьком прибалтийском городе, веселье и суматошные дни и неведомо почему грустный отъезд. Кроме того, встречая Таню, он всегда надеялся на какой-то счастливый случай, на неожиданный поворот, на романтическую встряску.
Они пошли вместе дальше к Арбату. Горяев рассказывал Тане о своих делах, о рецензиях на свои книги, об одном критике, который вечно его «долбает», говорил о том, что засиделся в Москве, что послезавтра летит в Сибирь.
Таня гордо шествовала рядом, лицо ее было непроницаемым, в нем чувствовалось вот что: «Не трогай, не приставай, проходи-ка своей дорогой».
— Куда ты едешь? — спросила она.
Он усмехнулся и назвал город, и конечный пункт перелета, и стройку — Березанский металлургический комбинат.
«Ишь ты, интересуется, — подумал он. — Как будто это название ей что-то говорит. Она об этой стройке и понятия не имеет. В самом деле, что знают московские девушки о крупных сибирских стройках? В лучшем случае слышали краем уха».
Таня остановилась и почему-то уставилась в небо. Несколько секунд она приводила в порядок свои волосы.
— Можно я с тобой поеду? — спросила она.
Горяев засмеялся и осторожно похлопал ее по плечу.
— В самом деле, — резко сказала она. — У меня уйма времени и деньги есть, и мне тоже, знаешь, надоело здесь.
Через день они отправились в путь. Отправление было ночью из Внукова. Снова эти прекрасные минуты перед посадкой в огромный самолет, вращенье маленьких огоньков в черном небе, взвешиванье багажа, шутки транзитников, коньяк внизу, в буфете, лимон и по стакану боржоми, а девушке еще и конфетку, пожалуйста.
— Хорошая девушка.
— Не жалуюсь.
— Дорогой, продай плащ. Понимаешь, брату моему очень нужен такой плащ.
— Сочувствую твоему брату.
В полутемном салоне самолета, когда все уже перестали возиться, уселись и пристегнули ремни, Таня тихо сказала Горяеву:
— Пожалуйста, не строй никаких иллюзий. Ты понимаешь меня?
— Понимаю, — ответил он.
— Ну и прекрасно.
Она стала смотреть в окно.
— Больно нужно, — через минуту обиженно произнес Горяев.
Таня продолжала смотреть в окно. Как только самолет оторвался от земли, она откинула спинку кресла, прошептала: «Буду спать», — и заснула.
«Что ее понесло со мной? — думал Горяев, глядя на спящее ее лицо. — Эх, лучше бы мне поехать в Ригу! В Риге сейчас уютно, и ребята, не сомневаюсь, встретили бы меня весело. Весело было бы и уютно. Что я, Сибири не знаю, что ли?»
Утром они увидели под собой леса, потом реку, и пароход на ней, и кое-где белые пятна, одинокие льдины, потом сразу возник хорошо расчерченный пригород, вот уже мелькнули на уровне крыла обшарпанные ели, потом аэродромные постройки; толчок — и самолет дико заревел, тормозя.