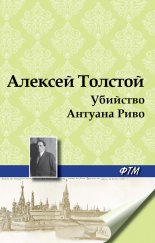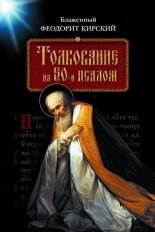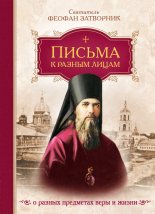Звездный билет (сборник) Аксенов Василий
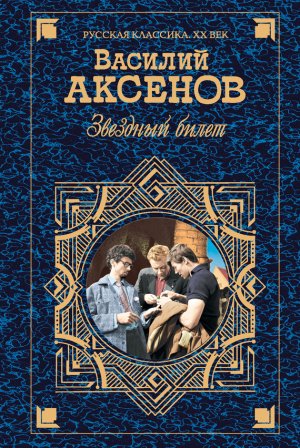
— Ты мой милый, ты мой хороший, — вдруг заревела она и сидит в платочек сморкается.
Прямо сердце у меня защемило.
— Я женатый, — сказал я. — И ребенка имею.
— Я знаю, — хлюпает она. — И все равно тебя люблю. Куда же мне деваться?
— Смотри кино, — говорю я. — После поговорим.
Там драка началась. Красивого этого малого избивает какой-то тип, похожий на гориллу. Ну подожди, и до тебя очередь дойдет, горилла!
— Ты! — завопил сзади солдат.
— Тише, пехота, — обернулся я, и солдат засмущался.
И вдруг от двери через весь зал кто-то как гаркнет:
— Югова на выход.
Я прямо подскочил, а Маша меня за руку схватила.
— Сергея Югова на выход!
— Что такое? Что такое? — лепечет Маша.
— Подожди меня тут, — сказал я и полез через ноги. Бегу по проходу и думаю: вдруг с дочкой что-нибудь, вдруг телеграмма?
— Вон к тебе, — сказали мне в дверях.
Я выскочил в фойе и увидел Таню. Она стояла у окна, и лица на ней не было.
— Что такое, Таня? — спросил я.
— Вы не видели Валю, Сережа? — спросила она.
— То есть как это? — обалдел я.
— Он пропал. Рано утром вышел из дому, и до сих пор его нет. Мы уже с Горяевым все возможные места обошли, нигде его нет.
— Найдется, — успокоил я ее, а сам ума не могу приложить, куда мог деться Валька и что там у них произошло. — Найдется. С Валькой такое бывает. Шляется где-нибудь целый день, а потом является.
— Поищите его, Сережа, — тихо сказала она.
— Ладно. Иди домой, Танюша, а через час я его тебе доставлю. Чистеньким, без пятнышка.
— Хорошо, — еле-еле улыбнулась она, — я пойду, а ты поищи, пожалуйста.
В фойе уже танцульки начались, народу было много, и я стал обходить зал и спрашивать знакомых парней:
— Вальку Марвича не видели?
— Нет, — говорили они. — Сегодня не встречали.
— Что же он, от жены сбежал, что ли? — смеялся кое-кто.
Но никто его не видел и не знал, где он. Я выбежал из клуба и побежал к Валькиному бригадиру. Случайно знал я бригадирову хату.
Бригадир сидел на солнышке во дворе и лодку свою конопатил.
— Нет, — сказал он. — Знать не знаю, где Марвич, но только с утра, как шел я в магазин, встретился он мне и попросил отгул на три дня. Полагался ему отгул. Я дал. Я к рабочему человеку справедливо отношусь.
Обошел я все пивные, магазины, на пристань сбегал, в ресторан даже пролез — нигде Вальки не было, а стало уже смеркаться.
В сумерках я снова подошел к клубу. Церковь белела на темном небе, над входом надпись зажглась из электрических лампочек, а на ступеньках чернела толпа ребят, только огоньки папирос мерцали. Я подошел к ребятам и затесался в их толпу. Стрельнул у того кочегара, с которым утром бился, папироску.
— Слышал? — сказал кочегар. — На сто восьмом километре человека убили.
— Какого человека? — спрашиваю я, а сам что-то нервничаю.
— Никто не знает, что за человек, и кто убил — неизвестно.
— Что это вы мелете? — говорю я. — Что это за брехня? Как это можно человека убить?
— Точно, — кивают другие ребята. — Убили на сто восьмом кого-то. Говорят, монтировками по башке.
— Таких фашистов, — говорю, — стрелять надо.
— Правильно, — согласились ребята. — Не срок давать, а прямо к стенке.
— Валька Марвич не заходил сюда, ребята? — спросил я.
— Нет, не видели его.
Что за пропасть! Может, он уже в вагончике давно со своей Татьяной, а я тут бегаю, как коза? Решил я сходить в вагончик.
Таня сидела впотьмах на койке и курила. А на моей койке сидел Юра Горяев. Они молчали и дымили оба. Я тоже сел на койку и сказал:
— Точно неизвестно, но вроде его бригадир в лес послал с другими ребятами на заготовку теса. Крепления там надо ставить. Аврал у них на участке какой-то.
И только сказал про лес, вдруг захлестнула меня какая-то темная волна, и я захлебнулся от страха. Вдруг это Вальку на сто восьмом километре убили? И сразу я почувствовал такую злобу, такую ненависть, какой никогда у меня не было. Если это так, найду этих зверей в любом месте, сквозь тюремные решетки пройду, а горло им перегрызу. Ишь что выдумали, сволочи! Вальку моего монтировками по голове? Ну, гады, держитесь!
— Где же он, мой Валька? — тихо спросила Таня.
8
Сережа ушел продолжать поиски, а Таня и Горяев остались в темном вагончике. Таня сидела, обхватив колени руками, смиряя дрожь. Ей хотелось куда-то бежать, кричать, расспрашивать, но она сидела, боролась с паникой — куда бежать, кого расспрашивать?
— Есть все-таки предел чудачествам, — сказал Горяев.
— Дай закурить. Спасибо. Ты о ком?
— О Марвиче. О ком же еще? Полезнее было бы ему быть сейчас в Москве.
— Он здесь работает по своей специальности, — сказала Таня.
Сейчас она была уверена в правильности Вальки, в мудрости и логичности всех его поступков, вот только куда он девался?
— Его искали люди с киностудии, — раздраженно сказал Горяев, — хотели заключить договор. Где он был в это время?
— Он, кажется, знает об этом, — тихо сказала Таня, у нее вдруг разболелась голова.
— Пора ему работать профессионально. Я говорил с ним, а он плетет какую-то ахинею, пижон!
— Тише, Юра. — Таня прилегла на подушку.
— Он что, собирает здесь материал для книги?
— Возможно. Почему ты так раздражен?
— Напрасно он темнит.
— Где он?
— Найдется.
— А вдруг нет?
— Он сейчас пишет что-нибудь?
Ее раздражал тон Горяева, но в то же время ее успокаивало, что он говорит о Вальке, о каких-то конкретных, практических его делах, и ей казалось, что сейчас откроется дверь и Валька войдет и ввяжется в спор с Горяевым.
— Пишет, кажется. Рассказ. Вон на столе листы.
Горяев взял со стола листы и прочел:
«Валентин Марвич. Полдома в Коломне (рассказ).
Когда из-за потемневшего от времени забора сквозь пыльные акации я вижу маленький мещанский дворик с чисто выметенной дорожкой, с поникшим кустом настурции, с кучей желтых листьев, со скамейкой и столиком на подгнившей ноге, и окна в резных наличниках, не деревенские, а именно мещанские, пригородные, мне хочется остановиться и посмотреть на все это подольше, задержать все это в глазах, чтобы вспомнить о той тихой русской жизни, какой ни я, ни брат мой, ни даже наш отец никогда не жили. Может быть, только дед.
Константин нетерпеливо отстранил меня, толкнул калитку и побежал по дорожке. Черный сюртук его с золотыми погонами замелькал среди ветвей, что еще усилило литературное воспоминание о старине, о тихом, установившемся культурном быте с внезапными возгласами радости, с неожиданным шумом, с шумными короткими визитами флотских сыновей.
Не знаю, было ли это только литературным воспоминанием, или здесь участвовала наследственная память, странная и неведомая до поры работа мозга, но я вошел в палисадник, словно под музыку, словно под вальс „Амурские волны“, словно из японского плена; горло мое перехватило волнение.
Отец уже спускался нам навстречу, крича, трубя, сморкаясь и откашливаясь:
— Опять без телеграммы?! Мерзавцы! Стервецы! Мало вас пороли!
Никогда он нас не порол и никогда не называл такими ласковыми словами, вообще совсем не так себя держал, но сейчас почему-то он точно подыгрывал моему настроению.
Дорожка к крыльцу была выложена по обе стороны кирпичами, поставленными косо один к одному, так, что получался зубчатый барьер. На столике в саду лежали отцовы очки и развернутый номер „Недели“. Отец был к кителе, наброшенном на плечи, и в начищенных до блеска сапогах. Я стоял, обремененный чемоданами, и смотрел, как жадно отец обнимается с Константином.
— А теперь очередь рядового состава, — хохотнул Константин, отстраняясь.
И отец насел на меня. Грубая мясистая его щека прижалась к моей, гладкой и тугой, руки его легли мне на шею, захватив ленты, бескозырка съехала мне на затылок.
— Демобилизовался? — почему-то смущенно спросил отец.
— Так точно! — лихо ответил я.
Я вспомнил на мгновение наш тральщик, и ребят, оставшихся на нем, и длинный ряд однотипных тральщиков у стенки, вспомнил, как беззаботно и весело прощался со всем личным составом, и сердце на мгновение сжалось от тоски. Со стыдом я почувствовал, что тральщик ближе мне сейчас и родней, чем отец.
— Водку привезли? — бодро спросил отец.
— Нет, — ответили мы.
— Ослы! — удивительно нежно пожурил он нас, и на голове у него появилась шляпа, нелепая соломенная шляпа тонкой выделки с ажурными разводами мелких дырочек для дыхания головы, услада периферийного домовладельца, очень нелепая на голове нашего отца, которого в детстве мы привыкли видеть в суконной фуражке а-ля Киров.
— В магазин! — скомандовал он.
Чемоданы были занесены на террасу, отец закрыл дверь, навесил замок, и мы пошли по дорожке. Оглянувшись, я посмотрел на дом. Дом, как и участок, был разделен на две половины, и другая половина, не принадлежавшая отцу, была свежепокрашенной, новенькой на вид, голубой, и там, на той территории, в зеленых грядках краснели помидоры, бегала собака, переваливались утки, маленькая девочка развлекалась на качелях — вообще кишела какая-то жизнь.
Отец остановился возле большого куста ярчайших цветов, кажется астр, крякнув, поправил подпорки и пошел дальше.
— Давно ли ты стал увлекаться цветами, батя? — спросил Константин.
— В цветах своя философия, — не оборачиваясь, буркнул отец. Затылок его покраснел.
Над низким заборчиком приподнялась шляпа, такая же, как у нашего отца, только сильно поношенная, и мы увидели человечка с крепенькими красными щечками, с шелушащимся носом, на носу очки.
— Приветствую! — сказал человек.
Мы с Константином замедлили было шаги, но отец, даже не взглянув на человека, прошел мимо.
— Сынки пожаловали? — пискнул позади человечек.
Отец распахнул калитку, и мы пошли вдоль внешнего забора.
— Отчего вы так нелюбезны с соседом, сэр? — весело спросил Константин.
— Жук, — сказал отец, — куркуль. Сосны рубит, корчует, под грядки ему земля нужна. Агротехник.
Человек опять выглянул. Оказывается, он все время бежал за нами вдоль забора, подслушивал.
— Вам хорошо говорить про сосны, Иван Емельянович, с вашей-то пенсией, — на бегу запищал он. — А у меня какая пенсия, вы же знаете, хоть и полагается персональная… Заслужил, да, да, — кивнул он мне, видя, что смотрю на него с вниманием. — Вы же знаете, Иван Емельянович, что я заслужил…
— Да ну вас совсем! — буркнул отец, смущенно оглядываясь на нас.
— Хорош коммунист! — воскликнул сосед. — К нему обращаются, а он „да ну вас совсем“!
Отец замедлил шаги.
— Оставьте, — сказал он. — Ну чего это вы? Чего вы продираетесь сквозь наши заросли? Одежду порвете.
— Обидно, — хлюпнул носом сосед, — сынки ваши приехали, а вы даже не знакомите. Когда касается игры…
— Знакомьтесь, — сказал отец.
— Силантьев Юрий Михайлович, — солидно сказал сосед.
Он сразу преобразился и смотрел теперь на нас несколько сверху, любовно, отечески строго.
— Ишь какие орлы у тебя вымахали, Иван Емельянович. Орлы, орлы! Оба с Северного флота? Ну как, граница на замке?
— Мы с ним в шахматы иной раз играем, — смущенно пояснил отец. — Чумной старик. Мемуары пишет о своем участии в революции, примерно так: „Помню, как сейчас, в 19-м году 14 империалистических государств ледяным кольцом блокады сжали молодую Советскую республику“. И излагает учебник истории для средней школы. Но в шахматах имеет какой-то странный талант. Играет, как Таль: запутает, запутает, подставляет фигуры. Кажется, победа в руках, вдруг — бац — мат тебе!
— Куда же ты теперь? — спросил меня отец за столом. — Может быть, продолжишь образование?
— Видишь ли, папа… — промямлил я, и вдруг меня осенило: — Понимаешь, есть у меня дружок, он служит на научной шхуне. Возможно, я пойду к нему на корабль матросом и аквалангистом.
— Матросом? Что ж… — Отец посмотрел себе в тарелку и замолчал, словно там, в тарелке, среди огурчиков и помидорчиков, угадывались очертания моей судьбы. Может быть, он просто боролся с легкими толчками опьянения.
— И аквалангистом, — подсказал я.
Константин расхохотался и подмигнул мне. Отец взбодрился и поднял вилку с огурцом.
— Пошел бы в свое время в училище, был бы уже… — Он посмотрел на Константиновы погоны. — Был бы уже старшим лейтенантом.
— Это штатский тип, батя, — сказал Константин, — законченный штатский тип. Шляпа.
— Я тоже штатский тип, — возразил отец, — но я…
— Нет, ты военный, — сказал Константин.
— В армии я был только год, юнцом — на Гражданской, а потом партийная работа, строительство — ну, вы знаете… Так что я гражданский.
— Нет, ты военный, — серьезно сказал Константин, — такой же военный, как я. А Петька гражданский. Шляпа.
Он ласково улыбнулся мне.
— Ну, ладно, — сказал отец. — Итак, дальше. Понимаешь, пришлось сосредоточить на перемычке всю технику, до сорока бульдозеров…
Он рассказывал о последней своей крупной стройке. Ужин наш проходил дружно, весело, уютно, вкусно, хмельно, свободно на террасе, в темные стекла которой бились мотыльки, на скрипучих полах, под голой лампочкой, с импровизированными пепельницами и клочками газеты для селедочных костей, по-мужски, по-солдатски, по-офицерски.
Когда я ушел спать, отец с Константином еще оставались на террасе. Лежа в темной комнате, я слушал их громкие голоса и думал.
Папа, думал я об отце. Брат, думал я о Константине. Шляпа, думал я о себе. Мама, думал я о далекой матери. Девушка, думал я о несуществующей девушке. Шхуна, думал я о выдуманной шхуне. Тральщик, думал об оставленных там, на Севере, друзьях.
Отец и Константин говорили о судьбах мира. Они расхаживали в дымных волнах, гремя, раскатывали шары своих голосов по опустевшей, притихшей в ожидании своей участи нашей планете.
Константин вошел в комнату, быстро стащил с себя обмундирование и лег.
— Эй, аквалангист! — крикнул он мне и сразу засвистел носом, заснул.
Я посмотрел на его молодой монетный командирский профиль и подумал о том, как скользит сейчас его подводная лодка, холодное тело в холодной среде под звездами, под пунктирами созвездий, под небом, под ветром, подо льдом.
Я видел отца через стеклянную дверь: он колобродил на террасе, собирал со стола — покатые его плечи с подтяжками, большие уши с пучками седых волос… Как мало я его видел в той его прежней жизни, он и родил-то меня чуть ли не в сорок лет.
Утром появилась женщина. Она вошла…»
На этом записи обрывались. Горяев бросил листы на стол.
— Утром появилась женщина, — сказал он, — все ясно. Не понимаю, зачем торчать в Сибири, если пишешь рассказы о Коломне. Ты читала?
— Отстань, — буркнула Таня.
Горяев встал в крайнем раздражении.
— Я знаю, что вы относитесь ко мне неуважительно, и ты и Марвич, но пусть он сначала достигает профессионального уровня…
— Отстань ты от меня! — закричала Таня и села на кровати. — Какое мне дело до его профессионального уровня! Лишь бы он был со мной, и все! Мне все равно, что он делает, пишет или копает землю, только где он?
— Ладно, я пошел его искать, — сказал Горяев.
— Подожди! Не уходи! Сядь лучше здесь. Говори, чеши языком. Ну, значит, что ты думаешь об его уровне?
9
К вечеру воскресного дня Марвич был уже довольно далеко от Березани. «Голосуя» на развилках разбитых дорог, он добрался до населенного пункта Большой Шатун, по сравнению с которым Березань выглядела столицей, шумным и благоустроенным городом.
В Шатуне он зашел в столовую и полез через толпу шоферов к окошку. В окошко выставили ему тарелку с куском жирной свинины и с картофельным пюре.
Он слабо представлял, что с ним происходит. Почему сегодня утром он вышел из вагончика, оставив там Таню в тепле, в бликах солнца, в одиночестве, в счастливом полусонном состоянии? Почему вдруг встретился ему бригадир? Почему вдруг подошел необычайно синий автобус? И почему он сел в него?
Всю ночь Таня шептала ему что-то, и он ей шептал. Светились фосфорические цифры и стрелки будильника. Приемник, передававший без конца джазовые концерты, к утру уже просто тихо гудел. Маячила в глазах оставленная Сережей тельняшка. Марвич пытался думать, пытался расставить все знаки препинания и произвести подсчет, но Танина рука тянулась к нему, он поворачивал ее лицо, глаза ее то открывались, то закрывались, было жарко. Запах табака и ее духов.
Вчера по дороге домой она стала казниться, чуть ли не кричала, все говорила о прошлом лете, но он крепко держал ее под руку и говорил: «Перестань, не наговаривай на себя, замолчи, я люблю тебя, я люблю тебя…»
Он мешал ей думать о неприятном и страшном, а сам все думал, думал, все всплывало перед его глазами без плеска, без звуков: очертания башен и темная щель улицы, спокойный маленький город и несколько пришлых людей на его бюргерских улицах, затеявших с этими людьми неприятную игру; последнее — на вокзале, на слабо освещенном перроне: долговязый призрак его собственной юности, а сам он на подножке вагона, мужественный и железный, отбывающий в странствия… Он все думал и думал о человеке, который умер, о парне, которого теперь нет, но тут в ночи и духоте Таня начала ему мешать думать, она вмешивалась в его мысли властно по-женски и бездумно: тихими движениями рук, тихими губами, зрачками, светившимися в темноте, — сама уже забыв обо всем, мешала и ему думать.
Наконец к утру она уснула, и он стал смотреть на нее спящую, на все ее тихое существо, лишенное сейчас суеты и тревог, на тот ее образ, который всегда был с ним, в каждую минуту его одиночества и везде, и ему вдруг стало страшно, что она сейчас вздрогнет и проснется с мыслями о своей вине и о невиновности, с угрызениями совести и, главное, со словами, которые сейчас ему не нужны никак, сейчас она нужна ему вот такая, постоянная и молчащая, и он тогда ушел…
Он доел свинину, подчистил всю тарелку на краешке общего стола, сколоченного из длинных досок. Доски не были подогнаны друг к другу и плохо обструганы, но края стола были уже отполированы рукавами шоферов. Водители сидели вплотную друг к дружке, глаза их были мутны от усталости.
Народу было много, часть людей стояла с тарелками, дожидаясь места за столом, кое-кто ел стоя, держа тарелки на весу. Как всегда, в столовой было шумно, водители разговаривали друг с другом, но шум в этот раз был необычный, не слышно было смеха, шуток, голоса звучали резко и напряженно.
Марвич краем уха слышал, что все шоферы только и говорят о малопонятном, диком случае, о каком-то убийстве. Убийство? Какое убийство?.. Кого убили?.. Ему было сейчас не до этого.
Он вылез из-за стола и вышел на крыльцо. Надел кепку, закурил. Над лесом плавилась медная полоса неба в просвете фиолетовых туч. Поселок уже отходил ко сну. На горбатых его улицах не было ни души. Кое-где слабо светились крошечные оконца. Лишь возле столовой скопились проезжие машины, бортовые и фургоны. Молчащие и пустые, они стояли сплошной темной массой, и только в ветровых стеклах чуть отсвечивал запоздалый и медленный, будто вечный, закат.
Хлопнула сзади дверь, на крыльцо вышел большой темный человек. Так же, как и Марвич, он нахлобучил кепку и закурил. Несколько секунд постоял на крыльце, щелкнул языком, затопал вниз и медленно пошел к своей машине.
— Подвезешь до леспромхоза? — крикнул ему вслед Марвич.
— Садись, — ответил водитель, не оборачиваясь.
По тому, как он тронул с места свой «ЯЗ», как приподнялся на сиденье, устраиваясь поудобнее, как сделал поворот, Марвич сразу понял, какой это классный водитель. Они ехали молча и быстро. Прогрохотали через Шатун, простучали бешеной дробью по колдобинам грунтовой дороги через поле и вдруг въехали в огромный настороженный лес на гладкую и прямую автостраду.
— Откуда тут бетонка? — удивился Марвич.
— Год уже, — недружелюбно ответил водитель.
И оба замолчали на много километров вперед. Ничто их не тянуло за язык, у шофера были спички, а у Марвича — зажигалка, и сигареты у каждого были свои, оба нуждались в молчании и скорости, больше ни в чем.
Марвич бездумным взглядом смотрел вперед на дымный свет фар, на холодный туман и острые пики елей, он словно одеревенел и перестал себя ощущать, но вдруг вздрогнул, почувствовав, что водитель косится. Он тоже покосился — водитель смотрел прямо перед собой. Лицо у него было сухое и недоброе. Тяжелые руки лежали на баранке, на большом пальце правой не было ногтя.
«Ну и личность, — подумал Марвич и встряхнулся, сбрасывая оцепенение. — Если он затормозит и полезет за ключом, я нажму на ручку двери и выскочу. Если он побежит за мной в лес, я не стану убегать. Посмотрим еще, кто кого. Я его брошу через себя. Могу и руку тебе сломать, голубчик».
Шофер опять покосился, и у Марвича перехватило горло от страха и от предчувствия боя.
«Теперь смотри, — говорил себе шофер, — смотри внимательно. Как опять полезет в карман, смотри в оба. Этот тип может и „пушку“ из кармана вынуть. Если вынет что-нибудь такое, сразу тормози. И по руке ему бей, не по роже, а по руке.
Тип неизвестный и подозрительный. Зачем я его взял? Они ведь про зарплату всегда знают. Полез в карман. Нет, зажигалку вынул. Все равно смотри».
Машина проносилась по темному шоссе, по бледным слоям тумана, что стелился по дороге, поднимаясь из болот.
— В леспромхозе когда будем? — спросил Марвич. Он уже вполоборота сидел к шоферу и следил за ним.
— К полночи, — ответил шофер и закусил губу.
Марвич тихо засвистел, стал выводить свою студенческую мелодию «Сан-Луи блюз».
«А какая ему с меня корысть? — подумал он, внимательно разглядывая шофера. — Разве что кожаная куртка. Впрочем, если он урка…»
«Свистишь? — думал шофер. — Усыпить бдительность хочешь? Хрен тебе!»
Он свернул машину к обочине и остановился. Тоже сел вполоборота к своему пассажиру, полез в карман, вынул пачку папирос.
— Будешь? — спросил он и протянул пассажиру пачку.
Марвич вытащил папироску и щелкнул зажигалкой. Оба закурили.
— Иностранная? — спросил шофер про зажигалку.
Марвич протянул зажигалку:
— Австрийская. Жена подарила. Не гаснет на ветру.
Шофер рассмотрел зажигалку, дунул в нее, вернул.
— Вещь, — сказал он.
С минуту они курили молча, поглядывая друг на друга. Блестели их глаза.
— Слышал? — сказал шофер. — На сто восьмом километре человека убили.
— На сто восьмом? Как же это так?
— Вот тебе и «так». Убили, и нету его.
— Кто этот человек? — спросил Марвич, очень сильно волнуясь.
— Водитель из четырнадцатой автоколонны.
— А кто убил? Ограбление, что ли?
— Какое там! Заснул этот парень за рулем и встречную слегка задел, фару ей разбил. А те прибежали — трое, стали права качать, а потом монтировками его по голове. Забили до смерти.
— За фару?
— Ага, за фару.
— Зверье! — воскликнул Марвич.
Водитель промолчал, выбросил окурок в окно и снова взялся за руль. Они помчались дальше, больше уже не косясь друг на друга.
— А ты бы мог человека за фару монтировкой по голове? — спросил Марвич.
— За фару? — переспросил водитель. — Ты что, псих? Может, только по уху ладошкой хлопнул бы.
Он помолчал и кашлянул.
— А может, и по уху бы не дал. Пустил бы матерком, и все.
— Зверье! — снова воскликнул потрясенный Марвич. — Откуда только такое зверье берется?
— Откуда? — сказал водитель. — От верблюда.
Мимо промчалась первая за все время встречная машина, военный «ГАЗ-69». Тайга поредела, мелькнули какие-то постройки, радиомачты, потом опять началась тайга.
— Сам из Березани? — спросил водитель.
— Да.
— Кошеварова знаешь?
— Эдьку?
— Николаевича знаешь?