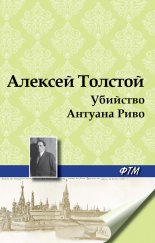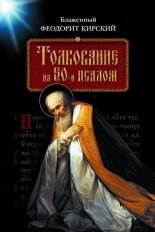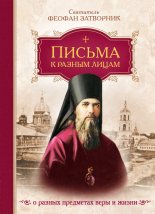Звездный билет (сборник) Аксенов Василий
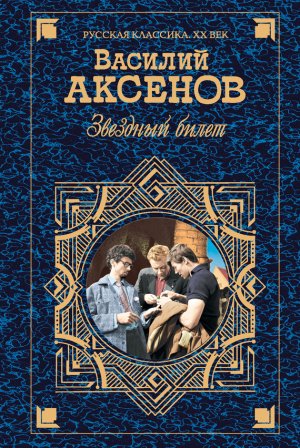
— Семена?
— Валерий. — Водитель ткнул Марвичу ладонь.
— Валентин. — Марвич пожал ее.
— Почти тезки, — хмыкнул водитель. — А я ведь думал, друг, ты ко мне нехорошее имеешь.
— Я тоже так про тебя, — сознался Марвич.
Они вдруг весело и разом расхохотались.
— Я про тебя слышал, — сказал водитель.
— Ну ладно, — сказал Марвич.
— Ты знаешь, знакомый он мне был, этот из четырнадцатой колонны.
— Ужасно, когда знакомые парни умирают, — проговорил Марвич. — У меня прошлым летом друг погиб. Как будто кусок от меня самого отрубили.
— Ага, — кивнул водитель. — Понял, знакомый был, на вечеринки вместе мы с ним ходили.
— Поймали тех троих? — спросил Марвич.
— Нет. Никто не знает, кто такие. Эх, мне бы их поймать…
— Что бы ты с ними сделал? — спросил Марвич.
— Ну, не знаю, — напряженно вздохнул водитель.
Мотор работал ровно, спокойно, сильный человек Валера морщил лоб, думал свою думу.
«На дорогах любых — и вблизи и вдали — славься дружба шоферов российской земли», — вспомнил Марвич.
В леспромхоз они приехали к часу ночи. Марвич пошел искать квартиру врача. Этот грузный молодой и одинокий человек был ему знаком. Он был из породы русских лесных врачей. Он говорил такие слова: «дружище», «да, брат», «нет, брат», «вот, брат, какая заковырина получается», — хоть и окончил институт в Ленинграде. Раз в месяц он приезжал из леспромхоза в Березань, в книжный магазин, где они и познакомились с Марвичем. Сошлись на том, что Пушкин — великий русский поэт.
Найти квартиру врача во втором часу ночи в этом заброшенном в тайге леспромхозе было нелегко. Самый был сейчас сон. Глухота и немота вокруг. Марвич блуждал во мраке, перебирал руками штакетник, за которым надрывались невидимые яростные псы. Он отмахивался от лая и вновь уходил к одинокому фонарю возле склада, под которым спал сторож в дохе. Трижды он пытался разбудить сторожа, но это оказалось невозможным Сторож был не из тех, что просыпаются.
Отчаявшись, Марвич решил уже заночевать в любом сарае на опилках, как вдруг увидел светящееся окошко и в нем под зеленой лампой лобастую голову врача.
— Ну, брат, ты меня огорошил, — сказал врач, раскрывая объятия.
Они сели играть в шахматы. Играли и ели кое-что из консервных банок.
— Ну, брат, разложил ты меня, — сказал утром врач и ушел на работу.
А Марвич отправился на почту и дал телеграмму Тане в Березань: «Не волнуйся, буду через два дня». Он опомнился наконец.
Днем он пошел на реку, шум которой в леспромхозе был слышен всегда. Река текла в укромном месте между лесистыми сопками, была она быстрой, бурлила, завихрялась, кое-где над валунами взлетали брызги.
Здесь не было ничего, кроме реки и леса. Кроме елей, лиственниц, осин. Кроме серых валунов, стоящих в воде с бычьим упорством. Здесь трудно был представить мир людей, охваченных страстями, спорами, борьбой. Здесь придавалось значение иным явлениям: движению воды и стойкости валунов, осадкам и гниению, метеоритам, летящим сюда из бесконечных пучин космоса.
Этот мир не был навязчивым, он был густым и спокойным, в общем доброжелательным, он не стремился вовлечь тебя в свою жизнь и подчинить своим законам, у него хватало дел и без тебя. Здесь можно было просто разлечься на валуне и глядеть в небо, успокаивать нервы или лихо фантазировать, стремиться ввысь, можно было думать о себе все, что угодно, можно было преувеличивать свое значение, а также можно было курить, свистеть, плевать, читать книгу, ловить рыбу, биться головой о камни или тихо страдать.
Поднимите воротник куртки, нахлобучьте поглубже на глаза кепку — кружение речных водоворотов, весеннее верчение воды заставит вас несколько минут просидеть на одном месте, не двигаясь, не думая, сосредоточиваясь. Подняв взгляд выше и заставив его скользить по серой, проницаемой далеко вглубь стене весеннего леса, вы вспомните историю человечества от Месопотамии и Ханаанской земли до первых космодромов с веселыми вашими современниками, и, уже устремившись к нему, имея перед собой одно лишь чистое небо, вы станете думать о том, о чем вам хочется подумать сейчас.
Жалко Кянукука, жалко Кянукука, жалко «петуха на пне», эту ходячую нелепость, жалко человека.
Вечером, когда солнце село в тайгу, с огромного пустынного неба донесся до Марвича тяжелый надсадный гул, отозвавшийся в груди. Это шел на Восток большой пассажирский самолет. Он был хорошо виден отсюда, из земных дебрей, маленькая блестящая полоска в огромном небе. Марвич задрал голову и подумал о своей стране.
«Мне отведена для жизни вся моя страна, одна шестая часть земной суши, страна, которую я люблю до ослепления… Ее шаги вперед, к единству всех людей, к гармонии, к любви… Все ее беды и взлеты, урожай и неурожай, все ее споры с другими странами и все ее союзы, электрическая ее энергия, кровеносная система, ее красавицы и дурнушки, города и веси, фольклор, история — все для меня, и я для нее. Хватит ли моей жизни для нее?»
Он лежал на койке врача, слушал последние известия из Москвы, когда раздался сильный стук в дверь. В комнату вбежал Валера, запыхавшийся, красный. Он присел на табуретку и уставился на Марвича своим диковатым прищуром.
— Хочешь отличиться? — еле выговорил он.
— Снимай ватник, Валера, — сказал Марвич. — В шахматы играешь?
— Я тебя спрашиваю: хочешь отличиться? Этих трех мне сейчас показали, которые на сто восьмом… Понял?
— Что-о? — Марвич сел на койке.
— Эти гады, говорю, здесь объявились. На танцы пошли. Потанцуют они сегодня!
— В милицию надо сообщить, — сказал Марвич.
— Нет уж, — сказал Валера, — тот парень знакомый мне был. Тут уж я как-нибудь сам.
Он вскочил и стал застегивать ватник, сорвал крючок.
— Не надо так, Валера, — медленно сказал Марвич.
— Ладно. Не хочешь, обойдусь.
Двумя шагами он пересек комнату. Хлопнула за ним дверь. Марвич вскочил и схватил куртку.
— Подожди.
Он догнал Валеру, и они пошли вместе по темным улицам поселка. Над поселком, над бедными его крышами висел косой медный просвет. От спокойствия Марвича не осталось и следа. Валера, идущий рядом и чуть впереди, подчинил его гневу и ненависти, горькому воспоминанию о человеке, которого бросили в кювет на сто восьмом километре.
— Валера, — позвал Марвич, вытирая со лба холодный пот. — Погоди.
— Только поймать их хочу, — неожиданно громко и чисто сказал Валера, — только поймать. Я убивать их не буду. Что я, зверь? Поймаю и в милицию сдам, а там уж пусть хоть срока клепают, хоть вышку… Мы их поймаем, Валька. Ведь они трусы. Мы их сами поймаем…
В клубе, в тесном зальчике, играл баянист. Танцы были внеурочные, непраздничные, состоялись они только из-за того, что кинопередвижка не приехала, и поэтому не было в них особого энтузиазма. Так себе, кружилось несколько пар, а остальная публика стояла вдоль стен.
— Вот они, — тихо сказал Валера. — Все трое тут.
Убийцы стояли рядом с баянистом. Ничего в них не было примечательного на первый взгляд: один кряжист, другой высок, а третий прямо-таки хил; не были они, как видно, и очень-то дружны друг с другом, только общее убийство соединило их, и только это событие заставляло их держаться с некоторым вызовом, с подчеркнутой решительностью.
Марвич и Валера, стоя в дверях, разглядывали убийц. Те их не замечали — вернее, не обращали на них внимания. Им важно было лихо провести сегодняшние танцы, никому не дать спуска и не потерять друг друга, они нервничали.
Один из них подошел к баянисту, нажал ему на плечо и сказал:
— А ну-ка, друг, сыграй «Глухарей».
Баянист свесил голову и заиграл. Убийца запел:
- Выткался на озере алый свет зари,
- На току со стонами плачут глухари,
- Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло,
- Только мне не плачется, на душе светло.
Он пел и улыбался девчатам, а девчата почему-то ежились под его улыбками, словно чувствовали, что здесь дело нечисто. Убийца пел, заложив палец за лацкан, он пел, как артист, и правда, голос у него был приятный, он умел петь, похож он был по виду на культурника из дома отдыха. Двое других попроще тоже улыбались и поводили плечами. Сапог одного из них слегка отстукивал такт.
Валера и Марвич смотрели на них.
Убийца кончил петь и улыбнулся, ожидая аплодисментов, но аплодисментов не было, хотя он действительно пел хорошо. Баянист заиграл танго, и зал, словно вздохнув с облегчением, стал танцевать. Убийцы стояли вместе и шептались смеясь.
— Я этих двух возьму на себя, а ты певца, — сказал Валера.
Марвич кивнул.
— Пошли, — сказал Валера.
Они пробрались сквозь толпу танцующих и подошли к убийце.
— Ну ты, певец, — сказал Валера и легонько ударил сапогом по ботинку «певца». — От твоего пения… хочется. В гальюне тебе петь, а не здесь.
— А ну, отойди! — предупредил «певец», но видно было, что он испугался.
Придвинулись двое других. Баянист поднял широкое и бледное, безучастное свое лицо.
— А эти хмыри тоже поют? — спросил Марвич Валеру.
— Выйдем, — сказал «певец».
Все пятеро, сбившись в кучку, зашагали к выходу. Шли, касаясь друг друга плечами.
— Жить вам надоело? — взвизгнул маленький на улице, за углом клуба.
— Надоело, — медленно проговорил Валера, — как тому, со сто восьмого километра.
И с одного удара он сбил с ног маленького.
«Певец» выхватил нож, а кряжистый парень поднял кирпич.
Марвич ударил «певца» ногой, пытаясь сбить его, но тот отскочил и пошел на Марвича, держа перед собой нож. Марвич уклонился, и они стали кружить на одном месте, выбирая момент. Рядом сильно и жестоко бились Валера и кряжистый. Краем глаза Марвич заметил, что маленький зашевелился.
«Певец» шипел, бросая в лицо Марвичу грязные ругательства. Он кружил на согнутых ногах и глядел на кружащего тоже парня с настороженным, но спокойным лицом.
Марвич не испытывал злобы к «певцу» и поэтому знал, что проиграет. Он силился вызвать злобу, но она не появлялась. Если бы он видел, как они били монтировками того, из четырнадцатой автоколонны! Тогда в нем возникла бы злоба и он одолел бы «певца». А так он проиграет, это бесспорно, только ставка слишком уж большая в этой игре.
«Певец» тоже не испытывал злобы к нему и от этого приходил в отчаяние, впадал в истерику. Но он знал, что злоба появится после первого удара. Когда они на сто восьмом километре «качали права» тому человеку, они не испытывали к нему злобы. Но когда один из них ударил его монтировкой по лицу и тот закрылся, все они почувствовали какой-то подъем и стали колотить его, а парень был поражен: он до конца не верил, что они его убьют, — и злоба на него распирала их, и они его били до тех пор, пока он не перестал дергаться.
— Сука, нечисть болотная, — шипел «певец» сквозь слезы, — я тебя сейчас отправлю к тому покойничку…
— Не шипи, — говорил Марвич, — бросай нож! Все равно тебе конец.
Он заметил, что маленький встает.
— Сначала тебе будет конец… — плакал «певец». — Сначала тебе.
Маленький побежал к ним.
Валера и кряжистый катались по земле.
«Если бы найти какую-нибудь железку», — подумал Марвич.
Маленький с разбегу бросился на него. Марвич упал, но в последний момент успел схватить «певца» за запястье с ножом. Маленький делал ошибку: хрипя, он бил Марвича по голове, а надо было вывернуть ему руку, последнюю его надежду.
Валера уложил наконец кряжистого и побежал на помощь Марвичу, но кряжистый не думал долго лежать. Он встал и побежал за ним.
В это время недалеко остановилась грузовая машина, и двое пошли от нее к клубу, покуривая. Один их них увидел за углом ворочающийся клубок тел, отбросил папироску и побежал. За ним побежал и второй — шофер грузовика.
Все решилось в несколько секунд. Подбежавший оглушил «певца», а Марвич оседлал маленького. Кряжистый побежал было, но его задержали выходящие из клуба люди. Все было кончено.
Валера вытер лицо и вдруг сказал кряжистому с горечью и сожалением, чуть ли не со слезами:
— Глупые вы ребята!
Опять вдвоем в кабине грузовика возвращались Марвич и Валера в Березань.
— Ты разбираешься в людях, Валера? — спросил Марвич.
— Не до конца, — ответил Валера.
Привалившись к дверце, Марвич задремал и только иногда сильно вздрагивал во сне.
10
Всеобщее оживление и смех вызвало падение с грузовика большого зеркального шкафа. Батюшки, он угрожающе накренился — и напрягся, раздулись мышцы ребят, на гладкой коже добровольцев-грузчиков выпятились и стали лиловыми балтийские и черноморские якоречки, могучие сердца, пронзенные стрелами лукавого Эрота, и «не забуду мать-старушку», и — поехал-поехал-поехал вниз и вбок, зеркало огромной своей поверхностью на миг отразило все солнце сразу, а в следующий миг — все голубое небо сразу, а в следующий момент — много молодых комсомольских лиц, глаза и рты в веселом ужасе, хозяина шкафа, в восторге бросившего шапку в небо, и шкаф грохнулся углом наземь, повалился, чуть разъехавшись по швам, но сохранил всю свою мощь и внутренний свет и словно объявил, как большое радио: «Поздравляю с праздником!»
Это назвалось так: «Сдача в эксплуатацию жилого массива для семей строителей Березанского металлургического комбината». В толпе, запрудившей жилой массив, было много наших знакомых.
11
Заключительные диалоги
Таня и Марвич.
— Сияешь?
— Тихо сияю.
— Сияешь, как блин, — сказала Таня, косясь.
— Я рад. Я траншею для них копал.
— Ну и что?
— Как что? Горячая вода. Стирка, баня, мытье посуды.
— Только из-за этого сияешь?
— Из-за тебя. Я тебя люблю на целый век, милая, милая, милая…
— Мы ведь с тобой в разводе.
— Суда еще не было. Суд не состоялся за неявкой истца.
— Кто это истец?
— Я истец.
— А я кто?
— Ты истица.
— Истец и истица. Хорошая парочка.
Марвич и Горяев.
— Я мало еще пережил, мало видел людей.
— Флобер всю жизнь провел на одном месте.
— Ну, уж вы и сказали — Флобер!
— Как вы относитесь к моим работам?
— Положительно. Вы…
— Старик, я профессионал, вы понимаете? Я не хвастаюсь, просто у меня такой разряд.
— Вас не пугает аморальность нашего ремесла?
— То есть?
— Помните у Брюсова: «Сокровища, заложенные в чувстве, я берегу для творческих минут»? Бр-р-р!
— Что делать, такова наша судьба. Если хотите, это героизм.
— А если перевернуть этот тезис наоборот?
— Ах вот как! Оригинально, но не профессионально. Для чего вы пишете?
— Может быть, для того, чтобы разобраться в своей жизни.
— А другим это интересно? Читателям?
— Я ничем не отличаюсь от них. Я — один из них.
— Старик, оставим этот спор. Он бесплоден.
— И туманен.
— Салют!
— Салют!
Марвич и Мухин.
— Мухин, ты все время думаешь о войне, да?
— Часто. А ты?
— А для меня война — голодное пузо и весенняя кашица в драных американских ботинках. У нас был «литер А», но все равно не хватало: родственники съехались со всего мира. Я ведь маленьким тогда был, Мухин.
— А мне все кажется, что и ты воевал, и Сережа тоже. Наверное, потому, что лет своих не вижу. Знаешь, как будто вы мои кореша еще с лодки.
— Мы оба?
— Ага. Все-таки чудиком я был, чудиком и остался.
Югов и Марвич.
— Валька, насчет Таймыра Тамарка категорически.
— Что ты, Сережа, все насчет Таймыра хлопочешь? Нам еще здесь больше года вкалывать.
— Понимаешь, с одной стороны, семья и требуется оседлая жизнь, а с другой — каждый день снимать номерок и вешать на одном месте, это мне не светит.
— Да, я понимаю, и дочка у тебя.
— Ага, а земля-то большая.
— И Тамара.
— Море в меня влезло, в ярославского мужика, — вот в чем дело, беда.
— А что, если…
— Есть идея? Выкладывай?!
Марвич и Кянукук.
— Молодец, что успел. Давай вещички! Все дела? Богато живешь.
— Поехали, Валя, да?
— Куда мы едем, Валя?
— Предупреждаю, у меня бензин на нуле.
— Ничего, у меня еще есть на два-три выхлопа.
— Ночь, Валя.
— Что?
— Ночь. Темно. Хорошо ехать.
— Ты прав, хорошо ехать к друзьям.
Таня и Марвич.
— Валька, зачем ты тогда уехал в этот леспромхоз, оставил меня?
— Мне надо было побыть одному, — медленно проговорил Марвич.
— Ты и дальше будешь так исчезать иногда, таинственно испаряться?
— Наверно.
— Веселенькая передо мной перспектива, — вздохнула она.
12
Предчувствия близкой разлуки, кап-кап-кап — каплет с рукомойника в тишине, мне надо уезжать, ну что ж, настрой получше, вот так хорошо. Когда мы встретимся? Осенью отпуск, а у меня как раз съемки, я приеду туда, смешно, да, смешно, все тебе смешно, сплошные банальности, любовный шепот, здесь цветут цветы? А почему же нет? Забавный вагон, он едет? Все время едет, ночь на колесах, шум ночной смены, ты и я — это огромно, а если сощуриться? Тогда нас и не видно совсем, мир велик, а иногда мал. Ты любишь Пушкина? Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит…
1963 г.
Рандеву
Это было в давние времена, в середине шестидесятых…
Его все узнавали из среды интеллигенции. Девушки из среды интеллигенции узнавали пугливо, а самые интеллигентные из них узнавали всепонимающей улыбкой. Приезжающие в командировку молодые специалисты с ромбовидными значками узнавали открыто и восторженно, посылали к нему за столик бутылки шампанского, старались послать «сухое», но если нет, то хотя бы «полусладкое» — так и скажите, товарищ официант, от молодежи почтового ящика 14789. Пожилые специалисты узнавали его лукаво, потом серьезно стремились вступить в контакт с целью обсуждения важных вопросов. Что касается мало-мальски интеллигентных иностранцев, то они все и всегда узнавали его. Нервно одергивая свои твиды, угодливо и беспомощно виляя в лабиринтах могучего русского языка, иностранные профессора тянулись к нему, чтобы путем беседы выяснить что-нибудь такое важное, а потом развить это важное в ученых записках, внести свой вклад в разгадку русской души.
Его узнавали многие люди и из других сфер. Всякий, кто следил за ходом нынешней жизни, узнавал его. Милиция, ОРУД-ГАИ — те его знали. Даже швейцар ресторана «Нашшараби» помнил его в лицо.
Иные злыдни, доморощенные сальери, делали вид, что не узнают его, а если и узнают, то плюют на него, что он им уже надоел, что говорить о нем противно и банально, и они говорили о том, что это противно и банально, долго и упорно, а потом переходили к злым сплетням и фантастическим анекдотам о нем, и становилось ясно, какая он важная персона для них, для их отжатой и высохшей жизни.
Но сейчас он топал в своих моржовых пьексах, купленных прошлой осенью в Рейкьявике, в своем популярном пальто по серой и белой московской зиме, по мягкому мутному дню, по предновогодней улице Горького, сейчас он топал, мало узнаваемый в густой толпе, приветствуемый лишь редкими криками, задумчиво-долговязый, впавший вдруг в меланхолию.
И вдруг публицистика показалась ему скучной и ненужной, и вдруг душа его затосковала по далекой еще весне, по встрече, которой он ждал всю свою громовую жизнь.
А о себе-то ведь никогда не думал. Все битва, схватка, опровержение, предположение, движение вперед и слезы общие из глаз, а где же моя-то слезинка, маленькая моя, где ты?
Та девушка таитянка на поэтическом вечере, которая таитянскими мягко-искрящимися глазами смотрела на него давеча из третьего ряда… Он успел ей крикнуть тогда: «Вы таитянский цветок, вы — лотос! А я — русский можжевельник! Поняли? Я русский можжевельник! Знаете, что такое можжевельник?» Она кивала ему в водовороте лиц, тянула к нему свою узкую руку, но толпа уже уносила его в другую сторону.
Тут у магазина подарков под хлопьями снега стали складываться стихи о девушке-таитянке, тут вдруг, совсем забывшись перед лицом всенародно узнавшей его толпы, Лева Малахитов, тридцатитрехлетний любимец народа, сложил стихотворение о русском можжевельнике.
- Я можжевельник, можжевельник маленький,
- А вы цветочек таитянский аленький…
- Я можжевельник, я — по грудь в снегу,
- Ко мне медведь выходит на поживу.
- Но вы, на таитянском берегу,
- Не верьте прессе, суетной и лживой!
— Сочиняет, — говорили в толпе.
— Сейчас рванет!
— Лева, давай!
— Лева, выжми на полную железку!
Закончив стихи и вздрогнув, он увидел вокруг множество светящихся лиц. Сердце его рванулось, колоколами загудела восторженная кровь, он распахнул пальто, стащил с головы уральский свой треух, купленный в Монреале, и стал читать…
Совсем недавно отгремел «матч столетия», в котором Лева защищал ворота сборной хоккейной команды нашей страны. Он защищал их смело и решительно от нападения жутких канадо-американских профессионалов, сборной команды «Звездной лиги». Одну из звездных троек возглавлял сам Морис Ришар, хоккеист № 1, старый Левин приятель еще по вынужденной посадке на острове Кюрасао.
Вот что произошло: в конце третьего периода Ришар получил право на буллит, то есть на поединок с вратарем нашей сборной, с Левой Малахитовым, любимцем народа.
Вот Ришар стоит, согнувшись, выставив вперед свою страшную клюшку. Вот Лева стоит, в своей вратарской маске похожий на паяца. Вот они оба стоят в неожиданном звуковом вакууме после пятидесяти девяти минут ураганного рева.
Счет 2: 2. Буллит Ришара — последняя надежда «звездных» на выигрыш. Верное дело, стопроцентный шанс.
Вот грозный Ришар покатился к Леве, грозный Ришар и могучий, сверкающий платиновыми зубами, пиратской серьгой в изуродованном ухе, хромированной головой; медленно надвигается он с выпирающими мускулами, как бронированный Ланцелот, грозный Ришар, главный гладиатор мира, это ведь вам не какой-нибудь упаковщик из Келовны.
«Морис, ты идешь на меня, — думал Лева, — ты идешь на меня, рыжий буйвол Канады, как сказал Семен Исаакович. Мальчики мои, Локтев, Альметов и Александров, братья Майоровы и Вячеслав Старшинов, мама моя, скромный библиотекарь, ты, мой Урал седовласый, и Волга-кормилица, жена моя Нина, святая и неприступная, товарищи дорогие из всех кругов общества, видите, вот я стою перед ним, худенький паяц, бедный Пьеро, простой пастушонок с Урала. Морис, в тебе нет пощады, ты обо всем забыл, Морис. Вспоминаешь ли ты в эту секунду вынужденную посадку на Кюрасао? Помнишь, как кувыркался наш „Боинг“, падая в океан, и все мои девочки, любимые стюардессы, героически боролись с нашим плохим самочувствием, и как мы еле-еле выровнялись над океаном и еле дотянули до Кюрасао, а мы с тобой вечером пошли в бар с этими храбрыми девочками из компании КЛМ, а в баре, где нас узнали, была овация, и я на своем маленьком „страдивариусе“ играл Паганини, а ты, Морис, делился опытом силовой борьбы, и хозяин, растроганный, нам с тобой треугольные часики подарил, равных которым нет в мире. Где твои часики, Морис? Мои в раздевалке. А где же твоя мама, Морис, маленькая кассирша Армии спасения из твоего родного Квебека? А-а-а, сейчас ты сделаешь финт, Морис, а потом швырнешь шайбу, как кусок твоей безжалостной души, но я, худенький паяц, безжалостно ее поймаю, и в моей ловушке она забьется, пока не утихнет, я поймаю эту сотню твоих надежд, и мы разойдемся с миром».
Дальше произошло следующее. Лева неожиданно рванулся вперед и упал под шайбу. Ришар великолепно покатился через него, блистательно проехался по льду. Шайба отлетела к бортику за ворота. Лева полетел за ней сломя голову, худеньким животом прижал к борту бизоньи ягодицы Ришара. Оба они снова рухнули на лед, а шайба волчком вертелась совсем недалеко от них. Уже не решаясь встать на ноги, оба маневрировали на животах, и вдруг наш Лева на своем животике стремительно описал полукруг и накрыл шайбу. Ришар, рассыпающий искры, медно-ужасный, медленно подъехал к поднявшемуся Леве, постукал клюшкой ему в бледно-уральские глаза, всхлипнул, видимо вспомнил Кюрасао, прижал к груди. Оба они заплакали. Снимок поцелуя обошел все газеты мира, даже «Женьминь жибао» напечатала, правда, под рубрикой «Их нравы».
Густеющие сумерки изменили окраску дня, он стал темно-синим с белым, и белого становилось всё больше, снег падал хлопьями величиной с носовой платок, платки медленно планировали, появлялись один за другим, и небо, темно-синее, почти уже черное, лишь мелькало между ними, лишь мелькало, и Лева весь стал белым и даже громоздким, как Дед Мороз.
Он подбежал к засыпанной телефонной будке, рванул дверь и скрылся от глаз.
Это была привычная стеклянная и снежная упаковка, а внутри было уныло, тепло, уютно и пахло невинным грехом (тысяча воспоминаний!), и все здесь встало перед ним в дырочках телефона, начиная с детского («Это зоопарк? Нет? А почему обезьяна у телефона?») и кончая нынешним, мужским (звонок домой — к жене Нине, святой и неприступной).
— Нина?
— В чем дело?
— Это я, Лева.
— В чем дело?
— А-а… вот… я… ты не думай… Ниночка… это все Мишка Таль и Тигран… засиделись, понимаешь, Нинок, Нитуш… разбирали последнюю партию Боби.
— Мне-то что?