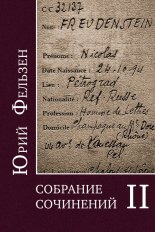Жили-были (воспоминания) Шкловский Виктор

Это была школа, в которой ученики могли ходить в форме с золотыми наплечниками.
Но так почти никто не одевался. В большом классе сидело сразу по сорок человек. За место боролись. Казалось, что есть самый выгодный ракурс. Приходили с ночи и ждали места, как билета на Шаляпина.
Рисовали не голову и не натуру, а полунатуру.
Женщину или мужчину, наполовину одетых.
Хотели людей научить рисовать мало-помалу. Сперва голову, потом до пояса, потом пририсовать к этому живот и ноги. Предполагалось, что ученик соберет потом свое умение и научится рисовать человека.
Маяковский очень хорошо работал в школе Келина, а здесь, в большой мастерской школы живописи, ваяния и зодчества, работал хуже.
Состав учащихся разношерстный. У одного даже челка, наплечники и отвес.
Через тонкую нить отвеса смотрит на натурщика ученик с челкой. Хочет сделать правильную постановку. Смотрит, как приходится следок относительно соединения ключиц. Человек с челкой утверждал даже, что этот отвес целое открытие, что благодаря отвесу он избежит влияния Сезанна.
О Сезанне говорили все.
Человек с челкой не любил Сезанна. Он думал, что Сезанн не умел проводить вертикальных линий.
В столовой ели бутерброды с колбасой, пили пиво и много спорили. Маяковский спорил больше всех, бутерброды не брал. Он стоял у стойки. В карманах черной бархатной блузы спички, дешевые папиросы. Блокнот. Книга. Карманы оттопырены. Шея сильная, не тонкая. Волосы откинуты назад, каштановые, для невнимательных людей черные. Руки красные от мороза, брюки узкие, черные, запыленные. Зубов шестнадцать разрушено. Хорошие зубы там же, где бутерброд с колбасой, — они стоят денег на починку.
Губы тяжелые, уже привыкшие отчетливо артикулировать.
Человек с челкой очень старался рисовать, и его даже не переводили в натурный класс за то, что он так старается. Впоследствии он достарался до АХРРа, научившись хорошо рисовать стеклянные чернильницы и собирать фигуры из кусков так, что они казались если не живыми, то по крайней мере срисованными с чего-то хорошего.
А Маяковский не старался. Это было время, когда в живописи вдруг пошел лед и все перемешалось.
Был такой случай у Жюль Верна: построили люди, добывая пушнину на лесистом берегу Северного моря, факторию.
Земля, на которой они построились, оказалась льдиной. Льдина оторвалась, поплыла путем, который впоследствии оказался дорогой советских полярников. Льдина плыла вместе с озерами, лесами.
Солнце вставало то с одной, то с другой стороны. У берегов не было прилива, потому что льдина поднималась вместе с приливной волной.
Тогда на льдине много говорили об астрономии и географии.
В курилке школы живописи, ваяния и зодчества говорили об импрессионистах. Льдина плыла не первый год. Когда-то, борясь с коричневой болезнью академической живописи, французские художники ушли из мастерских, ушли от заказчика, ушли от сюжетов и начали рисовать голое тело на траве, поняв, что тень тоже имеет окраску.
Они шли от краски к цвету. Они уничтожали знание предмета для того, чтобы осознать истину предмета.
Они работали трудно и горько. На их выставках хохотали. В их картины тыкали зонтиками. Потом, к мертвым, картины которых уже были скуплены, пришла слава.
А льдина все плыла.
Уже боролись с импрессионизмом. Хотели создать в картине истинное пространство. Хотели победить сетчатку глаза и создать не иллюзорный, не только зрительный, но и мускульно познаваемый пространственный мир. Создавали пространство не светом, а краской.
У тех, кто остался с импрессионистами, исчез мазок, его заменили цветной точкой. Другие начали учиться писать у японцев, у китайцев.
Скульпторы разочаровались в Фидии и начали понимать греков-архаиков. Потом начали увлекаться скульптурой негров.
Париж стал городом живописи. Туда съехались люди, как когда-то съезжались в Италию, съехались плыть на быстро тающей льдине в страну солнца, не имеющего места восхождения.
Париж стал столицей испанца Пикассо. Уже не верили в цвет — в жажде понять пространство. Начали исследовать вещь, раскладывать ее, пытались ее изобразить не только так, как видят, но так, как знают.
В Париже зашумели люди, говорящие друг с другом на непонятных языках. Аналогичный случай когда-то произошел при построении одного высокого здания в Вавилоне.
Давид Бурлюк
В. Хлебников в своем стихотворении «Бурлюк» так описывал это время:
- Россия расширенный материк
- И голос Запада громадно увеличила,
- Как будто бы донесся крик
- Чудовища, что больше в тысячи раз.
- Ты, жирный великан, твой хохот прозвучал по всей России,
- И стебель днепровского устья, им ты зажат был в кулаке,
- Борец за право народа в искусстве титанов,
- Душе России дал морские берега.
- Странная ломка миров живописных
- Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей.
Бурлюк был не один.
Гончарова и Ларионов привезли картины, написанные под влиянием русского лубка и русской иконы. Заговорили об искусстве вывесок.
На благополучных выставках Петербурга, где висел Александр Бенуа из «Мира искусства», в меру не умевший рисовать с натуры, где рисовали спокойные люди, умевшие перерисовывать, появились Гончарова, Ларионов, Шагал.
На выставках появились «комнаты диких». Казалось, картины в этих комнатах кричат. Люди на выставках стали говорить шепотом. Заказчик был потерян.
Начали говорить о том, что переходные моменты творчества — это и есть искусство.
Скульптор и рисовальщик, создавая форму, древне сводили ее к простейшей геометрической форме. И потом от слитной формы шли к форме расчлененной. Предполагали, что второй переход не нужен.
Художник уже давно видел картину красочным отношением. К поэту стихи приходили ритмическим импульсом и темными звуками, еще не выразившимися в слове.
Это было поколение, которому предстояло увидеть войну и революцию.
Для России — это было поколение, которому предстояло увидеть конец старого мира.
И оно от него уже отказывалось.
В курилке говорили о живописи, о кубизме, о Гончаровой, Сезанне, о русской иконе.
Другом Владимира Маяковского был очень молодой, красивый, высоколобый Василий Чекрыгин.
В это время расчистили фрески Ферапонтова монастыря. Под расчисткой оказались контуры фигур, странно движущихся, похожих на волокна дерева, если взять распил пня. Напряженные, сжатые, связанные фрески Ферапонтова монастыря пугали, им не поверили. Решили, что реставратор обманывает археологов. Фрески были закрыты, закрашены. Василий Чекрыгин знал эти фрески и верил этому неведомому уничтоженному художнику.
Чекрыгин и молодой Лев Шехтель ходили вместе. И вот тогда приехал толстый, одноглазый, уже не очень молодой Давид Бурлюк. Бурлюк учился сперва в Казани, потом в Одессе. Был за границей. Он рисовал сильно, превосходно знал анатомию.
Бурлюку было лет тридцать. Он пережил увлечение Некрасовым. Очень много прочел, очень много умел и уже не знал, как надо рисовать. Умение лишило для него всякой авторитетности академический рисунок. Он мог нарисовать лучше любого профессора и разлюбил академический рисунок.
Он много слышал, много видел, уши его привыкли к шуму, глаз к непрерывному раздражению. В то время художники были красноречивы. Картины уже начали выходить с предисловием. Художники спорили сами с собой. Он пришел, Давид, через картины, выставленные на выставке со скромным названием «Венок», к выставке «Ослиный хвост».
Осел выставки не был родственником ослиц Сауловых.
В 1910 году появился пламенный манифест «школы эксцессивистов». Манифест был подписан звучным, доныне еще никому не известным именем Иоахима-Рафаэля Боронали и гласил следующее:
«Чрезмерность во всем — это сила, единственная сила! Солнце никогда не может быть слишком жарким, небо слишком зеленым, отдаленное море слишком красным, сумерки слишком черными… Истребим бессмысленные музеи! Долой постыдную рутину ремесленников, изготовляющих конфетные коробки вместо картин! Не нужно ни линий, ни рисунка, ни ремесла, но да здравствует ослепительная фантазия и воображение!»
Уже не хватало красок. В картины начали вводить вещи. На выставке Ларионов окружил вещами и красками вентилятор. Вентилятор был электрический, его включили, он завертелся, и художник очарованно стоял перед картиной, вобравшей в себя движение.
Давид Бурлюк вырос в степи, около Таврии, в семье управляющего большим имением. В семье было мало денег, но корму было много. И он, братья его и сестра — все рисовали. У них была даже своя скульптурная галерея: каменная баба, найденная на кургане. Они привезли ее потом в Москву, когда отец потерял место. Но дальнейшее передвижение этой семейной драгоценности оказалось не по средствам.
Каменная баба, по ошибке приехавшая в Москву, застряла на Настасьинском переулке, около сарая, в котором собирались ученики художественного училища.
Одноглазый Давид Бурлюк привез с собой новости. У него были провинциальные друзья. Он знал Хлебникова, человека из Астрахани, поэта и философа, он знал авиатора с Камы — Василия Каменского. Он знал Гуро-прозаика.
На обоях они издали маленькую книгу с названием несколько загадочным — «Садок судей».
Виктор Хлебников называл себя Велимиром. Он был знаком с Вячеславом Ивановым, ходил в его квартиру в Петербурге. Он был знаком с «Цехом поэтов». Там его прочли и почти не увидали.
Будущее увидеть трудно. Когда в Европе не было книгопечатания, пороха и компаса, Марко Поло долго жил в Китае и окитаился. Он даже потом в Персию привез не только китайскую царевну, но и китайские бумажные деньги и, кажется, этим вызвал восстание. Когда Марко Поло писал о Китае для итальянцев, то он написал им о том, что в Китае есть горящие камни и извозчики. Но о книгопечатании не вспомнил.
Если бы нас завтра отправили на пятьдесят лет вперед, многие привезли бы из будущего наше прошлое.
Хлебникова пропустили в литературе, хотя он уже был готовым художником. Он весь трепетал будущим.
Будущее живет в нас самих под своими противоречиями. Оно живет в нас путем, по которому мы к нему течем или восходим.
Хлебников судил свое время, он разбирал современную ему литературу и писал, что Арцыбашев и Мережковский, Андреев, Сологуб и Ремизов говорят, что наша жизнь — ужас, а Народная песнь говорит, что жизнь — красота. Это Сологуб — гробокопатель и Арцыбашев и Андреев проповедуют смерть. А Народная песнь — жизнь.
Хлебников говорил, что русская книга и русская песнь оказались в разных станах.
Хлебников ощущал будущее. Он писал о будущей войне и будущем разрушении государства, определяя срок этого крушения годом 1917 («Учитель и ученик»). Он говорил о восстании вещей, о том, что трубы вместе с годами, на них написанными, и вместе с дымом над ними двинутся на город, что Тучков мост отпадет от берега, что железные пути сорвутся с дороги, что в нашей жизни, как в мякоти, созрели иные семена. Начинается новое восстание, новый разлив, и на нем поплывет, прижимая к груди подушку, обезумевшее дитя.
Так поплывет, как плыл потом белым медведем на льдине, гребя лапой, через десятилетия Маяковский в поэме «Про это».
В мире Бурлюка, в мире живописца, все было уже расчалено.
Когда на реке весною спадает вода и садятся на мель плоты, то рубят на плотах прутяные связи, соединяющие бревна.
Расчаленные бревна, обгоняя друг друга, толкая друг друга, сплескиваясь волною, снимаются с мели и плывут к морю.
Одноглазый Бурлюк расчалил давно все в своих картинах. С этим приехал он в Москву. Был он благоразумен и хотел толкаться локтями. Хотел улучшить свой диплом, быстро окончив школу живописи, ваяния и зодчества.
С Маяковским он сперва задрался, задевая его и Чекрыгина. Потом сблизился.
Они шли по кругам огромной Москвы. Москва была как тесто, заверченное большой веселкой.
Москва шумела осенними бульварами. Москва пестрела ржавыми вывесками, золотыми буквами. Она была такая, какой ее еще не рисовали. Была такой, какою ее еще не видали.
Она была знакомой Маяковскому, тысячу раз он узнал сырость вечера и долготу ночи, когда черная накидка, уже протертая там, где ее касаются большие руки, уже не греет и шапка сыреет на голове.
Маяковский наконец нашел друга для ночной ходьбы.
Бурлюк много читал, он знал не только Хлебникова, но и Артюра Рембо в чужих переводах. Он знал поэзию «проклятых поэтов», знал иной голос, иное название вещей. В картинах тогдашних художников кроме вещей жили буквы — большие вывесочные буквы.
Маяковский их тоже знал.
Он видел луну не сверкающей дорогой, легшей по морю. Он видел лунную сельдь и думал, что хорошо бы к той сельди хлеба.
Стихи жили уже в нем ненаписанными. Он видел букву О и французские S, прыгающие по крышам, извещающие о часах. Он видел вывески, читал эти книги на железе и любовался фарфоровыми чайниками и летящими булками на трактирных ставнях.
Соседи
Символизм хотел быть не только школой в искусстве.
Он жил пересечениями с другими системами и больше всего пытался жить религией.
Он жил на замене одних смыслов другими, часто жил шорохом сопоставлений.
Иногда это приводило к невнятице, к ложной многозначительности.
Вячеслав Иванов был весь на подмене одного ряда другим и умер хранителем Ватиканской библиотеки. Он был религиозным поэтом. Религиозность Блока иронична.
За символизмом Блока вставала вторая, не религиозная, а бытовая тема, смененная темой революции.
Вспоминался Фет, Яков Полонский, вставал цыганский романс. Блок умер, вписывая в дневник один романс за другим. При встречах я говорил с ним об этих романсах, еще не зная, что он записывает их. И он тогда со мной соглашался.
Цыганский романс — это немало, он живет голосом Пушкина и голосом лучших наших лириков. Цыганский романс многочислен. Блок выписал на память двадцать романсов.
«Утро туманное, утро седое», — писал Тургенев, и Блок взял потом эти слова названием книги.
«Ночи безумные, ночи бессонные», — писал Апухтин. А у Блока это так:
- Была ты всех ярче, верней и прелестней,
- Не кляни же меня, не кляни!
- Мой поезд летит, как цыганская песня,
- Как те невозвратные дни…
Цыганский романс и в те предвоенные годы проступал в стихах Блока.
Цыганская песня — это очень немало. Я услыхал романс у цыган уже после революции.
На гитарах, доски которых проиграны были уже почти насквозь, играли старые цыгане в доме Софьи Андреевны Толстой — внучки.
Играли, вспоминали про Льва Николаевича.
Любил старик романсы, любил романс «Не зови меня к разумной жизни» и говорил: «Вот это поэзия».
Он слушал пластинки Вари Паниной и поворачивал трубу граммофона к крестьянам, которые его дожидались, чтобы они ее тоже послушали.
Романс — это песня уличная, но это еще не песня улицы.
Блок в то время увлекался французской борьбой, читал романы Брешко-Брешковского. Все находящееся вне сферы высокого искусства приобрело тогда особую силу. Блок говорил, что настоящее произведение искусства может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное, некнижное отношение с миром.
Кузмин требовал четкости, однозначности слова. Искали новых учителей, вспомнили Рабле и Вийона, боролись с текучестью слова.
И вот тогда появилась Ахматова.
Она восстанавливала конкретный жест любви, ее женщина в стихах имела перья на шляпе, и перья задевали о верх экипажа. В те времена появлялись автомобили, а автомобили имели специальное возвышение для дамских перьев.
Ахматова конкретна, как мастер лимузинов:
- Он снова тронул мои колени
- Почти не дрогнувшей рукой.
Ахматова писала:
- Звенела музыка в саду
- Таким невыразимым горем.
- Свежо и остро пахли морем
- На блюде устрицы во льду.
- Он мне сказал: «Я верный друг!»
- И моего коснулся платья.
- Как непохожи на объятья
- Прикосновенья этих рук.
Поэзия жаждала конкретности.
Сравнительность, метафоричность ушла в глубь стиха.
Музыка сопоставлена с запахом устриц, а устрицы возвращают море.
У Блока ресторан противопоставлен любви. Здесь они рядом.
Метафоричность стала трудной.
Ахматова писала:
- Высоко в небе облачко серело,
- Как беличья распластанная шкурка.
- Он мне сказал: «Не жаль, что ваше тело
- Растает в марте, хрупкая Снегурка!»
- В пушистой муфте руки холодели,
- Мне стало страшно, стало как-то смутно.
- О, как вернуть вас, быстрые недели
- Его любви, воздушной и минутной!
Снегурка — это литературный ряд, это две плохие строки.
А любовь, воздушная и минутная, связана с тающим облаком. Облако конкретное, маленькая беличья шкурка стали знаменем акмеизма.
Но акмеизм не мог согреть мир муфтой. Его конкретность узка. Зенкевич пытался дать конкретность грубости, первобытности. Сергей Городецкий пытался архаизировать язык и встретить стихи с русской песнью.
Никогда поэзия не была так открыта для вторжений. В поэзии шла гражданская война формы. И вот в нее вторглась живопись.
Много уже было прожито Маяковским, и зубы уже много болели, и даже была у него коллекция рисунков, где изображался жираф. Жираф — это сам Маяковский. И вот этот жираф на рисунках ходил с подвязанными зубами.
Прекрасный, золотисто-черный, в прирожденной футуристической рубашке — жираф.
Еще соседи
В школе живописи интересы были иные.
Даже ошибались иначе.
Чекрыгин, со слов старого библиографа из Румянцевского музея Федорова, говорил о воскрешении мертвых.
Он рисовал ангелов, а Маяковский хотел, чтобы он рисовал муху.
Маяковский познакомился с Эльзой К. и писал ей стихи:
- Стоит там дом,
- он весь в окошках,
- он Пятницкой направо от,
- И гадость там на курьих ножках
- живет
- и писем мне не шлет.
По горбам ночных бульваров, мимо крестов московских церквей, долгой ночью шли Бурлюк с Маяковским.
Бурлюк рассказывал о слове, об обновленной живописи, о грубом, раковисто-занозистом мазке, о слове как таковом и вещах, которые восстают.
От человека, не имеющего пути, от художника, потерявшего себя среди опытов, от вечного переселенца Бурлюка принимал поэт посвящение в искусство.
Шел Маяковский с Бурлюком, говорили о Хлебникове, о картинах, о словах и буквах, запутавшихся среди красок, о лучизме Ларионова и о старом своем знакомом осле.
В квартире Бурлюка не было стола, стульев тоже не было, не было и кроватей: два матраца лежали на полу, а у стены на козлах лежала доска. Он устроил Маяковского к себе. Владимир писал картину-портрет.
Портрет написал по сине-серому темно-синим и темно-зеленым. На портрете была женщина в большой шляпе, с согнутыми руками. Локти подняты вверх.
Это не крайний портрет и не очень интересный.
Бурлюк бывал всюду, проповедуя.
Начались диспуты. Бурлюк показывал дрезденскую «Мадонну» Рафаэля и рядом фотографические карточки кудрявых мальчиков. Выступал Маяковский. Он говорил еще как пропагандист о том, что каждая эпоха имеет свое искусство. Они приходили в меблированные комнаты, где жили ученики художественных школ, и здесь проповедовали.
Большая синяя Москва лежала за окном. Тот кусок ее звался Басманная.
Толстый медный самовар стоял на столе, перед ним булки, баранки. Маяковский стоял у окна. Бок самовара был синь от московской ночи, незанавешенного окна. Снег плавал за стеклом, не разбивая ночной сини, как рыбы в аквариуме. Маяковский говорил о том, что пора заменить слова-верблюды, слова, несущие груз, вольными словами, выражающими новый ритм.
Шумели диспуты. «Бубновый валет» просил прочесть доклад. Максимилиан Волошин говорил о том, что могилы не открываются даром. Если сейчас воскресает Византия и русская иконопись, значит, умер Аполлон Греческий. Новый, кривоногий, чернявый Аполлон создает искусство новой готики.
На докладе, как кошка открывая маленький рот, шумно зевал маленький, сухощавый юноша в форменной фуражке с кокардой — Алексей Крученых.
Владимир Маяковский спустился по незнакомым ступеням Политехнического музея и сказал у невысокой трибуны:
— Художники, бубновые валеты, помните Козьму Пруткова!
Он произнес стихотворение, изменяя его:
- Коль червь сомнения заполз тебе за шею,
- Сама его дави, и не давай лакею.
Если вы сомневаетесь в новом искусстве, зачем вы вызвали символистов?
Это была зима.
Когда-то Брюсов Валерий написал драму о будущем человечестве. То человечество ушло от солнца, жило в подземельях. Великий путешественник того времени, блуждая в здании, через стекло увидел солнце. Он пришел к людям и сказал, что они станут счастливее, если поднимут крыши и будут жить под солнцем. Великий старец знает тайну: над крышами воздуха нет.
Солнце зияет в пустоте.
Но человечество устало. Среди него появилась секта убийц, стремящихся скорее кончить пещерную жизнь. Человечество ослабело. Людей того времени — это они жили в подземельях — Зинаида Гиппиус называла муравьями. «Лунные муравьи» Уэллса погибали легко, они рассыпались под ударами, как грибы.
Но вернемся к рассказу, который остался в пути, занесенный снегами.
Старик решается приподнять крыши. С трудом находят заброшенные механизмы. Скрипят, опускаясь, противовесы, поднимаются кровли.
И солнце, огромное, с пылающей трубой последнего ангела страшного суда, встает над гибнущей без воздуха толпой.
Символисты не верили в мир, не верили в воздух и скрывались под крышами соответствий.
Андрей Белый уехал куда-то на Запад, к антропософам, и прятал огромное свое умение, свой талант и слова, уже найденные в «Пепле», под сводами деревянного храма, который строил в Швейцарии Рудольф Штейнер. Маяковский знал, что воздух есть.
Маяковский, уже призванный, но еще не говорящий, ходил среди людей. Он читал сатириконцев.
Был тогда Саша Черный.
Саша Черный писал стихи в «Сатириконе». «Сатирикон» был странное место. Богом там был одноглазый, умеющий смешить Аверченко, человек без совести, рано научившийся хорошо жить, толстый, любящий индейку с каштанами и умеющий работать. Он уже был предприниматель.
Полный уверенности, мучил он всенародно в «Почтовом ящике» бедного телеграфиста Надькина, который присылал ему стихи все лучше и лучше.
Телеграфист — загнанный, маленький человек — был аттракционом в «Сатириконе».
Бледнолицый, одноглазый, любящий индейку с каштанами Аверченко притворялся, что ему мешает полиция. Он изображал даже, как сам «Сатирикон», нечто вроде отъевшегося на сдобных булках сатира или фавна, грызет красные карандаши цензуры и не может прорваться.
Фавн, объевшийся булками, если бы он сломал карандаши, побежал бы очень недалеко.
Вот в этом «Сатириконе», или, как он стал называться с 1912 года, в «Новом сатириконе», печатались Саша Черный, и Петр Потемкин, и Валентин Горянский. Маяковский любил эти стихи.
- Фонари горят как бельма, —
писал Саша Черный.
- Лужи блестят, как старцев-покойников плешь.
Это похоже на Маяковского:
- И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
- ночь излюбилась, похабна и пьяна,
- а за солнцами улиц где-то ковыляла
- никому не нужная, дряблая луна.
Рядом печатался Петр Потемкин.
И Черный и Потемкин похожи на символистов, Саша Черный своим псевдонимом напоминает Андрея Белого.
Это символисты без соответствий. У них был и кабак и улица и было второе переосмысливание всего этого.
У Блока в «Незнакомке» пейзаж так хорошо описан:
- Вдали, над пылью переулочной,
- Над скукой загородных дач,
- Чуть золотится крендель булочной,
- И раздается детский плач.
- И каждый вечер, за шлагбаумами,
- Заламывая котелки,
- Среди канав гуляют с дамами
- Испытанные остряки.
- Над озером скрипят уключины,
- И раздается женский визг,
- А в небе ко всему приученный
- Бессмысленно кривится диск.
Это Озерки, дачная местность рядом с Петербургом.
В этот пейзаж входит Незнакомка.
У Саши Черного никто не входит, ничего не наступает, нет никакого кануна, никакого пурпурного цвета. Тот цвет был для Блока светом вдохновения.
День после революции 1905 года, перед войной.
Старые воспоминания о романтиках, о символистах, пародия на стилизацию, на простоту — у Потемкина.
Его герой влюблен в куклу за стеклом парикмахерской:
- Я каждый вечер в час обычный
- иду туда, где на углу,
- у вывески «Ломбард столичный»,
- могу припасть лицом к стеклу.
- И там в окне, обвита шелком,
- на тонкой ножке, холодна,
- спиною к выставочным полкам,
- меня манит к себе она.
У Потемкина есть неожиданные рифмы, перемены размеров. Знал Маяковский и Валентина Горянского и многих других, которых, может быть, и не вспомнят. Многие из них очень похожи на Маяковского, но похожи они стали после.
У всех этих людей один голос, голос о том, что ничего не будет или будут пустяки.
И рисунки были страшные, — например, студенческое семейство: муж, некрасивая жена и ребенок, грызущий на полу человеческую берцовую кость.
Это — страшные пустяки.
Давид Бурлюк находит поэта
И вот среди них ходил Маяковский. Шло время. Маяковский разговаривал со всеми — с прохожими на улице, с товарищами, с извозчиками.
Он жил, читал стихи, ходил по улицам. Когда-то Маяковский любил Виктора Гофмана, поэта не бездарного, далеко не идущего, рассказывающего о красивом; со стихами Гофмана томился Маяковский, ходя по московским улицам. Сейчас он ходил с Бурлюком. Бурлюк доказывал Володе, что он молодой Джек Лондон.
И вот однажды Бурлюк шел ночью с Маяковским по Сретенскому бульвару. Владимир прочел стихи, то были отрывки о городе, куски, которые потом Маяковский нигде не напечатал.
— Это один мой знакомый написал.
Давид остановился и сказал:
— Да это ж вы сами и написали. Да вы же гениальный поэт!
Маяковский ушел. Утром Бурлюк встретился с ним, познакомил с кем-то и сказал:
— Не знаете? Мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский.
Володя толкал его, но, отведя поэта, Бурлюк сказал:
— Теперь пишите, Володечка, а не то вы меня поставите в глупейшее положение. Не бойтесь ничего. Я буду вам давать пятьдесят копеек в день. С сегодняшнего дня вы обеспеченный человек.
Он писал стихи. И Бурлюк заглядывал через плечо, хватал строчки еще горячими, переставлял их; первое стихотворение начиналось так:
- Багровый и белый отброшен и скомкан,
- в зеленый бросали горстями дукаты,
- а черным ладоням сбежавшихся окон
- раздали горящие желтые карты.
- Бульварам и площади было не странно
- увидеть на зданиях синие тоги.
- И раньше бегущим, как желтые раны,
- огни обручали браслетами ноги.
Он вошел в поэзию, не изменившись, с картами, с картинами, своими и Бурлюков, с бесчисленными заявками, с недостроенным, сдвинутым, разложенным образом.
Он вдвинул образ в образ. Он работал в стихах методами тогдашней живописи.
- Угрюмый дождь скосил глаза.
- А за
- решеткой
- четкой
- железной мысли проводов —
- перина.
- И на нее
- встающих звезд
- легко оперлись ноги.
- Но ги-
- бель фонарей,
- царей
- в короне газа,
- для глаза
- сделала больней
- враждующий букет бульварных проституток.
Бурлюк не много умел, но он видел Хлебникова. Недавно еще к нему упал с неба и не разбился Василий Каменский, поэт немалый. А главное — Бурлюк был теоретиком, он знал, как можно экспериментировать; он мало умел, но сейчас он видел, как другой осуществляет то, чего не мог сделать сам Бурлюк.
Стихи рождались.
Но и не было бы Маяковского, если бы не было камеры 103. В той камере сидел Маяковский, читал книги. Мальчиком носил он революционные прокламации, прочел их, давно была потеряна связь с товарищами. Но у Маяковского была своя, хотя бы схематическая, карта мира и план истории.
Пришел не Потемкин, и не Валентин Горянский, и даже не Давид Бурлюк, пришел человек с ответственностью за мир, до диспутов в Политехническом музее знавший собрания у булочников, партийный спор, привыкший представлять, что за слово платят тюрьмой и ссылкой.
Символисты писали о Дионисе, о вечно женственном, о Деметре, и Маяковский, ища самой простой, самой доходчивой мифологии, ища нового образа, в Москве, которая вся была вышита крестиками, взял религиозный образ, разрушая его.
Количество этих религиозных кусков в первом томе поразительно.
Всех не приведу. Второе стихотворение кончалось так:
- За гам
- и жуть
- взглянуть
- отрадно глазу:
- раба
- крестов
- страдающе-спокойно-безразличных,
- гроба
- домов
- публичных
- восток бросал в одну пылающую вазу.
Для Маяковского городовые распяты перекрестками.
Утром он видит, как слякоть целует хитон иконного Христа, и солнцу он кричит так, как Христос в евангелии говорил с креста с забывшим его богом:
- «Солнце!
- Отец мой!
- Сжалься хоть ты и не мучай!
- Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.
- Это душа моя
- клочьями порванной тучи
- в выжженном небе
- на ржавом кресте колокольни!»
В трагедии «Владимир Маяковский» «Старик с кошками» говорил:
- И вижу — в тебе на кресте из смеха
- распят замученный крик.
И люди говорили:
- Идем,
- где за святость
- распяли пророка…
Маяковский говорил как пророк, и когда люди кричали на него, слабо защищенного желтой кофтой, он записывал так:
- Это взвело на Голгофы аудиторий
- Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
- и не было ни одного,
- который
- не кричал бы:
- «Распни,
- распни его!»
Образ этот точный, цитатный. Он знает — когда Христа вывели к Пилату, то толпа отпустила не его, а соглашателя и разбойника Варавву.
- Видишь — опять
- голгофнику оплеванному
- предпочитают Варавву?
Книгу свою «Облако в штанах» он хотел назвать «Тринадцатый апостол». В книге «Человек» он называл любовь свою «тысячелистым евангелием» и разделил поэму на главы: «Рождение», «Страсти», «Вознесение».
Смешно доказывать, и всякому ясно, что измученный человек в черной бархатной блузе, человек с большими руками, страстный игрок, почти еще мальчик, не был религиозен. Но эти простые образы всем понятны, и стоят они рядом с низкой литературой, с той литературой, при чтении которой вспоминаешь Сашу Черного. Это не религиозные, а богохульские строки, строки нападения на существующего врага, отнятие у него эмоций, связанных с ним.
Только много позднее революция научила Маяковского рассматривать бывшего бога в увеличительное стекло, как вредную бациллу.
Маяковский только что научился писать стихи. Горло его чисто, он говорит новые слова и готовится связать их в фразу.
Он получил голос, научился писать так, как научаются плавать. Оказывается, вода держит. Потом он узнал, какая это горькая вода.