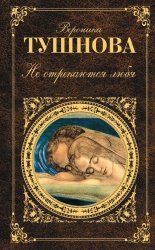Я отвечаю за все Герман Юрий
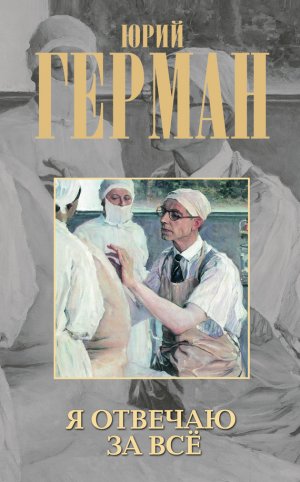
— Волокнистый ты, а не крепкий, — не пощадила Варвара, — это, братец, совсем иное понятие.
Она внезапно пнула его в живот кулачком и, уже уходя, сказала:
— Стыдно так жиреть.
Покуда шло «строительство», Горбанюк работала в кабинете заместителя Евгения Родионовича — доктора Нечитайло, так напуганного своими жизненными камуфлетами и курбетами, что он даже не сопротивлялся, когда его выгоняли из привычного логова.
— Вы пока по области проедетесь, — присоветовала ему энергичная Инна, хоть он только что вернулся, — проинспектируете хирургическую помощь в глубинке…
— Ну что вы, что вы, — залепетал Нечитайло, — разумеется, не беспокойтесь, пожалуйста…
Бедолага Нечитайло и не раз, и не два побывал «в глубинке», как говорила строгая Горбанюк, но в кабинет его так и не пустили. Чуть не до весны занимался он в приемной Евгения Родионовича, поставив свой стол неподалеку от печки.
А Инна Матвеевна, проветрив комнату Александра Самойловича и переставив там мебель по своему вкусу, высадила секретаршу отдела кадров Ветчинкину в бухгалтерию и занялась привыканием к будущей своей деятельности.
Туда и явилась к ней Катенька Закадычная — явилась сама, по собственному почину, явилась потому, что более ей некуда и не к кому было ходить. Жалобы ее оставались без ответа и без всяких последствий, а когда написала она «лично т. Штубу», то была вызвана каким-то капитанишкой Колокольцевым, который весьма строго ей объявил, что здесь уже «сосредоточено» несколько ее заявлений в самые различные инстанции, что заявления эти «клеветнические» и что ей не мешало бы заняться общественно полезным трудом, а не сводить личные счеты с теми, кто справедливо приостановил ее хищническую деятельность.
— Каким это таким трудом? — рыдая, сказала Катя капитану Колокольцеву. — Они меня священного права на труд лишили, они против нашей конституции активно выступают…
— Это неправда, — сказал Колокольцев, — вам не дали вторую ставку, но посудите здраво сами…
Закадычная «судить здраво» не хотела и от Колокольцева, зареванная и злая, явилась к Инне Матвеевне, которая тоже была очень зла, потому что нынче — вот сейчас — встретила в коридоре главврача Устименку, который с усмешкой отказался войти с ней в ее кабинет для беседы «накоротке».
— Спешу, — сказал он, — занят. И приглашение свое повторяю: милости прошу ко мне в больницу. Кстати, вот было бы хорошо и разумно, если бы ваши отделы переименовать, да не только по названию, а по существу. Не «отдел кадров», а «отдел быта кадров». Или отдел «кадров и быта». Чтобы вам не только в папочки заглядывать — насчет родственников, а чтобы вы еще занимались тем, как наши медики живут. Что — хлопотно?
И, помахав ей рукой, он ушел, здоровенный, в черной флотской шинели, в фуражке моряка, с палкой инвалида.
— Вам что? — спросила Инна Матвеевна, возвращаясь к себе и увидев у своих дверей тщательно плачущую Катеньку. — Вы к кому?
Она терпеть не могла всякие там слезы, навидалась этого, но Закадычная почти силой втиснулась в бывший кабинет Нечитайло и, крепко закрыв за собой дверь, с ходу поведала печальную повесть своей жизни, не скрывая горестных подробностей ни со сгущенным молоком, ни с тюрьмой, ни с последующим «прозябанием» на одной ставке и с преданием Закадычной «остракизму».
— Что же мне, в Унчу головой? — воскликнула она.
Товарищ Горбанюк молчала.
Закадычная, уже искренне, от этого холодного молчания разрыдалась и «заявила официально», что больше в «атмосфере» подозрений жить не может. Дело, разумеется, не в ставке, а в том, что ее просто могут взять да и уволить совсем, просто-таки на улицу. А она девушка начитанная, культурная и знает, «что в нашей стране никому никакие пути не заказаны», даже вот, пожалуйста, ей известно, что на Беломорканале до войны чекисты тысячами «перековывали» трудовыми процессами отпетых уголовников и что родимые пятна капитализма, хоть и въедливые, но постепенно удаляются из наших светлых дней. Ей же не верят и верить не собираются, это ужасно, ее предоставили самой себе, чтобы она катилась по наклонной плоскости, она отделена от коллектива своим, конечно, дурным, но все-таки только одним поступком — с этим проклятым молоком, и теперь она просто ждет от Инны Матвеевны совета, как ей доживать среди старых антисоветчиков, которыми полна вся больница водников…
— Среди кого доживать? — спросила рассеянно Горбанюк.
— А что? — воскликнула Катенька. — Разве не антисоветчики? Всё им голод, всё — как они картошку садить станут — какие участки плохие дали, всё им карточки неправильно отоваривают, а доктор Лорье как начнет про Германию свои напевы петь: и дороги там — автострады, и торфяную машину он видел в работе очень удобную…
— Лорье? — осведомилась Инна Матвеевна. — Но он же еврей, а нацисты, как известно, евреев уничтожали поголовно.
— Еврей-еврей, а вот торфяную машину хвалил, — упрямо сказала Катенька. — И при свидетелях. Вообще порассказать, так не поверите…
— А еще что он хвалил?
— Товарища Степанова Евгения Родионовича ругал, — помолчав, вспомнила Закадычная. — Тот еще в дверях, а он про него — «балаболка»!
Про Степанова Инна Матвеевна пропустила мимо ушей.
— А про союзников Лорье ничего не говорит? — спросила она. — Про англо-американцев? Он ведь с ними, кажется, встречался…
— Про главного из больничного городка говорил, — сказала Катюша. — Уж никак не припомню, в связи с чем. В связи с какими-то своими воспоминаниями. Что у этого нового главного дома якобы на стенке висит портрет, фото конечно, какого-то английского графа.
— Английского графа? — удивилась Горбанюк. — Прямо так и висит?
— Он — летчик.
— Кто летчик, ничего не пойму, — даже заволновалась вдова. — Вспомните-ка получше…
Но Катюша больше ничего вспомнить не смогла, как ни старалась. А старалась она изо всех сил, потому что Инна Матвеевна разговаривала с ней, как со своей, как с товарищем по работе. И горячее чувство бурной преданности вдруг так преисполнило все ее существо, что она сказала громко, таким голосом, каким клянутся:
— Я теперь все буду знать, товарищ Горбанюк. Я их всех на учет возьму — и графов этих, и австрийских профессоров, неизвестно с какой целью сюда приехавших… Всех на карандаш насажу…
Инна Матвеевна слегка порозовела — она не любила никакой аффектации. И что это за карандаш?
— Ну-ну, — сказала она, — зачем уж так всех. Просто вы должны быть в курсе жизни больницы, держать руку на пульсе. Мы живем в острое время, враги засылают нам свою агентуру самыми коварными способами. В общем, товарищ Закадычная, вы не волнуйтесь, работайте, я постараюсь вас поддержать, несмотря на некоторые печальные факты вашей биографии, от которых, к сожалению, никуда не уйдешь.
Катя горько кивнула головой.
— Тем лучше, что вы и сами это понимаете.
После Катиной первой, провалившейся попытки поступить под начало сурового Устименки товарищ Горбанюк все-таки не сдалась. Сделав выговор рыдающей Закадычной и отправив ее домой, Инна Матвеевна позвонила упрямому главврачу и заговорила с ним в новой, кокетливой даже манере:
— Вот что, мой враг, — сказала она, — помогите мне. Тут я вас просто прошу по-человечески.
— Это новости, — ответил Устименко. — Если по-человечески, давайте.
— У вас рентгенолога ведь так и нет?
— Как вам известно, нет.
— А если нет, то вы должны все-таки взять несчастную Закадычную. Не имеем мы права толкать к гибели людей.
— Но я-то не… — начал было Устименко, но Горбанюк не дала ему договорить:
— Вы «не», другой «не», а советский человек, пусть оступившийся, погибнет. Кто в ответе?
Владимир Афанасьевич молчал.
— При первом же проступке вы ее выгоните, — сказала Инна Матвеевна, — но сейчас, прошу вас убедительно, не отказывайте мне. Дело идет о судьбе человека…
На этот раз Устименко сдался. Такое словосочетание, как «судьба человека», хоть кого повергнет в смятение. И Владимир Афанасьевич пробурчал, чтобы приходила, а там видно будет…
Катенька пришла и работала так, чтобы оказаться совершенно незаменимой, тем более что рентгеновского кабинета еще не существовало. И Закадычная делала все, даже то, что надобно делать няням и санитарам.
Так ее научила Инна Матвеевна.
А ремонт будущей конторы Горбанюк меж тем подходил к концу.
Дверь — вход в отдел — обили по всем надлежащим правилам толстыми железными листами, но Горбанюк велела железо покрасить еще «под ясень». Сделали «под ясень», отчего и не сделать? Потом в толстой, капитальной стене долго ковыряли окно из коридора к помощнице Горбанюк старухе Ветчинкиной — для почты. Потом, опять же из коридора, провели вовнутрь «кадров» электрический звонок, а внутри уже мастерили деревянный барьер «под ясень», стеллажи, ящики для картотеки — все согласно соответствующей инструкции, но немножко, как выразилась Инна Матвеевна, «модерн» — ведь это делу не повредит?
Потом все вымыли, вычистили, протерли стекла, повесили репсовые занавески, проверили железные ставни, сейф, привинтили белую дощечку — «Вход воспрещен», и вдова с Ветчинкиной справили новоселье — выпили чай с конфетками, оглядывая свое «заведование», новые столы, стулья, поясной портрет генералиссимуса, исполненный масляными красками, в золотой раме.
Ветчинкина закурила.
— Курить здесь, товарищ Ветчинкина, вам не придется, — сказала Инна Матвеевна. — Не обижайтесь, но таково правило хранения документов.
Старуха спрятала недокуренную самокрутку и вздохнула. Она знала — спорить бесполезно.
С этого чаепития начались рабочие будни. В окошко сотрудники и приезжающие «периферийщики» — был и такой термин — спрашивали, когда Инна Матвеевна может принять. Никто не осмеливался спросить, не может ли она принять сейчас. Да сейчас она никого и не принимала. Ветчинкина сипела в низкое, пахнущее известкой и ржавчиной окно — «завтра», или «в пятницу в четырнадцать», или «после праздников, предварительно позвонив».
Горбанюк в это время читала «личные дела», делая в особую книжку записи. Даже любопытная старуха Ветчинкина не знала, что это вдова там все пишет и пишет. Оставляя свой кабинет даже на минуту, Инна прятала коричневую книжечку в тот отдельчик сейфа, ключ от которого держала только при себе…
«Личных дел» было великое множество — их привозили, вновь увозили, им писали описи, в них были оглавления, эти оглавления исправлялись; старая Ветчинкина знала свое дело, но и она поражалась спокойной энергии Горбанюк, которая действительно быстро навела порядок в довольно запущенном хозяйстве своего ведомства.
Работала вдова не за страх, а за совесть.
Кто бы ни входил в ее пустоватый, светлый, чересчур прохладный кабинет, Инна Матвеевна всегда в это мгновение укладывала в сейф какую-то папку, или листок, или несколько сколотых вместе бумажек и сейф запирала. У посетителя от всего этого холодело под ложечкой. Любила Инна Матвеевна иногда где-либо на конференции, или на активе, или вообще на людях остановить наиболее веселого и жизнерадостного доктора, или докторшу, или старого фельдшера и сказать примерно следующее:
— Вы, товарищ Анкудинов, будьте так добры, передайте мне завтра через товарища Ветчинкину ваш военный билет. И паспорт супруги. Только именно завтра.
Лицо собеседника ее непременно вытягивалось: было непонятно, зачем именно завтра вдруг понадобится военный билет, паспорт супруги, иногда — супруга, вдруг — документы пропавшего без вести в дни войны сына. Смотрела при этом Инна Матвеевна прямо в глаза с таким особым выражением, что казалось — она знает. Но что? О чем?
Катюша Закадычная приходила к Инне Матвеевне почти запросто. Со своим умением услужить и быть полезной она даже свела поближе Горбанюк с супругой Устименки Верой Николаевной, и Инна Матвеевна своими глазами убедилась, что на стене в комнате Владимира Афанасьевича висит окантованная фотография летчика, про которого Вересова сказала, что это сэр Лайонел Ричард Чарлз Гэй, пятый граф Невилл, с которым Володя «путешествовал за границу».
— Ужасно странно! — заметила по этому поводу Горбанюк.
— Что же, собственно, странно? — удивилась Вера.
— Граф… и наш товарищ Устименко. Что между ними общего? Надеюсь, они не переписываются?
— Этот граф еще в войну умер, — сказала Вера. — Пойдем в кино?
Здесь же Горбанюк была представлена австрийцу Паулю Гебейзену. Австриец в накинутом на плечи одеяле пил чай в их общей кухне. Инне Матвеевне он доверительно сказал, что у него есть мечта повидать знаменитого русского коллегу господина Давыдовского, которого он, Гебейзен, считает одним из величайших светочей человеческого ума.
— Вы думаете? — неопределенно ответила Горбанюк.
У нее было смутное ощущение, что Давыдовского недавно где-то «долбали», и она не знала, что ответить этому приставучему, похожему на старую птицу австрийцу.
— О! — воскликнул Гебейзен, пораженный холодностью Горбанюк. — Размышления профессора Давыдовского о причинах инфекционных болезней, они, эти размышления, есть высший… как это сказать… наилучший…
— Тут много спорного, — пожала плечами Инна Матвеевна.
Гебейзен рассердился.
— Наука всегда много спорного! — фальцетом произнес он. — Наука и есть спорность…
После кино Вера Николаевна пила чай с хворостом у Горбанюк. Елка спала, Инна Матвеевна показывала Вере свои туалеты.
В общем, они сошлись, и Горбанюк от Веры узнала порядочно всяких деталей характера Устименки. Ей стало понятно, что с ним не так-то легко справиться.
А вот те, кого он себе «самостийно» набирает?
И она в лоб спросила об этом Катюшу Закадычную.
— Народ, конечно, у нас разный, — стараясь попасть в тон Горбанюк, не торопясь начала Катюша. — Совсем даже разный. Всякой твари по паре…
— В каком смысле?
Голос Горбанюк прозвучал не то чтобы металлом, но несколько жестко, во всяком случае достаточно неприязненно. Катюша сжалась на своем стуле.
— В политическом? — пояснила свой вопрос Инна Матвеевна.
Закадычная кивнула со значительным выражением лица и уставилась на Горбанюк своими тихими глазами с поволокой.
— Как там себя ведет Богословский? — спросила Инна Матвеевна.
— А как? — не понимая, чего от нее хотят, но страстно желая понимать все и быть полезной этой своей заступнице и спасительнице, спросила Катюша. — Где — ведет?
— Разговаривает?
— А как же. Конечно, разговаривает.
— С каким он настроением приехал?
— Настроением? — опять не понимая и желая попасть в яблочко своим ответом, помедлила Катюша. — Настроение, конечно, у него разное… Но больше так себе…
— Как это понять — так себе? Доволен он нашей советской жизнью, хвалит ее, оптимистически настроен или больше замечает недостатки? Вы же грамотная девушка, советская, вы должны разбираться…
— Недоволен! — решительно и быстро, но уже понимая, что она делает и что нужно, быстро заговорила Закадычная. — Нет, нет, товарищ Горбанюк, недоволен. Вот вы послушайте, только послушайте: он как приехал, так в первый вечер и разговорился. А я-то медик, я-то не лаптем щи хлебаю, я-то учение академика Павлова тоже проходила и прошла на пятерку. Вот вы только меня заслушайте, как он этому главврачу Устименке про опыты на собаках рассказывал и какой они антисоветский вывод вывели. Вы только внимательно заслушайте…
И, сбиваясь, радуясь тому, что теперь все понимает и может выполнить все желания Инны Матвеевны, Катюша подробно и толково пересказала рассказ Николая Евгеньевича, но не так, как говорил он, а так, как бы хотелось слышать этот рассказ Горбанюк, чтобы была антисоветчина. И антисоветчина получилась, потому что Закадычная добавила от себя, немножечко, но добавила: «Вот какая наша жизнь, — будто бы произнес Богословский, а Устименко кивал, — над всеми над нами опыты ставят, как над теми собаками!»
Инна слушала, глядя в сторону, нисколько не показывая, что довольна, ей нельзя было ничего показывать. А дослушав, немножко зевнула и велела Закадычной:
— Вот об этом вы мне все подробненько, очень подробненько напишите. Ваши выводы мне не нужны и никому не нужны. Нужен лишь факт, понимаете? Что один сказал, что другой ему ответил, весь разговор слово за словом. И про собачью жизнь нашего советского человека…
Катюша опять часто закивала.
Свою «докладную записку» она писала две ночи, а переписывала все воскресенье. Ни малейшей нравственной неловкости она при этом не испытывала. Объяснила же ей ее покровительница и благодетельница Инна Матвеевна про разные коварные методы, которыми пользуются замаскированные и гнусные враги. А что до того, что Богословский почти потерял ногу на войне, в сражениях за Советскую власть, что Устименко тяжело изранен в тех же боях, — разве она об этом думала? Она завоевывала свое право на свою жизнь, по-своему пробиваясь в люди. Писала, измученная процессом складывания слов в фразы на бумаге, злая оттого, что перо царапало и бумага была плохая. Почерк у Закадычной был не детский, но школьный. В понедельник она принесла свою «докладную» Горбанюк.
Та прочитала, исправила две ошибки и спрятала тетрадочные листки в сейф.
— Ну как, хорошо я написала? — осведомилась Катюша.
— Ничего.
— А может, там чего не хватает?
— Нет, там все есть. Все, что вы говорили.
— Я там и дату отметила, — сказала Закадычная, — и час там написан. Теперь повертятся.
Она испытывала сладость и радость мести. Ей казалось, что все произойдет немедленно, как в кино, когда ловят шпионов. А ее наградят.
— Теперь мне еще про что написать?
— Просто наведывайтесь, — пригласила Горбанюк, подавая ей тонкую, всегда холодную руку. — Заходите. И помните: мы с вами делаем нужное, хоть и незаметное дело. Очень нужное.
— Это — в отношении бдительности?
«А все-таки ты дура!» — подумала Горбанюк.
Но тем не менее Горбанюк еще произнесла несколько напутственных и высоких слов, а Катюша испытала восторженное чувство верности и преданности этой красивой женщине.
— А они враги? — вставая, спросила она.
— Кто?
— Устименко с Богословским?
— Не знаю, не знаю, — строго глядя на Катеньку, ответила Горбанюк. — Это все очень тонко, тут дело не простое, настоящие враги умело маскируются и умеют скрывать свои истинные намерения…
— Мимикрия, — вспомнив подходящее слово, сказала Закадычная.
«Идиотка!» — отворачиваясь к сейфу, подумала Горбанюк.
МЕРТВЫЕ СТАНОВЯТСЯ В СТРОЙ
— Окаемова как? — спросил Штуб.
— Поначалу боялась и даже какой-то вздор понесла, что она совершенно не в курсе, — сердито сказал Сережа Колокольцев, — а потом, постепенно…
Молодое лицо Колокольцева оживилось, ясными глазами он посмотрел на Штуба и сказал почти счастливым голосом:
— Это замечательно, Август Янович, просто-таки замечательно!
— Что замечательно? — заражаясь состоянием своего выученика и радуясь вместе с ним тому, чего он еще не знал, но во что страстно хотел верить, осведомился Штуб. — Что замечательно-то, Сережа?
Он так же, как и Богословский, в некоторых случаях называл своего ученика по имени.
— Все замечательно, — повторил Колокольцев, — прямо хоть приглашай писателя написать по нашему материалу. Вот соберем все, проверим, перепроверим, и пожалуйста.
— Ты меня, Сергей, не томи, — блестя под очками взглядом, велел Штуб. — И я человек, и мне интересно.
— Бухгалтер этот — пьянчуга, который врагом был Устименко Аглае Петровне, — точно никого не предал. И ее не выдал. Саму Аглаю Петровну, когда им в гестапо очную ставку дали.
— Речь идет об Аверьянове?
— О нем, — ответил Колокольцев. — Он у Окаемовой был и ее стращал, что-де имеет задание от какого-то главного штаба партизан убить того, кто покажет на некую Федорову, что она Устименко. А под именем Федоровой и вошла в город, вернее была схвачена, Аглая Петровна. «Пусть считает себя покойником» — это Аверьянов сказал про того или ту, кто выдаст фашистам Аглаю Петровну.
— Интересно, — с внезапным латышским акцентом сказал Штуб. — Даже Аверьянов…
— Даже Аверьянов, вот именно, что даже такой, как Аверьянов, — подхватил Сережа, — а уж он был совсем никудышный человек, этот самый Степан Наумович. Тут еще важнее, товарищ Штуб, что у него сын остался — Николай Степанович Аверьянов. Ему тяжело: отец как-никак в изменниках ходит, а ведь сведения о нем у меня не только от Окаемовой, то есть об отце Аверьянова, а еще и от Платона Земскова.
— Плох он? — спросил Штуб.
— И он плох, и ему плохо. Впрочем, сейчас получше: я их там, извините, припугнул немного, этих собесовских добрячков.
Штуб, по своей манере, поднялся и прошелся из угла в угол. Колокольцев продолжал говорить, следя за полковником глазами и зная, что тот слушает внимательно.
— Земсков парализован, совершенно почти неподвижен, со спинным мозгом что-то, на него ведь гитлеровцы облаву устроили, но он все-таки ушел. Это даже понять невозможно как, но ушел. Простите, отвлекаюсь. Теперь по делу…
Август Янович на мгновение остановился, велел:
— А вы отвлекайтесь, ничего. Я как старуха теща, люблю с подробностями, с самого начала, чтобы всю картину видеть.
Колокольцев, улыбнувшись, спросил:
— Как я приехал?
— Точно, — серьезно ответил полковник. — Вот приехал, вот вошел, вот увидел. Кстати, сестра его жива?
— Она одна только Земскова и понимает, словно бы мысли угадывает…
— Погоди секунду! Потом сяду и не стану тебя хождением отвлекать…
Высунувшись к секретарю, он распорядился, чтобы ему не мешали, велел отключить даже главный телефон и, откинувшись в кресле, приготовился слушать. День сменился ночью — Колокольцев и Штуб все разговаривали, уточняли, спорили, опять разбирались в записных Сережиных книжках, в том, как свезти всех в Унчанск, как устроить Платона Земскова и с пенсией, и с прожитием, как восстановить историю его замечательного подвига.
— Почему не верят, почему? — истомившись, вдруг рассердился Колокольцев. — Ведь ясная же картина, Август Янович, ребенку ясная.
— А если нет? — осведомился Штуб. — Давай-ка пойдем с тобой по этому пути, что и сами шли, но только методом Бодростина. Вопрос: объясните, Устименко, как случилось, что все ваши товарищи погибли, а вы остались живой? Почему именно вы? И кто может подтвердить, что вы не выдали своих товарищей, когда самолет совершил вынужденную посадку? Кто именно это может подтвердить?
— Ну, жительница деревни, где они заночевали, — неуверенно произнес Сережа. — Ведь Аглая Петровна ночевала отдельно, она была единственной женщиной на борту.
— Вы не отвечаете на мой вопрос, — довольный тем, что Бодростин получается похожим и Колокольцев явно робеет, продолжал игру Штуб. — И не валяйте дурака, Устименко, мы с вами не дети. Откуда жительница какой-то деревни, то ли Костерицы, то ли Лазаревской — даже название точно не установлено, — женщина, которую вы сами не опознаете сейчас в лицо, может доказать нам, что вы не выдали своих товарищей?
— Но зачем? — почти крикнул Колокольцев. — Зачем, товарищ Штуб?
— Не товарищ Штуб, а товарищ Бодростин, — невесело усмехнулся Август Янович. — И если уж на то пошло, не товарищ Бодростин, а гражданин начальник. А зачем? Вы спрашиваете — зачем? Чтобы получить в подачку от фашистов жизнь вместо смерти. Ясно вам, Устименко? Удовлетворены, товарищ Колокольцев?
Штуб опять встал, сильно, вкусно потянулся, прошелся по комнате и спросил издали:
— Какое, Сережа, на вас произвел впечатление Земсков?
— Замечательное, — ответил Колокольцев. — Замечательное еще и тем, что судьбы товарищей по подполью страшно его тревожат и волнуют. Лежит на койке — в чем только жизнь держится, ведь вы знаете: он еще и горбун… Ко всем болезням и к этой страшной контузии горб — тоже не сахар… Лежит среди беспомощных калек, а глаза так и светятся, все понимает, решительно все. Сестра его мне как бы переводила, она с губ читает то, что он только собирается сказать.
— А про Постникова?
— Про Постникова он ничего, кроме как то, что вам ваша сослуживица доложила, не знает. Действительно, точно, в ночь операции «Мрак и туман» стрелял. И тут я опять сегодня с нянькой говорил. Подтвердила старуха. Постников ее за кипятком послал, но она сразу вернулась и увидела, как он крюк откинул и засовы оттянул, и тут же начал стрелять в фашистюг, а когда они ворвались, он к вешалкам подался, у барьера присел и опять выстрелил, а тогда уже нянька ничего не помнила, «потерялась» — так она сказала. И еще подробность — знаете или нет? — насчет того, что та же нянька слышала, нянька-дежурная своими ушами слышала, как Постников сказал больным в ту последнюю их ночь и даже в те последние минуты, что бургомистр-изменник Жовтяк убит народными мстителями.
— Интересно, — произнес Штуб, — крайне интересно.
Он ходил по своему кабинету.
— Считалось, что Жовтяк сгорел, — напомнил Штубу Колокольцев.
— Но Постников был одиночкой, — перебил Штуб. — Погодите, а какие между ними были отношения? Богословский и Устименко могли знать эти отношения? Хоть в какой-то мере? Ладно, это я сам при случае выясню…
Август Янович еще подумал, потом резко сказал:
— Насчет взрыва в «Милой Баварии» все проверьте и перепроверьте. И насчет Аверьянова и его героического поведения, — есть живые свидетели?
Колокольцев записывал.
— Вновь запрос подготовьте к завтрему насчет Аглаи Петровны Устименко — почему не отвечают? Только без всяких там мотивов. Дескать, проходит по делу, и все, пускай ничего не подозревают…
Сергей быстро взглянул на Штуба.
— Вы ведь Колокольцев, а не Бодростин, — заметил Август Янович.
— Так точно, Колокольцев, — немножко обиделся Сергей.
— И не обижайтесь, — поворачивая в замке сейфа ключ, сказал Штуб. Он легко потянул на себя толстую стальную дверь, еще раз взглянул на заявление Степанова, отцепил от него письмо Аглаи Петровны и некоторое время молча в него вчитывался.
Колокольцев ждал.
— Это — от Аглаи Петровны Устименко, — сказал погодя Штуб, протягивая Сереже листок. — Приобщите, как когда-то говаривалось. Предполагаю — с дороги, опять ее куда-то этапировали, видите, тут ее странствия перечисляются, разберитесь. Разбираете почерк?
Сережа кивнул.
— Нам написано? — спросил он.
— Нет, не нам. Тут «дорогие мои» обращение. Вряд ли мы ей нынче дорогие, — с сухим смешком сказал полковник. — Родственнику адресовано. Ну а родственник — господин осторожный, поспешил мне вручить с соответствующим приложением — отмежеванием.
Читал бы и перечитывал Колокольцев скупые Аглаины строчки до бесконечности, если бы Штуб не поторопил его:
— Пойдем!
И в ответ на недоуменный взгляд Колокольцева повторил:
— Может, придется и не поспать нам с вами, подумать, если такое дело имеется, которое в наших с вами силах прекратить.
Голос его был тверд и недобр.
— Потому что есть и не в наших силах. Но что можем — то должны, а это мы с вами можем и потому обязаны. Идите, разбирайтесь, думайте, а я дома постараюсь подумать. Кстати, с Устименкой с этим, с доктором, я сам говорить буду при случае…
Заперев сейф и погасив свет, он вышел с Колокольцевым на лестничную площадку, крепко своей маленькой рукой пожал его руку, подмигнул ему одним глазом под очками, чего Сережа и не заметил, и быстро сбежал вниз. Несмотря на поздний час, Зося еще не спала, читала, жадно разрезая ножницами, книжку романа — старую, но почему-то не разрезанную. Алик, как всегда, занимался за письменным столом отца.
— Здорво! — сказал ему старший Штуб, снимая китель и сапоги.
— Здравствуй, папа, — суховато, словно чем-то обиженный, ответил мальчик.
— Задача не решается?
— А я и не решаю.
— Что ж ты делаешь?
— Мало ли…
Август Янович подошел ближе. Алик закрыл лист бумаги двумя ладонями. Штуб внимательно посмотрел на сына: детски розовое его лицо нынче выглядело и бледным и печальным.
— Ты что? Не заболел?
Алик тоже посмотрел на отца — внимательно, пристально и строго.
— Чем это я тебе не угодил? — спросил Штуб, садясь на стул с краю своего письменного стола. — Смотришь на меня, словно я тебе не отец родной, а… враг, что ли?
Ему вдруг стало неловко под этим пристальным взглядом. Потом, несмотря на свое плохое зрение, он заметил ссадину на щеке мальчика, разбитое ухо и две продольные царапины на шее.
— Что это? — спросил Штуб, показывая пальцем на увечья. — Дрались, что ли?
Алик потрогал царапины.
— Ну тебя к шутам, — рассердился Штуб. — Я есть хочу, на столе, как мать любит выражаться, «кот не валялся», а тут какие-то загадочные загадки.
— Я тебе пишу письмо, — печально произнес Алик. — Ты мне помешал.
— Ну и пиши.
Зося принесла ему тарелку крайне невкусного супа, которому название она и сама затруднилась определить.
— Суп «фантази»? — осведомился он.
— Да нет, так, хлебово, — зевнула Зося, — похлебали и ладно. Тебя зачем-то Алик ждал, не объяснил?
— Нет, — сказал Штуб. — Перцу не держим?
— Он же вредный, — опять зевнула Зося.
— Дай горчицы, я в хлебово подмешаю, — попросил Штуб.
— А что? Здорово невкусно? — обеспокоилась жена. — Ты не думай, это от концентратов он посинел так. А слизистость — от картофельной муки. Я ошиблась, понимаешь, Август, но ведь кисели делают с картофельной мукой?
— Ничего, — бодро сказал он, — не имеет значения. Прекрасная еда. Серную кислоту ты сюда не вливала по ошибке?
Зося обиделась.