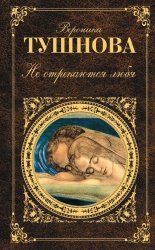Я отвечаю за все Герман Юрий
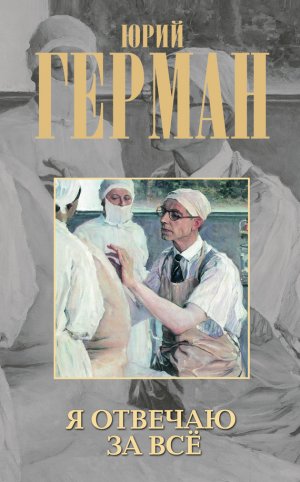
— С каждым же может случиться, — сказала она. — Дети ели с сахаром и даже хвалили. А немецкая кухня вся на слизистых супах, я читала в поваренной книге.
— За то я их и убивал, немцев, — нежно сказал Штуб. — Давай второе.
На второе был чай с хлебом и маслом. Но когда Август Янович почувствовал себя не только сытым, но даже отяжелевшим, Зося вспомнила, что завернула его личную, штубовскую, котлету вместе с картошкой в одеяло и кастрюля у нее в постели. Август Янович на всякий случай съел и котлету.
— Из мяса, — удивился он, — подумай-ка! И картошка из картошки. Имей в виду, Зосенька, что я был совершенно удовлетворен «слизистым» с чаем, котлету же съел назло Терещенке. Если я не съем — он непременно умнет. А что ты читаешь?
Зося читала Цвейга.
— Здорово пишет, — сказал Штуб. — Когда плохо написано, ты крахмал не сыпешь вместо муки. Я тебя знаю.
Она опять чуть-чуть обиделась:
— Не смешно!
Он поцеловал ее натруженные, потрескавшиеся руки. Потом, по-стариковски волоча шлепанцы, пошел посмотреть девчонок. Помойная кошка Мушка, как Штуб и предполагал, спала у самого лица Тутушки, под кроватью Тяпы чесал бок гибрид таксы и спаниеля Джек. Его брат Джон спал на тахте.
Заслышав шарканье Штуба, животные приняли исходную позицию, которая обычно заканчивалась изгнанием их из детской по команде — «а ну все отсюда вон!». Иногда, впрочем, девчонки заступались за свой зверинец, и Штуб сдавался.
— А ну все вон! — шепотом распорядился полковник Штуб.
Но животные сделали вид, что не слышали приказа. «Может быть, они понимают, что девчонки спят и я кричать не стану? — удивился Штуб. — Ведь не могут же они меня не слышать!»
Кошку Мушку ему удалось вынести за загривок, но когда он вернулся за собаками, братья-гибриды скрылись под тахту.
— Пош-шли отсюда! — сев на корточки, прошипел полковник.
Из-под тахты раздалось двухтактное постукивание. Это гибриды Джон и Джек заверяли полковника Штуба в своих искреннейших к нему симпатиях мерным поколачиванием хвостами об пол.
Август Янович наклонился совсем низко.
Глаза собак выражали из-под тахты подлинную любовь, даже любовь преданную, но и железное упорство. А помойная Мушка в это мгновение мягкой лапой растворила дверь и тигриной походкой пробралась на угретое место к Тутушке.
— Будьте вы прокляты! — сказал Август Янович и ушел, шаркая туфлями.
Алик сидел за столом отца неподвижно, исписанные листки комкал в кулаке.
— Ну? Давай письмо, — сказал Штуб.
— Я его уничтожил, — ответил младший Штуб.
— Какие слова! — восхитился старший. — «Уничтожил»! Как в кино.
— Не смейся! — попросил сын.
Что-то вдруг послышалось Августу Яновичу такое в словах Алика, что он сразу перестал улыбаться.
— Папа, разве в органах государственной безопасности могут ударить человека? — глядя прямо в глаза отцу, в его очки, тихо и строго спросил мальчик.
Штуб молчал. Он испугался. Может быть, первый раз в жизни. И растерялся. Растерялся и испугался так, как и не имел права теряться и пугаться. Это было куда страшнее внезапной проверки документов тогда, осенью сорок третьего в Берлине, это было неизмеримо страшнее взгляда пьяного эсэсовца, который сказал вдруг: «Нет, ты не портной, вовсе не портной». Это было немыслимо, невыносимо, что теперь не его жизнь находилась в смертельной опасности, в смертельной опасности находилось теперь его бессмертие: дело, которому он служил, и сын.
— Я тебя не понял, — чтоб оттянуть время, сказал Штуб. — Ты хочешь спросить…
— Я хочу спросить, — звонким от обиды и горя голосом, пощелкивая от нетерпения пальцами, вытягивая шею, сказал Алик, — хочу спросить, папа, разве ты можешь ударить врага? Даже врага? Изобличенного? Можешь?
Это было помилование, нежданное-негаданное, — оно пришло, может быть вняв всей его жизни, учитывая каждый прожитый им день, помилование перед самой казнью. Бессмертие сохранилось, Верховный суд рассмотрел…
— Ты не обижайся только, папа, — воскликнул Алик, и в голосе его Штуб услышал и облегчение и счастье, — пожалуйста, папочка, не обижайся. Но понимаешь, папа, Алешка Крахмальников сказал, что он знает, он слышал…
Алик оттолкнул мешавший ему стул и подошел к отцу. Он хотел, наверное, обнять Штуба, но не посмел, увидев его белое, неподвижное лицо с сильно обнажившимися морщинами, не только не посмел, а и попятился немного, замолчал, судорожно вздохнул и опять заговорил, не в силах кончить этот страшный для Августа Яновича разговор.
— Чекисты — это же самые замечательные люди, — слышал Штуб слова Алика, — они… Правда, смешно, что я тебе это говорю, тебе. Вы же дзержинцы. И вы не можете. Папа, ты ведь никогда не ударил арестованного человека?
— Нет, — тихо ответил Штуб. — Не ударил, Алик, и не ударю.
— Ведь это невозможно?
— Невозможно, Алик, — глухо ответил Штуб.
— Совсем невозможно? Исключено?
— Исключено.
Нет, это не было помилованием. Это было похлеще приведения приговора в исполнение. Если еще учесть то обстоятельство, что Штуб ненавидел ложь…
— Значит, я правильно двинул в зубы этому клеветнику Крахмальникову? Если он утверждает…
Штуб отвернулся. Отвернулся и тупым взглядом посмотрел в стену. «Стенка, — зарегистрировал он. И подумал: — Наступит же час? Не может не наступить. Но нынче? Как мне смотреть в эти глаза? Чем ответить на их огонь?»
И Штуб ответил:
— Дзержинский такого человека поставил к стенке.
— Расстрелял? — воскликнул Алик. И добавил тихо: — Вот видишь! Вот видишь же! А Алешка Крахмальников смеет врать…
— Хорошо, — сказал Штуб, — вопрос ясен. Я устал, Алик, прости, стар стал.
Уходя, Алик спросил:
— Ты не сердишься?
— Нет, — ответил Штуб. — Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, папа. Ты, правда, не сердись. Я понимаю, что решать вопросы кулаками в нашем возрасте — глупо, но…
— Да, да, я понимаю, — мучаясь недосказанностью, сказал Штуб, — понимаю. Но только…
Он не знал, что — только. И вдруг понял.
— Подожди! — велел он сухо.
Алик остановился, обернулся к отцу. Он стоял уже у двери — маленький Штуб, плечистый, крепенький.
— Этой дракой и тем, что ты ударил Лешку, — раздельно, как в своем служебном кабинете, сказал Август Янович, — ты… ты поступил низко, понятно? Ты — сын начальника, работника госбезопасности, ты тоже Штуб. Штуб! — повторил он громче. — Понятно?
Маленький Штуб кивнул скорбно и виновато.
— Понял ли?
— Я же не пень, — шепотом ответил Алик.
— Ступай. И позови на минутку маму.
Зося, конечно, пришла не сразу — лихорадочно дочитывала и, не дочитав, принесла книгу с собой.
— Зоська, — сказал Штуб, — знаешь что, Зоська?
— Что, Штубик? — ответила Зося. Она его иногда так называла — чтобы он отвязался, если ей было интересно читать. — Что тебе, Штубик?
Нет, судя по ее лицу, Алик ей ничего не наболтал насчет Алешки Крахмальникова.
— Ничего, — неслышно вздохнув, ответил он, — устал сегодня. Иногда кажется — лопну!
Зося резко повернулась к мужу. Он никогда еще не жаловался. Только во сне — стонал. И вскакивал, оглядываясь. А сегодня он, видимо, действительно ужасно, нестерпимо устал — даже очки снял, чтобы не видеть ничего, что ли? И смотрел в ее голубые глаза беспомощно, не различая их бесконечно доброго света.
— Все Цвейг, Цвейг, — еще раз вздохнув, сказал он. — А Пушкин? — И прочитал негромко наизусть:
- Посадят на цепь дурака
- И сквозь решетку, как зверька,
- Дразнить тебя придут…
— К чему это? — с тревогой в голосе спросила Зося.
Но Штуб продолжал:
- А ночью слышать буду я
- Не голос яркий соловья,
- Не шум глухой дубров —
- А крик товарищей моих,
- Да брань смотрителей ночных,
- Да визг, да звон оков.
— Перестань, Август, — попросила Зося, — пожалуйста, милый. Что с тобой делается?
Он обнял ее, крепко прижал к себе и сказал, уже посмеиваясь:
— Курить, мамочка, надо меньше. Гулять перед сном. Острое, копченое, соленое — исключено. Ужин отдай врагу. А я съел сам. Вот и расплачиваюсь…
Глава пятая
КЛЯТВА ГИППОКРАТА
Вызван Устименко был на четырнадцать, но и в шестнадцать многоизвестный золотухинский секретарь — референт Голубев — Владимира Афанасьевича не замечал. Он все с почтой разбирался, бумаги по папкам раскладывал да собеседовал по телефонам. В шестнадцать десять Устименко поднялся со своего дерматинового дивана и без лишних околичностей отворил дверь и вошел к Зиновию Семеновичу. Золотухин сидел над горой бумаг, но не читал их. Только подойдя ближе к огромному письменному столу, Устименко разглядел, что глаза Золотухина закрыты и, подпершись тяжелой рукой, он спит. Лицо его даже во сне было так замучено и горестно, что Владимир Афанасьевич невольно отступил, но получилось это неловко: палкой он толкнул кресло, и сделался шум, от которого Золотухин проснулся.
Несколько мгновений он ничего не понимал, потом ладонью обтер лицо и, без всякой принужденной приветливости, сурово велел:
— Садись, доктор.
Устименко сел.
Золотухин посмотрел на стрелки огромных часов, что стояли в углу, закурил, затянулся и неловко извинился:
— Задержал, прости. Две ночи без сна, супруга моя совсем растерялась.
Владимир Афанасьевич не спросил — почему: догадывался.
— Ну, так слушаю тебя, — стараясь оживиться при помощи папиросного дыма, сказал Золотухин.
Устименко сдержанно, вполне благопристойно, в немногих, но достаточно крутых словах поведал все свои строительные беды и даже несчастья. Золотухин, вычерчивая карандашом в блокноте кривые, осведомился, «что делать надо?»
— Дайте наконец людей в достаточном количестве.
— А не хочешь ли ты, небога, еще и мяса? — гоголевской фразой, но без всякого юмора спросил Золотухин.
— Я хочу, чтобы, например, силы высококвалифицированных военнопленных не расходовались так бессмысленно и бездарно, как они расходуются сейчас, — стараясь перехватить уходящий от него тяжелый взгляд Золотухина, резко и даже грубо сказал Устименко. — Мне хорошо известно, что специалисты: паропроводчики, толковые маляры, кровельщики, каменщики, бетонщики, жестяники — самые притом высококвалифицированные…
— Не по моей части, — прервал Золотухин. — Не моя команда. Я бы их и сам с гораздо большей пользой распределил по объектам. Так что измени тематику. Да, впрочем, ты, я слышал, на эту тему в высокие инстанции обратился?
С удивлением Устименко подумал — откуда мог слышать Золотухин, но ничего не спросил:
— Хорошо, изменю тематику. Дайте, товарищ Золотухин, строителей немедленно, снимите хотя бы с универмага, с…
— Универмаг мы и так против плана завалили, — сказал Золотухин доверительно, — вообще завал за завалом…
— Завал за завалом, — не идя на доверительность, а с ходу обвиняя, зло заговорил Устименко, — потому у нас в Унчанске решили, от большого ума, тут, на площади Пузырева, развернуть такой ансамбль, чтобы им закрыть все разрушения войны. Не закроете, дорогие товарищи, ни у кого это получиться не может. А самое главное то, что разрушения восстановить дешевле и проще, чем закрывать их универмагом с колоннами, Дворцом культуры с колоннами и исполкомом с колоннами.
— А я, предполагаешь, думал иначе? — со странным смешком сказал Золотухин. — Вот чудак барин, право, чудак барин! Или ты что проведал?
— Как это — проведал?
— А так, что именно в данном разрезе товарищ Золотухин выговор получил. И, конечно, признал свои ошибки, вредные ошибки. Ибо наш Унчанск должен выглядеть монументально. Соображаешь?
— Нет! — ответил Устименко. — Это же глупо!
— И фризы, и пилястры, и архитравы тебе не подходят?
— Не подходят!
— Простота тебя устраивает? Экономичность? И считаешь ты, что ансамбль, бог с ним совсем, может для первого послевоенного времени и не быть, а кое-что может и не «вписываться», лишь бы людей расселить, отгрохавших такую войнищу, лишь бы крыша над головой, да больницы больным, да стадион какой-никакой для начала, а уж потом, на досуге…
Что-то мягкое, усталое, домашнее и не начальнически насмешливое, а просто веселое появилось в тяжелом лице Золотухина, он посмеялся недолго, еще взглянул на часы и вдруг казенным голосом заключил:
— Будем считать вопрос исчерпанным. У нас имеется генеральный план, в котором я не властен, да и никто теперь, пожалуй, не властен. Даже такой организм, как ты, товарищ Устименко…
Из-под тяжелых век он внимательно смотрел на Владимира Афанасьевича и вдруг, опять изменив тон, спросил:
— А почему ты такой?
— Какой? — удивился Устименко.
— Такой, что от товарища Лосого поступил сигнал: главврач Устименко от ордера на квартиру отказался в категорической форме. Плоха тебе квартира? Три комнаты, дом специалистов, горячая вода будет, лифт, по фронтону, как ты любишь, колонночки пропущены. Не слишком монументальные, но все же не без колонн. Многим нравится. А товарищ Устименко, видите ли, отказался.
Владимир Афанасьевич едва-едва покраснел — по скулам, но от Золотухина это не укрылось.
— Капризничаешь, товарищ Устименко?
— Нет.
— А что тогда, как не капризы?
— Надеюсь впоследствии жить при больнице.
— Так ведь там уж и совсем покою не будет.
— Если дело хорошо поставлено, то покой именно там и будет. Впрочем, есть такая традиция — старая и недурная: главный доктор живет при больнице.
— Это Гиппократ так поклялся?
— При чем здесь Гиппократ?
— При чем здесь товарищ Гиппократ?
Золотухин вынул из ящика стола книгу, открыл ее, полистал, произнес со вздохом:
— А при том, что я нынче только медиков ученых и читаю, все стараюсь своим умом разобраться — как это может здоровый парень взять да и без войны помереть. Из библиотеки взял — может, в древней Греции поумнее нас доктора были?
Он открыл титульный лист, прочитал: «Перевод профессора Руднева», еще вздохнул и сообщил:
— С другой стороны, утешительного и духоподъемного чрезвычайно много. В ближайшие, пишут, десятилетия с этим делом будет покончено. А лет эдак через четыреста человечество достигнет практического бессмертия…
Владимир Афанасьевич промолчал. «И зачем только ему еще книгами и брошюрами себя растравлять?» — подумал он.
Золотухин оттолкнул Гиппократа, тяжело вздохнул и опять закурил, вконец замученный своим горем, сломанный, согнутый человек. Помолчали. А немного погодя Устименко спросил Золотухина о сыне. Он никогда не раздумывал, когда и о чем можно или нельзя разговаривать. Гиппократа Зиновий Семенович, разумеется, читал из-за сына, и Устименко спросил, как с ним и что.
— Да я уж Степанова вашего выспрашивал, — глядя в сторону, сказал Золотухин. — Он мне порекомендовал именно на профессора Шилова надеяться. Крупнейший авторитет, и в данной как раз области…
Устименко крепко сжал челюсти. Нет, он не был против авторитетов. Он просто был за Богословского.
— Что ж о Сашке говорить, — с трудом выговорил Золотухин. — О Сашке теперь говорить нечего. Плохо там дело, товарищ Устименко, совсем плохо. Жену сегодня опять туда направил, не знаю, как доедет, из сил выбилась, один ведь он у нас остался…
— Вы мне расскажите то, что вам известно, я ведь врач.
— Оперировали его…
Устименко молчал. Крутая складка легла меж его бровями.
— Ну? — наконец спросил он.
— Никакого «ну» быть не может. Проросло все. Зашили обратно.
— Опухоль? Мне подробности важны. Какая?
— Да уж наверное то зашили, что удалить не могли.
— А кто оперировал? Шилов?
— Кто же другой. В общем, с этим вопросом все. Какие у тебя, товарищ Устименко, еще дела? Желаешь о своей квартире со мной побеседовать?
— О своей — не желаю. — И, понимая боль Золотухина и вдруг раздражившись на этот его вопрос, Устименко сказал: — А о других врачах — желаю. Кстати, от своего ордера я отказался, приложив к нему заявление, чтобы жилплощадь отдана была под коммунальную квартиру больничному персоналу, а кому именно, мы сами разберемся.
— Кто это мы?
— Допустим, я!
Взгляды их пересеклись: вызывающий — Устименки и насмешливо-печальный — Золотухина. Но Владимира Афанасьевича уже понесло.
— Вы предполагаете, — сказал он, — что товарищу Лосому виднее, кто должен в первую очередь получить квартиру? Или вам виднее? А почему, собственно, вы так предполагаете? Не потому ли, что подразумевается: получит ордер Устименко и укротится со своей настырностью? Неловко ему станет. Так нет же, не неловко. Уж такой у меня характер тяжелый, еще в давние времена говорили мне, что я и ригорист, и мучитель, такой у меня проклятый характер, товарищ Золотухин, что никакие силы меня не примирят ни с вашими архитектурными ансамблями, ни с колоннами, ни с монументальностью, так же как не примирят со спецкорпусом больницы, который мне рекомендуют строить…
— А ты и по сей день не согласился? — спросил Золотухин.
— Не согласился и не соглашусь никогда.
— Да почему?
— Во-первых, потому, что спецбольничка у вас уже есть. И вы ею вполне устроены. А во-вторых, потому что Кремль у нас один и кремлевская больница одна. Не может быть «филиалов» Кремля, кощунственно это — неужели не понятна моя мысль? Ведь если дальше идти, то в районной больнице тоже надо «спецпалату» создавать, если до логического абсурда этой дорогой шагать…
Золотухин смотрел на него внимательно.
— Ну-ну, — сказал он с любопытством, — почему же плоха спецбольница? Разъясни.
Устименко разъяснил: если жена секретаря райкома рожает в районном родильном доме — секретарь волей-неволей знает, какие там порядки, как обстоит дело с постельным бельем, чем кормят, тепло ли, светло ли, хороши или нет доктора с сестрами и с нянечками. Да и почему, спрашивается в задачке, почему дочка, допустим, зампреда исполкома должна лечиться и лежать в особой детской палате специальной больницы, хоть болезнь у нее пустяковая, в то самое время, когда дочка другого человека, не прикрепленного к спецбольнице, тяжело болеет в трудных условиях, которые Зиновий Семенович почему-то считает нормальными. Тут уместно будет вспомнить Владимира Ильича Ленина после ранения и то, в какую больницу его привезли на рентген и как он волновался, что кто-то из-за него обеспокоен…
— Это ты меня, что ли, учишь? — навалившись грудью на стол, спросил Золотухин.
— А почему вы так тревожитесь, если я даже и напоминаю вам то, что вы забыли? — осведомился Устименко. — Ведь медицина — моя специальность, не ваша. Почему же вам и не послушать специалиста?
— Ты так всю жизнь прожил? — неожиданно спросил Золотухин.
Устименко усмехнулся. Мгновенная, летящая его улыбка совсем обескуражила Зиновия Семеновича.
— Еще не прожил. Еще поживу.
— Я тоже вроде тебя был, Владимир Афанасьевич, — с горечью произнес Золотухин. — Да вот укатался малость. Тут важно не бояться, — деловито заметил он, — главное — не бояться. Ты и впредь не бойся, не бойся, что доброго места себе и не угреешь.
— А я и не боюсь.
— Ничего и никого?
— Пожалуй что нет, — не торопясь, сказал Устименко, еще подумал и добавил: — Нет, впрочем, бывает — боюсь. Неправильно поступить.
— Неправильно в каком смысле?
— Ну, против дела, против работы, следовательно, против деловой совести. Кроме того, характер у меня тяжелый, слишком бывает требовательный. И к тем, кто не виноват, пристанешь, случается. Теперь, правда, меньше, раньше я хуже был, всех судил…
— А себя?
Владимир Афанасьевич опять одарил Золотухина летящей своей улыбкой:
— Себя строже других.
— Ладно, времени мало, — словно рассердившись на себя за этот «чувствительный» разговор, сказал Золотухин. — Теперь возьми блокнот, записывай, где и какую рабочую силу набирать станешь… Я с Саловым договорюсь, помогу тебе…
Но Устименко никакого блокнота не вынул.
— Вот возьми со стола листок, — добродушно говорил Золотухин. — С миру по нитке — голому рубаха. Наскребем тебе, доктор, по малости рабсилы. За квалификацию не поручусь, но окончательно строительство твое не остановится. Будут по малости тюкать. Помаленьку-полегоньку с мертвой точки сдвинешься, сама Москва — и та не враз строилась. Пиши…
— Зачем? — спросил Устименко.
— Это как — зачем? Запомнить надеешься?
— Да ну! — сказал Владимир Афанасьевич. — Ни на что я не надеюсь. Но только по пять лодырей у стройконтор клянчить — смешно, право. Нет, так, Зиновий Семенович, дело у нас не пойдет.
И он поднялся, оскользнувшись на паркете раненой ногой и мучительно покраснев оттого, что это получилось жалостно-картинно, — вот какой пострадавший калека себя показывает.
— Значит, не нуждаешься? — со смешком спросил Золотухин. — Сам такой мудрый, что и советы тебе не нужны? Ну иди, иди, валяй. Но ведь я попомню: давал тебе строителей, да ты не взял. Так что, дорогой доктор, мы спросим. С тебя спросим, как ни верти. И деваться тебе будет некуда, понимаешь ли? Не отопрешься. Ну, иди, да не возвращайся — больше ничего от меня не получишь…
Так и был Устименко изгнан из огромного светлого кабинета. Вышел он от Золотухина, нисколько не испуганный, не расстроенный даже, а сосредоточенный — как же быть-то все-таки дальше? Разумеется, мог он и обидеться, да, кажется, и обиделся самую малую толику, но довольно быстро все это с себя стряхнул, сосредоточившись, как шахматист, над комбинациями, которые могли бы быть осуществлены для получения добротно организованных строителей. Об отношении к себе товарища Золотухина и о сменах выражения лица Зиновия Семеновича он нисколько не задумывался, да и не приметил их толком — он никогда и не замечал, как относится к нему начальство. Уже совсем вблизи незадачливого больничного городка вспомнился Устименке разговор о золотухинском сыне, и он слегка поморщился на суесловного Женьку и попрекнул себя в недостаточной настырности, но тут уж сделать что-нибудь было невозможно: разве прилично Богословскому тягаться с самим Шиловым? Но хороша ли осторожная система невмешательства?
Едва войдя к себе в кабинет и не сняв еще шинель, он услышал верещание телефона и взял трубку. Голубев-референт вежливо сообщил ему, что соединяет с товарищем Золотухиным.
— Устименко? — спросил Золотухин сердито. — У меня Салов. Я его к тебе подошлю насчет строителей. Рви из него душу, указания он имеет. Ясно?
Голос у Золотухина был хоть и сердитый, но не злой, не тот, которым давеча он выпроваживал — «иди да не возвращайся, больше ничего от меня не получишь».
— «Спасибо вам большое» — так надо сказать, — услышал Владимир Афанасьевич. — Или твой Гиппократ этому не обучал? Вот передо мной книга его лежит с клятвой: «Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство». Так, что ли?
— Не помню, Зиновий Семенович, — ответил Устименко, — мы давно это дело проходили, в молодости еще.
— А сейчас ты старик?
— К тому идет.
— Ладно, работай!
Голос у него вновь стал сердитый — наверное, привык, чтобы благодарили.
ВТРОЕМ
— Больше, Реглер, вы можете мне не показываться, — сказал Богословский, моя руки в околотке лагеря военнопленных. — Вы практически здоровы. Вполне годитесь к тому, чтобы вернуться на родину и выступить на митинге студентов, ветеранов войны. Будете орать «хайль, зиг хайль, хох» и рассказывать о зверствах, которые учиняли русские по отношению к вам, пленным.
За эти месяцы постоянного общения с немцами Богословский настолько понаторел в языке, что говорил почти без пауз. Рудди на его речь ничего не ответил, но, когда Николай Евгеньевич собрался уходить, сказал:
— Я выступлю в печати и расскажу, как вы… имея сами такое горе, спасли мне жизнь.
— Врете! — невесело усмехнулся Богословский. — Розовые враки! Ничего этого не будет. Там, куда вы уедете, выгоднее, расчетливее, удобнее жить ветераном войны и пострадавшим от войны, чем просто честным человеком. Вы, будущий коллега, заробели с юности. Так и помрете.
— Я выступлю! — не слишком уверенно повторил Рудди.
— И опять врете! — не подавая руки Реглеру, сказал Богословский. — Это будет против течения. А зачем вам, аккуратному мальчику, плыть против? Да и ваш Отто фон Фосс еще выйдет в люди, покажет вам, будущему медику, как его позорить.
— Я — без фамилии, — едва слышно пролепетал Рудди.
Богословский усмехнулся и ушел. У лагерных ворот его перехватил лейтенантик, сказал, что в канцелярию «прибыл» полковник Штуб, дожидается там Николая Евгеньевича, и если тот не спешит…
Богословский не спешил. Коротконогий Штуб, перекатывая губами мундштук папиросы, ходил из угла в угол по ярко освещенной комнате, когда старый доктор открыл дверь.
— А вы изрядно хромаете, — сказал Штуб, — из коридора слышно. Оперировать с такой ногой тяжело?
— Не слишком. Привык даже. Живот больше мешает.
— Да, я слышал. Скоро медицина с этой подлостью разберется?
— Даже если и скоро, нашему брату, ввалившемуся в эту историю, нынче не легче. Впрочем, я-то лично думаю, что одной десятой усилий, направленных на такую войну, как нынешняя, вполне бы хватило, чтобы покончить со всеми раками. Вы-то как живете?
— Помаленьку.
— Воевали?
— Некоторым образом, — с короткой усмешкой, удивительно красящей его некрасивое лицо, ответил Штуб. — По малости.
— А как же зрение?
— Мешало. Вы вот что, — обернулся Штуб к лейтенанту, — сделайте нам, пожалуйста, одолжение — принесите по стакану чая. Если возможно, покрепче.
Лейтенантик пошел организовывать чай.
— Ваш Устименко писал в ЦК, — сказал Штуб, — я было собрался к вам в больницу ехать отсюда, да узнал, что вы тут. Это ваша общая затея — насчет пленных?
— Пожалуй, более даже моя, — готовясь к тому, чтобы защитить своего главврача от неведомой напасти, ответил Богословский. — А то, что он написал один…
— Вам известно, что он написал?
Николай Евгеньевич покряхтел: конечно, ему не было известно, что там настряпал этот «бешеный огурец».
— Да вообще-то, — промямлил он, — конкретно мы не…
— Хорошо написал ваш Устименко, — сказал Штуб. — Хорошо и толково. Смело. Конечно, имели место возражения, но его идею поддержали. В частности, наша область поддержала, нам первым посоветовали этим заняться. Я тут собрал товарищей, и мы решение отредактировали как раз по поводу строительства вашего больничного городка. Думаем целиком военнопленных на ваш объект направить. И рядом, и специалисты, и сами же, черти, разбили своими обстрелами и бомбежками…
— Золотухин откажет, — сказал Богословский.