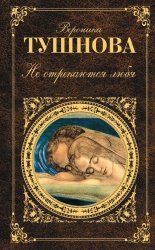Я отвечаю за все Герман Юрий
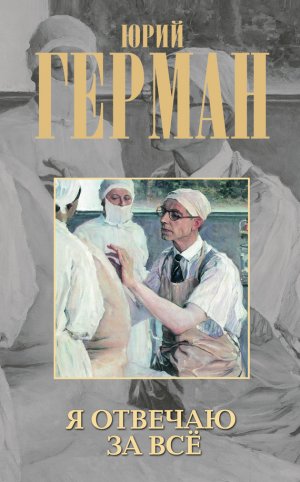
— От любого.
— Но что же мне делать, если я действительно люблю Устименку?! Люблю, несмотря на то, что он не состоялся таким, каким я видела его в моем воображении. Нет, ты должна понять…
— А если я не хочу понимать?
В это самое время Родион Мефодиевич вошел в свою комнату и увидел Варвару, которая курила, лежа на его кровати. Она была в старых лыжных штанах, круглые ее глаза смотрели печально, устало и ласково. Степанов просто забыл, что послал ей телеграмму — просил приехать, посоветоваться.
— Ты ела? — спросил он по старой памяти и по старой памяти, как тогда, когда она была совсем маленькой и жила у него на корабле, поцеловал обе ее руки в широкие ладошки. — Ела, доченька?
— Ты у Володьки был? — спросила она.
— Был.
— Верно, будто у него одна комната?
— Вроде, — ответил адмирал. — Мы в кухне сидели.
— А кухня коммунальная?
— В общем-то тесновато живут. Там еще сестра, насколько я понял, супруги его — Любовь Николаевна. Тоже женщина красивая. И мамаша — говорит голосом из живота, вроде как чревовещатель. Дочка-то спала уже…
— Чем же тебя угощали?
Это все-таки была мука мученическая. Всегда она вот так, со скучным лицом, выспрашивала его про Устименку, а он чувствовал, как колотится ее сердечко, бедное, одинокое, дурацкое, усталое от этой длинной, несуразной, невозможной любви, такой нелепой для его Варьки, — она-то ведь все равно лучше всех, умнее, душевнее, проще, яснее; нет больше таких, как Варвара, вот поди ж ты!
— Забудь ты наконец про него! — адмиральским голосом велел Степанов. — Кончено это! Освободись!
— Не забуду! — твердо глядя своими круглыми коричневыми, все еще невзрослыми глазами в глаза отца, с медленной усмешкой ответила Варвара. — И не покрикивай на меня, как на свою верхнюю палубу. Я — твоя дочка, а не артиллерия главного калибра.
— Забудь, дочечка, — испугавшись, что обидится, вдруг старушечьим голосом повторил он. — Найдем тебе женишка, вот хочешь, из Москвы привезу?
— Женишков полно на базу завезли, — как в детстве, держа руку отца за пальцы двумя руками, сказала Варя. — Только я, батя, не невеста.
— В монахини пострижешься?
— В прежние времена непременно бы постриглась. И не простым — черным постригом, или как это у них было. Схиму приняла бы, что ли! А потом сиятельный граф Володя Устименко бросился бы передо мной на колени на холодные каменные плиты суровой монастырской церкви. А у меня в руке свеча, и сама я такая тонкая-претонкая…
— Ну? — не без любопытства спросил адмирал.
— И все. А потом бы лежала в гробу, и монахини бы жалобно надо мною пели. А граф Устименко, черт бы его подрал, застрелился бы из длинного пистолета.
— Сейчас все выдумала?
— А хочешь — я его убью, — блестя глазами, предложила Варвара. — У тебя револьвер есть? Протяну вот так руку — и бац-бац-бац!
— Ненавидишь его?
— Нет, люблю, — со вздохом сказала Варвара. — Скоро совсем постарею, а все любить буду.
— Послушай, а что ты в нем в конце концов нашла? — вдруг взорвался Степанов. — Что захромал на войне? Так и хромого сыщем, невелика примечательность. Сострадаешь? Ведь не было же так?
Варвара села на кровати, поправила волосы, потянулась, потом сказала:
— Ладно, папа, ты ведь меня не для этой беседы депешей вызвал. Что у тебя за новости? Поговорим, потом пойдем в ресторан, мне охота с тобой потанцевать. Ты не думай — я переоденусь…
— В ресторан? — удивился адмирал.
— Ага. За мой счет, я заработала дикие деньги. И потом мне интересно, чтобы про нас думали: какой ты ухажер старый и какую дамочку приволок. Имей в виду — я буду капризничать и выламываться.
— Выламывайся! — сказал адмирал. — А я тебя розгой посеку.
— Угощение будет роскошное, — продолжала Варвара. — Самые дорогие закуски. Вина, водки, коньяки, какао, кофе, молоко…
Она вдруг поцеловала отцу руку, что делала раз в три года, сказала, что Женька ей уже изложил планы отца насчет поездки и что она считает — ехать нужно немедленно. Степанов тихо улыбнулся: кто-кто, а он знал свою дочь…
— Денег у меня до черта, — продолжала Варвара, — тебе пригодятся, ты не изображай миллионера…
Степанов все улыбался: вот для чего она вела его в ресторан, чтобы он видел, как она мотает деньги.
— А чулки себе купила, монашенка? — спросил Родион Мефодиевич. — Или еще красишь ноги?
— Женька насплетничал? — быстро спросила она.
И велела ему одеваться, бриться, привинтить Золотую Звезду и вообще «соответствовать».
— Я тоже постараюсь! — сказала она почему-то угрожающе.
То ли он уж слишком ее любил, то ли стар стал и сентиментален, но почему-то, когда пришла она в его комнату «готовая совсем», по ее словам, он даже порозовел от гордости: какая у него дочь, какая его Варвара, насколько лучше она всех вместе взятых «раскрасавиц», вроде этой Веры Николаевны, которая свою красоту носит и всем показывает, — красоту всегда одинаковую, никогда не праздничную, да что тут!.. И тихим голосом, самодовольным и даже рокочущим, Родион Мефодиевич радостно сказал:
— Ну-ка повернись, повернись, ну-ка покажись, дочечка!
Она щелкнула выключателем, чтобы отец и покрой костюмчика увидел, и как волосы она уложила, и как прямо и счастливо смотрит на него она — тоже довольная собой, придуманным кутежом. «Гляди, батя, ничего у тебя дочка?» И он, конечно, смотрел, оглядывал, вглядывался в ровный, насмешливо-добрый, умный взгляд ее, в тяжелый узел совсем немодной нынче прически (и когда она волосы отрастила!) и в то горькое, мгновенно мелькнувшее возле ее губ выражение, которое замечал он не раз после войны и которое простить не мог Устименке, и во всю ее особую, ей принадлежащую, всегдашнюю открытость. «Вот я такая, люди, я вся тут, любите меня, я вас люблю!» Такая, еще маленькая, она ходила по Кронштадту, такой была на корабле, такой и выросла…
— И еще сумочка будет, — сказала Варвара. — Ираидка сейчас еще щеткой чистит — заначить хотела, но со мной шутки плохи, что мое — то мое, ты меня знаешь!
— А шуба у тебя от мороза есть?
— Шуб у меня избыток, — соврала Варвара, — сколько угодно, три или четыре. Я вообще, папа, исключительно одеваюсь. Но все неперешитые, у меховщика. Я ведь люблю модное, не могу отставать. Для тебя надену Ираидкину — с шиком сшита. Ты хочешь, папа, выпить?
— Выпить можно!
— Выпить завсегда можно, — сказал дед Мефодий. — Если по-хорошему, в аккурат. А если с безобразием, то лучше нет, как воздержаться.
— Я, дед, с безобразием тяпну, — сказала Варвара, поцеловав Мефодия. — Я люблю, если выпить, то чтобы подраться, ножом кого пырнуть, верно, пап?
— Перестань ты, — попросил адмирал, подавая дочери в передней шубу. — Слушать, и то смешно!
Дед Мефодий почесал о косяк спину и осведомился:
— Вы куда ж, ребяты?
— В ресторан! — сообщила Варвара. — Мы, геологи, дед, знаешь как пьем? Литрами! Конченый народ!
— По ресторантам, — рассердился дед, все еще почесываясь о косяк. — Видали? Там же сумасшедшая стоимость, обдираловка немыслимая. За те деньги я вам дома и холодец из ножек подам, и сельдя с луком, и горячее, и красной головки — залейся, казак, до ушей хватает.
— А мы, дед, желаем в ресторан! — сказала Варвара. — И ты нам не препятствуй!
— Заимей сначала свою шубу! — брякнул дед.
Варвара грозно на него взглянула, он закрыл свой рот ладонью. Юрка тоже попросился в ресторан, но Ираида его уже разула на ночь, и он со своей участью примирился.
— Может быть, и мы погодя подойдем! — пообещал Евгений. — Если у Иры настроение будет.
— Вы подойдете за свой счет, Женюрочка, — сказала Варвара. — А так как ты это терпеть не можешь, то у Иры не будет настроения. Пошли, папа. И запомни — я твоя дама. Один взгляд в сторону, и я, сделав тебе сцену, уйду в ночь.
ТОТ САМЫЙ ГУБИН
Ему не удалось и часа проработать, как явился Губин — по своему обыкновению без телефонного звонка, словно был белый день. Выпивший, веселый, гладкий, удобно и добротно одетый, что называется — «ухоженный». Всегда он являлся именно таким — и домой, и в больницу, и на заседание президиума исполкома.
— Тебе надлежит завизировать, — сказал он и протянул Устименке свою вечную цвета крови ручку с золотым пером. — Возьми мое стило и поставь свой гриф. Можешь не читать — все возвышенно, изящно и монументально. Губин стилем владеет.
Это был тот самый Борька Губин, с которым они когда-то, черт знает как давно, ездили по грибы, тот Губин, который влюбился в Варвару, а потом внезапно возник в современной печати. «Бор. Губин» — читал Устименко все эти длинные годы и каждый раз удивлялся: неужели это тот самый Борис?
— Представь, тот самый, — со вздохом подтвердил Губин, когда они встретились в Унчанске после войны. — Оплешивел несколько, обрюзг, но тот самый. Конечно, кому война мачеха, а кому мать родная…
И он со значением поглядел на орденские планки, которых было не так уж мало на устименковском заношенном кителе.
О Варваре он знал больше, чем Устименко. И знал как-то удивительно скрупулезно. Помнил даже фамилию того вояки — Козырев — и однажды ухитрился пить с ним водку в ресторане гостиницы «Москва»…
— Это зачем же тебе? — простодушно удивился Устименко.
— «Хочу все знать»! — названием журнала ответил Борис Эммануилович. — Я любопытный, да к тому же профессия обязывает.
Владимир Афанасьевич взглянул прямо в глаза Губину своим режущим из-под мохнатых ресниц, почти всегда суровым взглядом. Когда-то Варвара сказала, что глазами о враждебные ему глаза он, наверное, высекает искры. Но сейчас искры не получилось: в юности добрые, нынче глаза Губина стали просто студенистыми. Что-то в них пропало, но нечто и новое появилось. Неопределенность, что ли?
— А разве профессия журналиста обязывает копаться в таких делах? — спросил Устименко при первом их свидании. — Вот не знал.
— В каких это «в таких»? — вопросом же ответил Б. Губин. — Варвара Родионовна для меня значит неизмеримо больше, чем ты можешь предположить…
Устименко пожал плечами. Он ненавидел разговоры на эдакие темы. Да и какое ему могло быть дело до того, на что намекал Губин? «Намеки тонкие на то, чего не ведает никто», — как любил говорить Богословский.
Но все-таки неприятно Устименке сделалось, а это, видимо, Губину и надо было.
Потом Борис поинтересовался, не попадалась ли Володе его фамилия в печати.
— Попадалась! — сухо ответил Устименко.
— И как?
— Красиво пишешь, — усмехнулся Владимир Афанасьевич. — До слез. Давеча я прочитал: «И святая святых Богословского — операционная».
— Запомнил! — удивился Губин.
— Мы все запомнили, — продолжал Устименко. — И не только это. Вот еще: «Считавшийся раньше безнадежным больной С. возвратился к жизни, к радости созидательного труда, к пению птиц, к веселому шуму ветра, к счастью созидания. Чудотворцем в белом халате был Богословский». Так?
— Примерно так, — зло розовея, сказал Губин. — А что? Стиль времени!
— Только Салов никогда безнадежным не был, — пояснил Устименко, — а насчет «созидания», так ведь он просто нормальный снабженец.
Такой была их первая беседа. А потом Губин накропал что-то крайне розовое о ходе строительства корпусов больницы, выдумал несуществующую крановщицу Люсю Жирко и уже вредно наврал про сроки, в которые новые здания «гостеприимно распахнут свои двери навстречу…»
Вновь произошел крайне неприятный разговор.
— Послушай, — сказал Губину Устименко, — я, конечно, не сочинитель, но тебе не кажется, что по поводу больницы глупо писать «гостеприимно распахнут свои двери». Что за гости в больнице? И никакой Люси у нас не было, не говоря уже о кранах…
В общем, шаг за шагом, вернее строчку за строчкой, Устименко «зарубил» весь очерк Б. Губина. Тем не менее, хоть и без Люси, очерк появился. «Унчанский рабочий» его напечатал. Главной героиней теперь была Катя Закадычная, про которую Губин написал, что у нее «озорные, с улыбчатой хитринкой глаза», что она полна «дерзких мечтаний» и даже «звенит, как туго натянутая струна». Были и слова — «тепло и участливо», «грустинка», «человеческий уют белых стен», «ежесекундные битвы за человеческие жизни»…
И разумеется, командовал всем В. А. Устименко с «глубоко запавшими, усталыми и думающими глазами», «человечный человек», «скромный и незаметный, но незаменимый».
— Ну как? — спросил Губин.
— Вредно пишешь, — сказал Устименко. — У нас два термометра, а ты расписал черт-те что!
— Юродивый во Христе, — усмехнулся Губин. — Я же тебя поднимаю. Теперь, с этой «мататой», — он хлопнул по очерку ладонью, — можешь требовать что угодно, хоть у самого Золотухина. Все двери перед тобой откроются.
Самым же удивительным было то, что сентиментальная стряпня Губина нравилась всем, особенно Вере, ухитрившейся даже всплакнуть над очерком, в котором прославлялись «добрые и мудрые» руки Богословского. Сам же Николай Евгеньевич в этом очерке «дважды в день», а то и «трижды и четырежды», якобы умирал и возрождался вместе со всеми теми, кого он оперировал и, следовательно, «возвращал в шумную и сверкающую жизнь».
— Эк ведь писака куда хватил! — возмутился Устименко. — Что бы с Николаем Евгеньевичем было, если бы он действительно при своем здоровье еще по-губински и умирал и возрождался от каждой грыжи или аппендэктомии.
— Всякий хирург умирает и возрождается, — сказала Вера Николаевна. — Процесс этот подсознателен, согласна, но если ты оперируешь…
— И ты тоже умирала и возрождалась? — резко повернувшись к жене, спросил Устименко. — А? И Любовь Николаевна?
Она не ответила: трудно было ему отвечать, когда он смотрел вот так — прямо и требовательно. Люба печально улыбнулась.
— Удивительнее всего, что именно врачи твоего склада любят эдакое вранье, — сказал он задумчиво. — Как это объяснить?
Вера Николаевна спросила:
— Чего же ты от него хочешь?
— Написал бы про термометры, — буркнул Устименко. — Интересно, как бы он умирал и возрождался без термометров. Журналистика должна помогать, а не заходиться от восторгов, да еще истерических…
— Ты всегда все видишь в черном цвете, Володечка, — ласково сказала она и уткнулась в роман, но тотчас же, рассердившись, добавила: — Элементарно — эти статьи, очерки, то, что Борис Эммануилович называет «эссе», — про тебя, про твой будничный, постоянный героизм. Ты герой! Прославляются твои усилия, твои дела, твоя энергия, а ты капризничаешь…
Губин бывал и дома у них — зазывала Вера Николаевна. Не без удивления слушал Устименко, как Губин пел песни, аккомпанируя себе на гитаре, не без удивления глядел, как бойко целует он ручки хорошеньким и увиливает от того, чтобы поцеловать руку старухе, не без робкой почтительности приглядывался к тому, как Борька Губин стаканами пьет водку. Умел тот и рассказать нечто к случаю, посмешить, умел и трогательное поднести так, что слушатели задумывались и говорили:
— Да, удивительно…
— Человек по природе своей — добр.
— Правильно сказал Горький: «Человек рожден для счастья, как птица для полета…»
Но Губин и тут находился, да так, чтобы никого не обидеть, но и себя показать…
— Удивительно, как все эту фразу приписывают Горькому. Действительно, совершенно горьковские слова. А написал их Короленко — странно, правда?
Случалось, что он читал стихи, вероятнее всего — собственного производства. Устименко отмечал про себя, что все они очень длинные. И еще замечал, что там, среди описаний того, как все вокруг распрекрасно, не притаилось решительно никакой мысли. Это свое наблюдение он однажды со свойственной ему сокрушительной неловкостью и высказал, вернее даже брякнул. Но Губин нисколько не обиделся.
— Ты, мой друг, в поэзии никогда ничего не смыслил, — сказал Губин, — еще в наши школьные годы к искусству ты был абсолютно глух и слеп. Так-то, мое дитя…
— А вот этот ваш, который сочиняет такие вирши, — он понимает? — спросила Люба звонким голосом. — Вы уверены?
Вера толкнула сестру локтем и предложила гостям выпить за поэзию, а Борис, благодарно кивнув, словно он и был поэзией, сильно запел старинный романс:
- Ах, покиньте меня,
- Разлюбите меня
- Вы, надежды, мечты золотые!
- Мне уж с вами не жить,
- Мне вас не с кем делить —
- Я один, а кругом все чужие…
Люба смотрела на Губина внимательно, прищурившись, а в глубине ее зрачков подрагивали злые, даже яростные огоньки, и Устименко вдруг подумал, что сестра его жены решительно все понимает и, пожалуй, союзница ему в жизни.
Гитара издавала низкие, стонущие звуки, гости завороженно слушали:
- Много мук вызнал я,
- Был и друг у меня,
- Но надолго нас с ним разлучили…
Люба вдруг порскнула от смеха, закрыла рот рукой и сделала вид, что поперхнулась.
Прощаясь, Губин, размягченный водкой, вниманием гостей и тем, что он нынче был «первым парнем на деревне», сказал Устименко доверительно:
— Вот что, Вовик: на днях выступлю в «Унчанском рабочем» в связи с открытием твоей больницы. Во избежание недоразумений надо будет согласовать заранее имена передовиков и все такое прочее.
— Помолчал бы лучше, — со скукой в голосе попросил Устименко. — Нам не похвалы сейчас нужны, а деловая статья о всех бедах и горестях.
— Мы с горы лучше видим, чем ты, — ответил Борис — Помнишь Горького — о кочке и точке зрения. Так вот у нас точка зрения…
Вот эту самую «точку зрения» и надлежало нынче завизировать Устименке кроваво-красной ручкой т. Бор. Губина.
Визировать не читая Владимир Афанасьевич не умел. И принялся читать. Статья была как статья. Он читал, а Губин сел на край плиты и открыл бутылку водки, которая, как оказалось, была у него в кармане. И колбаса была.
— Рюмку водки и хвост селедки, — сказал он, отпивая из горлышка. — Ради наступающего Нового года…
— А почему больница — это «подарок трудящимся нашего города»? — вдруг спросил Устименко. — Кто им дарит?
— Товарищ Сталин! — вкусно жуя твердую колбасу, ответил Губин. — Там дальше все «в плепорции», всем сестрам по серьгам.
— Сталин? — удивился Устименко. — Что у него других дел нет, как нам больницу дарить?
— Дурак ты, — вздохнул Губин. — Дурачок! Существует официальный стиль: например, когда Первого мая бывает хорошая погода, то мы, журналисты, пишем: «Казалось, сама природа понимала» и так далее. А когда бывает плохая, то мы непременно пишем: «Несмотря на то что погода… тысячи трудящихся». Понял?
— Понял. А когда процесс матерого шпиона, то вы пишете — «бегающие глаза»?
— Ага. И пишем: «Дети поднесли живые цветы», причем отлично понимаем, что искусственные никакой дурак подносить не станет. И бумага на это уходит. Много бумаги, если посчитать.
— А с бумагой — трудности, — произнес Устименко. — Вплоть до того, что нам истории болезней писать не на чем.
Губин выпил еще и заметно захмелел. Теперь Устименко понял, что он и пришел сюда уже, как говорится, «под мухой».
— Выпей! — попросил Борис и широким жестом протянул Устименке бутылку. — Хоть глоток!
Но Устименко пить не стал и статью вернул не подписав.
— Ну и черт с тобой! — вдруг устал Губин. — Мы и без твоей визы тиснем: понимаем — ты из скромности. Молчи! — крикнул он. — Я таких чудаков повидал, не понимают они того, что скромность — не положительное качество, а просто трусость. Молчи, молчи, я знаю, я все, брат, знаю.
И предложил:
— Хочешь, я из тебя конфетку сделаю на весь мир? Бахну брошюрку про твою жизнь. И про то, как ты сказал, что «на войне главное — врач-организатор, а война еще не кончилась, и поэтому я пойду на самое трудное — главным врачом»…
Устименко верил и не верил своим ушам. Эту пироговскую фразу он говорил только одному человеку — Вере Николаевне.
— Я напишу, что мы с тобой школьные друзья, — дымя папиросой в самое лицо Устименке, почти лежа на плите, говорил Губин. — Да, вот так, впрямую! И дам картины войны-войнишки: панорама, военная юность, годы зрелости на фронтах… Мама, как я это подам! Конечно, с наплывами, с возвратами к далекому прошлому, тот случай возле станции. Детская любовь будет, даже стихи. И то, как ты уехал на периферию, а она — нет. Как Варвара тебя предала. Ведь при всем к ней нашем лучшем отношении — она предала! Надо называть вещи своими именами, надо ставить точки над «и». Печальный факт предательства идеи имел место…
— Заткнись! — внезапно придя в бешенство, сказал Устименко. — При чем тут предательство! Я болван, идиот, кретин, понял? — крикнул он и вдруг почувствовал на себе студенисто-холодный, изучающий взгляд Губина. — Я болван! — уже машинально повторил он. — И никому нет никакого дела…
Вот это была неправда. Губину как раз и было дело. Он просто спровоцировал Устименку на этот дурацкий взрыв. Проверил — из своих интересов. А Устименко попался. Но отступать теперь уже не следовало. Раз так, то пусть знает правду. И тупым, без всякого выражения голосом Устименко произнес:
— Во всем виноват я. Я — того времени.
— А сейчас ты другой? — остро осведомился Губин.
— Это, пожалуй, никого решительно не касается.
— Ладно, — согласился Борис — Не касается, так не касается, Варвару в нашей книжке мы трогать не станем, раз ты все простил. Мы займемся медициной. Медициной, как единой, всепоглощающей страстью. Страстью милосердия…
— Не будет никакой «нашей» книжки, — морщась, негромко ответил Устименко. — Не надо, Боря, разводить эту пошлость. Тебе и так есть о чем писать, в каждом номере появляешься, я ведь и псевдонимы твои знаю: Рюрик Удальцов — ты, и Роман Седых — тоже ты…
Губин усмехнулся.
— Глупо, — сказал он, — глупо, Володечка, и бесхозяйственно — так бы я сформулировал. Лучше, чем я, твой искренний друг и давний почитатель, никто про тебя не напишет. Мы ведь все-таки провинция. Борис Галин из Москвы не приедет. И Мариэтта Шагинян не изваяет про тебя книгу. Зря заносишься, потому что и я раздумаю — у нас героев сколько угодно, «героем является любой» — так, кажется, в песне поется? И на меня спрос — доярки идут строем, рационализаторы, умельцы, мало ли…
— Пиши, пиши, — быстро произнес Устименко. — Про что хочешь пиши, только, по возможности, оставь нас тут в покое. Ты нам, Губин, мешаешь. Из хороших, вероятно, побуждений, но мешаешь. Всякому делу вранье мешает. И твое вранье нам — нож острый. Думаю, впрочем, как и всем, кто на себе испытывает пробы твоего стило…
— А ты бы хотел, чтобы вся газета состояла из негативных материалов? — осведомился Губин-Удальцов-Седых. — Ты бы хотел, чтобы пресса наших врагов использовала нашу печать для своей контрреволюционной пропаганды?
От этого неожиданного наскока Устименко, по старинному выражению, даже «пришел в изумление». Несколько секунд он молчал, потом широко улыбнулся и только лишь руками смог развести:
— Ну, знаешь!
— Что — знаешь? Ты ответь!
Но ответить Владимир Афанасьевич не успел. Над его раскладушкой за ширмой зазвонил телефон. Устименко взял трубку и долго слушал молча, Губин отхлебнул из бутылки, оторвал зубами колбасы.
— Я могу сейчас приехать, Зиновий Семенович, — сказал Устименко, — а за доктором Богословским надо послать в больницу, он там живет.
— Чего случилось? — осведомился Губин с полным ртом.
Устименко не ответил. Он говорил в трубку:
— Ладно, пусть шофер сначала за мной заедет, а Богословский за это время соберется, он уже спит, наверное…
— Теперь хлебнете горя, — предупредил Губин. — Я с такой персоной не связывался бы. Ты себе представляешь, как оно будет, если парень тут отдаст концы? Ведь вы окажетесь виноватыми…
Не отвечая на болтовню захмелевшего Губина, Устименко убрал свою драгоценную машинку, заглянул к спящей Наташке, предупредил Нину Леопольдовну, что вернется поздно, и натянул флотскую шинель.
— Возьми у меня денег на пальто, — попросил Губин. — Мне же их вовсе девать некуда. Ей-богу, Вовка! Мы же свои люди…
— Чем же это мы «свои»?
Губин сделал вид, что не расслышал.
Вышли они вместе. Борис, разумеется, был хорошо знаком и с шофером Золотухина — настолько хорошо, что даже сел с ним рядом, на золотухинское место, и все мгновенно выведал про сына. А Устименко старался не слушать — это походило на чтение чужого письма, когда вот эдак выспрашивают шофера.
РАЗЛИЧНЫЕ КВИПРОКВО
— Я сброшу тебе на руки мою нарядную и душистую шубку, а ты ловко и даже изящно подхвати! — велела Варвара, когда они вошли в вестибюль гостиницы, которая нынче называлась почему-то «Волгой». — Пожалуйста, папочка! Ты же читал Станюковича, помнишь, как там все красиво. И даже можешь вдохнуть запах теплого меха… Ясно?
— Ясно! — покорно и весело ответил Родион Мефодиевич. — Только я не гардемарин, дочка, я «грозный адмирал»…
Пузатый гардеробщик низко поклонился им из-за своей выгородки:
— Добренького вам вечера, здравствуйте, товарищ генерал! Позвольте, товарищ генерал, шинелочку. Разрешите, товарищ генерал, шубочку принять у дамы, будьте такие любезненькие…
Степанов сердито покосился на гардеробщика: как это старый человек не может отличить адмирала от генерала? И конечно, забыл про шубу, как ее следовало подхватить. Он вообще всегда немножко терялся в ресторанах, робел музыки, льстивого хамства официантов, своего постоянного одиночества среди пьющих и танцующих людей. И презирал себя за то, что не мог, не умел сидеть за столиком завсегдатаем, заложив ногу за ногу, не умел сказать отрывистым голосом: «Почему водка теплая?», не умел спросить, позевывая: «А что, папаша, осетрина у вас свежая?»
— Возьми меня под руку! — велела Варвара.
И прищурилась, словно была близорукая.
— Ты чего это? — спросил он, заглядывая ей в лицо.
— Я такую в кино видела, — негромко ответила Варя. — И не задавай лишние вопросы. Шубу уже прохлопал?
— Прохлопал! — виновато сказал адмирал.
— Я сейчас буду выкаблучивать, — предупредила Варвара. — Это нужно, иначе официанты уважать не станут. Только ты не благодари раньше времени, слышишь, пап? Кроме того, я буду называть тебя по имени-отечеству, чтобы они думали, что ты мой «прихехешник».
— Что? — испуганно осведомился адмирал.
— Это новое слово. Сленг. Вроде «повидла».
Они остановились у входа, ожидая поспешающего им навстречу метрдотеля в черном, с лицом и шевелюрой спившегося скрипача и с тем выражением снисходительного всезнайства, которым любят щеголять стареющие сердцееды.
— Может быть, левее пройдем, за колонны, — свойски-доверительным тоном произнес метр, — там поспокойнее будет…
— Там, наверное, дует, — все еще изображая взглядом киноартистку, сказала Варя. — Нет уж, вы нам «сделайте» где потеплее…
«Откуда у нее это слово снабженческое?» — удивился адмирал.
— Потеплее и поуютнее, — продолжала Варвара и вдруг совсем поразила Степанова, назвав его Родионом. — Проявите, Родион, хоть немного энергии, — приподняв одну бровку и глядя на отца смеющимся взглядом, сказала Варвара, — или здесь вы «далеко не герой»?
Перебрав три «никуда не годных — дует, сквозит, из кухни пахнет» столика, Варвара наконец угомонилась и, собрав вокруг себя метра и двоих официантов, стала вдумчиво заказывать выпивку и закуску. А старые официанты переглядывались — вот пошла молодежь, вот высаживает своего лопоухого морячка-старичка, вот дает!
— Родечка, вы, конечно, станете водку пить? — спросила она отца.
Тот пожал плечами.
— Но вы не напьетесь, как обычно? — положив широкую ладошку на запястье Степанова, попросила Варвара. — Вы понимаете, вы же с влюбленной в вас молодой женщиной!
Официанты учтиво молчали, Степанов издал короткое шипенье.
— Не обижайтесь, мой седой, мой красивый! — грудным голосом, наслаждаясь беспомощностью отца, сказала она. — Так хочется, Родик, красивой жизни…
Родион Мефодиевич начал медленно багроветь. Что это еще за Родик?
Но Варваре вдруг самой все надоело, и она стала заказывать — и семгу, и нарез, и грибы маринованные, и селедку, и масло, и салат. Официанты писали, метр кивал головой почтительно, им даже жалко делалось старого моряка, учитывая нынешние коммерческие цены. Горит старикан синим огнем!
— Ничего, — воскликнула Варвара, когда весь заказ «начерно» был записан. — В жизни живем мы только раз.
— Где ты этому научилась? — спросил адмирал, когда официанты ушли.
— Не знаю, пап, — печально сказала Варвара. — Все думала, что Володька меня когда-нибудь поведет в трактир и я буду с ним танцевать.
— Ты прекратишь? — спросил Степанов.
— Нет.
— Никогда?
— Когда умру.
Адмирал отвернулся — он не мог видеть ее такой. Что это за несчастье? Как избавить ее от этого горя? И тут же он почувствовал, как ожила где-то в груди его постоянная боль, беда, которая не оставляла его никогда, прячась только на какие-то считанные часы, но прячась в нем же самом. И Аглае он ответил словами Варвары: «Когда умру».
— Весело живем! — вздохнул он.
— Вот погоди: напьемся — я еще реветь стану, — посулила Варвара. — Со мной вам, душка-морячок, чрезвычайно весело будет. Пошли танцевать…
— А я сумею?
— Ты только не трусь. Это не страшнее, чем морской бой.
Они потанцевали немного, Степанов вел дочь уверенно, красиво, по-старомодному элегантно.
— Ничего, есть еще порох в пороховницах! — сказала Варвара. — Старичок-старичок, а танцевать не разучился.
Невеселым взглядом она оглядывала ресторан «Волгу» — бывший «Гранд-отель». Длинный ряд зеленых колонн подпирал потолок, на котором были изображены сочной кистью художника плоды, овощи, гроздья, снопы, скирды на фоне садов и пашен, из-за которых восходило солнце. В центр солнца был ввинчен медного цвета крюк, на котором висела огромная люстра. Шесть люстр поменьше сверкали и переливались хрустальными подвесками возле колонн зеленого камня, знаменитого в Унчанске.