Блистающие облака Паустовский Константин
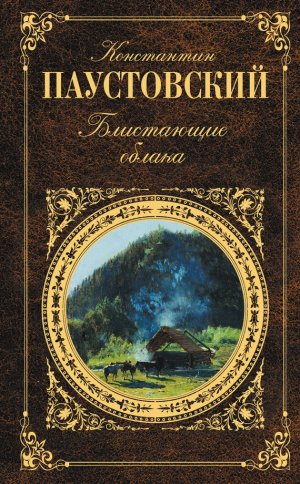
Под Мариуполем дубок отпустили, — уж очень они взмолились, — им в Ахтары было надо. Перед тем составили акт, заставили шкипера подписать. В акте указано, что особое геройство при спасении гибнущего дубка выказал юнга Бузенко. В Мариуполе я акт — в управление порта, копию — в союз, при акте бумагу.
В ней пишу: «Ввиду особого геройства Бузенко и выдающихся заслуг ходатайствую о назначении его матросом на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии».
Повеселели все. Ясно — уберут Бузенко. У нас героев любят. Проходит три дня, — на четвертый бежит ко мне Бузенко, рожа как самовар. «Отличили, говорит, Петр Егорыч». Я даже перекрестился. «Куда ж тебя теперь?» А он, понимаете, вынимает часы и кидает на стол. А на часах выгравировано: «Юнге Бузенко от Мариупольского районного комитета водников за спасение погибающих».
Тьфу! Будь ты проклят. Остался.
Но я жду случая. Идем в Одессу, прошли уже Большой маяк, вдруг слышу Бузенко ревет на палубе: «Мина с правого борта». Я даже вспотел, выскочил на мостик. Стали удирать. Действительно, близко плывет какая-то штуковина. Посмотрел в бинокль — бревно! Но я молчу, — пусть их думают, что мина. Пришли в Одессу. Я моментально рапорт начальнику порта и копию в союз. «Доношу, мол, что лишь благодаря исключительной бдительности матроса Бузенко (он у меня матросом уже заделался) было избегнуто столкновение с миной и гибель судна. Ходатайствую о переводе Бузенко, ввиду выдающихся заслуг, матросом первой статьи на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии».
Ждем. Теперь уже уберут, никто не сомневается.
Проходит так дня четыре, вижу — бежит Бузенко, рожа как самовар, кричит: «Везет мне, Петр Егорыч!» Вытаскивает из кармана бумагу назначение — и дает мне. Читаю… и что бы вы думали (Кузнецов всплеснул руками), в бумаге написано: «Ввиду заслуг и, одним словом, прочей хреновины, матрос Бузенко назначается профуполномоченным Черноморского союза водников на судне „Виктория“». Я даже плюнул. «Ну, говорю, и зануда же ты, Бузенко, везет тебе, как сукиному сыну!»
И вот, представьте, потом до конца с ним плавал — и ничего. Ругались только помаленьку.
Кузнецов пытался начать новую историю, но Левшин прервал его:
— Погоди, Петр Егорыч, оставь до следующего раза. Всего не перескажешь.
Кузнецов занялся Обручевым. Рассказал, что жить на пенсию трудно, приходится подрабатывать — делать модели пароходов, яхт, крейсеров и сдавать на комиссию в игрушечный магазин. Левшин говорил тихо Бергу:
— Вы уверены, что это излечимо? Она мне сестра только по матери. История, знаете, тяжелая. В девятнадцатом году у нее родилась дочка. Время было корявое — ни молока, ни хлеба, а ребенок первый. Отец бился как рыба об лед, он корректором служил в типографии в Москве, но толку было мало. У сестры не хватает молока, девочка вот-вот умрет. Была у сестры знакомая, бывшая генеральша. На Смоленском торговала простынями, бельем, — вообще барахольщица. Сестра пошла к ней, просит, — найдите мне хоть какой-нибудь заработок, я готова на улицу идти. Старуха нашла, — правда, предупредила, что работа рискованная: скупать золото и ценности для заграницы. Познакомила ее с каким-то бывшим адвокатом. Адвокат этот был вроде поверенного у американской шайки.
Берг придвинулся.
— Ну вот. От мужа она скрыла. Говорила, что торгует на базаре, берет на комиссию вещи. Девочка выжила. Время пошло другое, стало легче. Так вот и тянулось до прошлой зимы. А зимой адвокат попался на темном деле, его потянули, а за ним и всех. И сестру притянули. Муж узнал. Он человек неприятный, крутой. Очень принципиальный человек. Даже дочку в суд водил.
Еще до суда подал в загс заявление о разводе, девочку оставил себе. Я с ним говорил. «Ну что ж, — это его слова мне, — Нинка должна забыть свою мать». Сестру он уже не любил. Знаете — химик, химическая душа. Сестру, конечно, оправдали, приговорили к общественному порицанию. В предварительном заключении она просидела два месяца. Что было у них — не знаю. Он ее в дом не пустил. Потом вот приехал в Одессу, женился на другой, получил место на заводе. Сестра приехала следом за ним, жила у меня, убивалась из-за девочки, даже хотела ее украсть. Насчет кино вы знаете?
— Да, знаю. Когда вы уходите в рейс?
— Недельки через три.
— А как девочка, помнит ее?
Вопросы Берга были бессвязны. Левшин бубнил, глядя под стол, разговор его, видимо, мучил.
— Девочке шесть лет. Конечно, помнит. Очень грустная девочка. Жалко ее, знаете…
Левшин поморгал глазами, отвернулся.
— Не сердитесь на меня, — сказал Берг. — Я лезу не в свое дело, но понимаете… нехорошо все это. Неужели так все и останется?
Левшин молчал, сгорбившись.
— Я бы взял, — сказал он тихо, — да ведь я плаваю. Не на кого ее оставить.
— А он отдаст?
— По суду отдаст.
— Тогда будем судиться.
Обручев оглянулся.
— Тогда будем судиться, — повторил Берг. — Сегодня я поеду к доктору. Надо узнать все точно и действовать.
Вечером Берг поехал к доктору. Он узнал, что больной лучше. Спокойно, даже небрежно он передал доктору свой разговор с Левшиным.
— Она сейчас почти нормальна, — сказал доктор, раздумывая, — может быть… знаете, сильное средство, но оно может оказаться спасением. Вы беретесь привезти девочку?
— Я берусь вернуть ее совершенно.
Доктор был смущен. Он ходил по комнате, мычал. Казалось, он не верил. Потом согласился:
— Ну ладно, действуйте. Благословляю. Страшновато, но хуже не будет.
На следующий день Берг поехал с Обручевым для очистки совести на Аркадийский пляж. Лежа на горячем песке, Обручев сказал:
— Вы закрутили сложную махинацию. В чем дело?
— Маленькая вивисекция. Тема, — глаза Берга потемнели от гнева, — тема для сентиментального рассказа, господин Марсель Пруст.
— Что с вами?
— Ничего. Как вы думаете, вивисекция существует для блага человечества?
— Пожалуй.
— А ваша аккуратная гуманность?
Обручев пожал плечами.
— Не будем ссориться.
Но Берг не унимался.
— Гуманист, — сказал он насмешливо. — Вы не замечаете человеческих страданий потому, что это, видите ли, неделикатно. В какой-то глупой книжке я прочел рассуждение о высшей деликатности. Примерно там сказано так. В комнату, где сидят несколько человек, входит женщина. Глаза ее заплаканы. Деликатные люди делают вид, что не замечают этого. Но человек деликатный в высшей степени должен уступить ей место спиной к свету, чтобы ее заплаканные глаза не были даже заметны. А грубиян и вивисектор постарается узнать и устранить причину ее слез.
Обручев поморщился.
— Вы раздражены, перегрелись на солнце. Пойдем лучше в воду.
Раздражение Берга быстро прошло. Обратно они шли по Французскому бульвару. Берег вдали обрывался; над ним дрожала синеватым угаром жара.
— Я могу быть добрым только назло, — говорил Берг, к великой радости Обручева.
Мысли его о Берге блестяще подтверждались. Берг хитро улыбался. Его не оставляла уверенность, что все удастся как нельзя лучше. Эта уверенность много раз выручала его из запутанных положений и вызывала необычайное раздражение у людей, настроенных пессимистически.
Суд состоялся через неделю. В засаленной комнате было уныло, и все краски, казалось, погасли. Здесь, в суде, особенно болезненно ощущались яркость и шум жизнерадостных улиц.
Нелидов — высокий, белокурый и злой — сидел на скамье и читал газету. Его голова в кудряшках, тонкие губы, ноги в коричневых крагах были не нужны здесь, на юге, в кружащемся потоке белых одежд, ярких губ, веселого гомона.
Судьи вышли торопливо. Один из них был с костылем. Председатель пробормотал, заикаясь и как бы засыпая в конце каждой фразы, заявление Левшина. Он подозвал единственного свидетеля, доктора Павла Ивановича, и, глядя поверх его головы, произнес скороговоркой:
— Свидетель, вы предупреждаетесь, в случае ложных показаний — будете отвечать закону. Выйдите из зала.
Начало не сулило ничего хорошего. Девочку судья называл «гражданка Нина Нелидова», листал дело с нескрываемой досадой. Очевидно, всех в мире он считал сутягами и не мог понять, во имя чего капитан требует отдать ему девочку, зачем ему это нужно и зачем в это дело запутался известный общественник врач.
В мозгу судьи, по догадкам Берга, не существовали такие слова, как «любовь», «материнство», «страдание»; вместо них бродили серые, как крысы, слова: «иждивение», «вменяемость», «половое влечение», «расторжение брака» и «уплата алиментов».
Есть слова, высосанные протоколистами вместе с никотином из обмякших папирос. Они способны вызвать рвоту. Голос закона (в детстве Берг представлял закон в виде белесого мужчины с пустыми глазами, коротким ежиком и сухими и холодными пальцами) скрежетал в этих словах потрясающим пренебрежением к живой душе человеческой.
Судья опросил Левшина, хмуро посмотрел на его белый китель. Хромой заседатель спросил дребезжащим голосом, не плавал ли Левшин на «Констанции», и на ответ, что плавал, ядовито улыбнулся и сказал значительно: «Я не имею больше вопросов». Левшин вспотел, с медного и открытого его лица стекал пот.
Нелидов отвечал сухо и брезгливо, сказал, что если «суд уверен в излечении больной путем возвращения ей дочери Нины и вправе решать этот чисто медицинский вопрос, то он приговору подчинится».
«Глупо», — подумал Берг, а судья резко сказал:
— Говорите короче, а прав суда прошу не касаться. Нелидов пожал плечами и сел. Вызвали Павла Ивановича.
Он говорил уверенно, назвал судью «товарищ Орешкин», — ему часто приходилось выступать экспертом. Судья слушал недоверчиво. После того как Павел Иванович кончил свою речь утверждением, что больная может выздороветь, если будет устранена причина болезни, то есть если ей вернут ребенка, судья, рисовавший на папке, поднял глаза и раздраженно спросил:
— Суд вас спрашивает, выздоровеет ли больная в случае возврата ей ребенка или нет? Отвечайте точно.
Павел Иванович развел руками и мягко повторил:
— Да, я думаю, что она выздоровеет.
Суд удалился на совещание. Левшин вытер пот в сказал Бергу:
— Черт их поймет. По-моему, они не разобрались, в чем дело.
Вышли курить на лестницу. На лестнице чистенькая старушка-пенсионерка говорила милиционеру:
— Сколько я страданий приняла — и японскую, и германскую, и немецкую войну, и убийства, и с голоду дохла — так ты вправе меня выселять? А еще интеллигентный молодой человек. Из-за такого, как ты, моя дочка погибла. Старалась для вас, заразилась от солдата венерической болезнью, а меня выселять… — Старушка собралась плакать.
Милиционер угрюмо молчал.
Суд совещался минут десять. Наконец суд появился. Председатель, глотая от спешки слова, прочел приговор:
— «Принимая во внимание такие-то, такие-то и такие-то обстоятельства, суд постановил изъять гражданку Нину Нелидову, шести лет, ввиду согласия отца, и передать на воспитание матери, гражданке Елене Сергеевне Левшиной, обусловливая эту передачу ее предварительным и полным выздоровлением, впредь до чего опекуном и воспитателем назначить дядю упомянутой Нины Нелидовой гражданина Левшина Петра Сергеевича, тридцати восьми лет, третьего помощника на пароходе „Перекоп“, каковой гражданин Левшин обязуется дать гражданке Нине Нелидовой трудовое воспитание и отказывается от получения алиментов, с чем, однако, суд согласиться не может, а потому постановляет взыскивать с гражданина Нелидова на содержание дочери по сорок рублей в месяц до наступления совершеннолетия вышеупомянутой».
— Все, — сказал председатель. — Стороны, подпишитесь. Копию приговора получите в канцелярии.
Левшин отошел с Нелидовым в сторону. Левшин был красен и взволнован. Нелидов глядел через его плечо, потом холодно посмотрел в рот Левшипа и громко сказал:
— Когда хотите. Чем раньше, тем лучше. Моя жена не имеет времени с ней возиться.
Он повернулся и вышел.
— Ну, гусь, — сказал, прощаясь, доктор. — Я жду вас завтра. Она почти здорова.
Берг и Левшин были озабочены смешной для взрослых мужчин и сложной задачей, — устроить Нинку у Левшина. Левшин купил провизии, молока, фруктов, куклу (он так краснел, когда ее выбирал, что, казалось, кровь брызнет из пор; он чувствовал себя, как молодой отец).
Жил он в Лермонтовском переулке, в Отраде. У соседа Левшин занял походную кровать для Берга, — было решено, что Берг у него переночует.
К вечеру Левшин поехал за Ниной. В темной передней Нина бросилась к нему, крепко обхватила за ноги и спрятала голову в коленях. Ей уже сказали, что она два месяца погостит у дяди Пети и даже поедет с ним на пароходе на Кавказ. Левшин впервые в жизни заплакал, стыдясь своих слез. Он неловко гладил головку девочки и отворачивался, сопя и задыхаясь, потом незаметно вытер слезы рукавом кителя.
— Ну, Нинок, поедем.
Нелидов принес корзинку с вещами Нины, потрепал ее по щеке и сказал сурово:
— Ты смотри, приходи иногда с дядей.
Нина отвернулась. Левшин, не глядя, сунул Нелидову руку и вышел на лестницу. По дороге на извозчике девочка болтала, крепко держась за его рукав. Левшин курил и был опять спокойным любимым дядей с обветренным крепким лицом.
«Все будет прекрасно. Все будет хорошо, ты, крошечная», — мысленно говорил он Нине.
С Бергом девочка подняла возню, потом пошли на берег смотреть, как рыбаки вытаскивают сети. Берг ловил ей крабов, — рыбаки считают их нечистыми и выбрасывают из сетей. Пыльный закат желтел над глинистыми берегами, и Нинке и Бергу одинаково казалось, что они знают друг друга давным-давно.
Дома девочка быстро уснула. Капитан неумело умыл ее, уже сонную, уложил, даже что-то пошептал над ней.
Потом он долго сидел с Бергом у открытого окна. Звезды пламенели в просветах тяжелой листвы. Соленый воздух лился рекой. Пересыпь висела в ночи роем огненных, взлетевших и остановившихся пчел. Тепло и нежно пробасил в море пароход.
Утром Левшин сказал Нинке, что приехала мама. Девочка долго возилась с куклой, потом заплакала. Берг и Левшин растерялись — Берг отчетливо понял, что он затеял.
«Вдруг все провалится, — подумал он, холодея. — Тогда хоть пулю в лоб».
Мелькнула мысль о бегстве, но Берг прогнал ее. «Крепись», — шептал он себе, глядя на улицу, потом задумал: если трамвай обгонит извозчика до столба, то все пропало, если нет — он спасен. Берг волновался, как на бегах. Трамвай не догнал извозчика, и Берг облегченно вздохнул.
— Нинок, — сказал он спокойно, — поедем сейчас к маме, а по дороге зайдем к одному дедушке-старичку: он делает кораблики. Мы тебе купим кораблик.
Девочка стихла, искоса посмотрела на Берга. Пришел Обручев, мобилизованный на всякий случай. Пошли к Кузнецову, — он жил на Черноморской, в темной комнате с окнами на море. Под притолокой висела клетка с сумрачным инвалидом щеглом. Море в окнах было зеленое и дымное от ветра. Буйная зелень Черноморской шумела и качалась, гоняя по земле тысячи маленьких солнц.
Остовы игрушечных шхун лежали вверх килями на подоконнике и сохли на ветру. Кузнецов в очках, похожий на дряхлого и любимого дедушку, пилил лобзиком фанеру.
— Клипер вот затеял. — Он кивнул на кораблик, стоявший на игрушечных стапелях. — Теперь это, знаете, история, — клиперов уже нет. Последний переделали под плавучий маяк в Таганроге. А в мое время красавцы были клипера, — чай возили вокруг всей Африки в Европу. О Суэцком канале в те времена еще никто не мечтал.
Нинке Кузнецов подарил яхту с громадным парусом. Ореховый лак ее бледно сверкал на солнце.
Нина застенчиво приняла подарок, потом спряталась за Левшина.
На Слободку ехали страшно долго, — так, по крайней мере, показалось Бергу. Доктор потрепал девочку по щеке, отвел Берга в сторону.
— Я ее подготовил. С девочкой пойду я и Левшин. Вы останетесь здесь. Думаю, что сегодня вы увидите маленькое чудо.
Он улыбнулся, но вместо улыбки лицо его сморщилось в нервную гримасу.
Они ушли. Обручев ходил по комнате, вынул из ящика яхту и долго вертел ее в руках. В голове скакали клочки несуразных мыслей: «Сколько она стоит? Да, да, да… значит, так. Полтора рубля и дом на Черноморской номер пятнадцать».
Он повертел яхту, спрятал ее в ящик. Руки его тряслись, он засунул их в карманы. Говорить он не мог: губы дергала судорога. Берг сидел спиной к окну и прислушивался. Обручев обернулся. Берг вздрогнул, уронил папиросу.
— Тише вы, — сказал он с ненавистью. — Не скрипите ботинками!
Берг улыбался так же, как доктор, — криво, болезненно. Улыбка его была похожа на гримасу невыносимой боли.
— Скорей бы. — Обручев почти плакал, — Что они, умерли, что ли!
Берг медленно встал, повернулся к окну, отскочил в глубь комнаты и пробормотал:
— Уже… уже…
В саду раздался крик. Много позже при воспоминании о нем Берг всегда мучительно краснел. Это бил крик животной радости. Так кричат раненые, когда у них вынули пулю. За криком последовал чистый мягкий смех, бубнил капитан и тихо, вполголоса, говорил что-то доктор.
Потом женский голос, незнакомый и внятный, сказал в саду, как на сцене:
— Покажите же мне его. Сейчас, непременно.
— Берг, — Обручев задохся, — она выздоровела, видите, Берг.
— Тише, — приглушенно крикнул Берг. — Надо бежать!
Он толкнул Обручева к двери на черный ход. Они выскочили на крыльцо и промчались через сад. Берг перепрыгнул через низкую ограду, поранил руку о колючую проволоку. Они долго бежали по огороду, ломая помидоры, и чей-то голос яростно вопил, казалось, над самой головой:
— Стой, байстрюки, сволочь несчастная! Стой!
Они перелезли через вторую ограду, пробежали пыльным переулком и остановились. Было знойно и пусто. С руки Берга капала черная кровь. Берг туго затянул руку носовым платком.
— Теперь драла! — сказал он, все еще вздрагивая. — Двинем пешком, на трамвае опасно, — мы можем их встретить.
В город шли долго, у всех ларьков пили, отдуваясь, ледяную воду из граненых стаканчиков. Около рыжего, пахнущего керосином, дома на Молдаванке Берг присел на скамейку.
— Отдохнем. Хорошо, что Левшин не знает вашего адреса.
Не заходя домой, они прошли на Австрийский пляж купаться. Когда Обручев вылез из воды, Берг, не глядя на него, пробормотал:
— Я вам покажу вивисекцию. Сопливый гуманист.
Обручев похлопал его по загорелой спине. Из-за рейдового мола, неся перед носом снеговую пену, выходил в море высокий пароход. Ветер косо сносил дым из трубы. Пароход медленно поворачивался и, казалось, зорко вглядывался в шумящие стеклянные дали, куда лежал его путь.
— Завтра двинем на пляж Ковалевского, — сказал Берг. — Все остальные мы уже осмотрели. А потом — в Крым.
Обручев раскрыл Марселя Пруста. Он читал, и строчки сливались в серые полосы. Все, что случилось, было просто, вполне попятно и вместе с тем почти чудесно. Обручев никак не мог примирить этих двух начал. Он поглядывал на Берга и думал, что в его жизни будет много занятных истории. Берг крепко уснул. Наступало «второе» солнце, и сон был безопасен.
На пляж Ковалевского за Большефонтанским маяком поехали через неделю, — Берг сжегся и шесть дней не выходил на солнце, мазался вазелином и стонал. На пляже было желто от глинистых обрывов. Цвел терновник.
По дороге к пляжу в степи росла полынь. На пляже Берг снял белые туфли, — подошвы стали серебристо-зеленого цвета. Он понюхал их:
— Полынь… Бессмертная полынь…
Берг облизал губы, поморщился.
— Даже на губах горечь.
Обручев взялся за неизменного Пруста. Берг достал томик стихов Мариа Эредиа. Стихи он читал редко, только после завершения крупного дела.
Раскрывая томик Эредиа, он сказал:
— Теперь можно побаловаться.
Он лег на спину, читал, перечитывал и вслух повторял каждую строчку. Вдруг остановился, вгляделся в страницу и пробормотал:
— Что за черт!
Он нашел суровые и грустные стихи, начинающиеся словами:
- Разрушен древний храм на мысе над обрывом…
- Перемешала смерть в рудой земле пустынь
- Героев бронзовых и мраморных богинь,
- Покоя славу их в кустарнике дремливом.
Он увидел строчку: «Земля, как мать, нежна к забытым божествам» — и вспомнил дневник Нелидова, сияние капитанского примуса и свое купанье в Серебрянке.
Широкий ветер дул на горячие пески и переворачивал твердые страницы.
«Эх, жить бы так целую вечность», — подумал Берг и вздрогнул от окрика Обручева:
— Ложитесь!
Берг поднял голову.
— Ложитесь, говорю вам. Спрячьте голову! Это она!
Берг перевернулся спиной вверх, положил голову на руки и из-под пальцев посмотрел вдоль берега. Навстречу шла Левшина. Ветер рвал ее платье, она по-детски придерживала его у колен. Ветер обнажал ее ноги, показывал черту черных, туго обхватывающих бедра, трусиков. Ее улыбка, блеск глаз и зубов производили впечатление необычайной молодости. Она казалась подростком. Нинка бежала по краю прибоя. Левшина прошла в двух шагах от Берга и Обручева. Они лежали как мертвые. Левшина сказала:
— Нинок, ты смотри получше. Не пропусти дядю.
Берг затаил дыхание, — в рот ему попал песок. Левшина остановилась шагах в ста и сбросила платье.
— Берг, — сказал Обручев, — не похоже, что это ее дочка. У нее тело девушки. Она повторяет, мне кажется, ваш гениальный план. Она ищет вас.
— Ну и пусть. — Берг сел спиной к Левшиной и начал поспешно одеваться. Ну и пусть. Что вы, не понимаете, — надо смываться.
«Смылись» они очень быстро.
Берг отправил «рапорт» капитану о том, что ни Пиррисона, ни Нелидовой в Одессе не обнаружено и что он выезжает в Севастополь.
Уехал он через два дня. Шел «Ильич». На просторных палубах было свежо и чисто, в проходах дул сквозной приятный ветер, а на молу лежал чудовищный зной и пахло серой. Обручев не выдержал и сбежал.
Берг насвистывал и бродил по пароходу среди чемоданов, детей, собак, возбужденных женщин, крика, грома лебедок. Берег ушел гигантской стаей машущих крыльями чаек, — провожающие махали шляпами и платками.
Прошли ржавые от зноя берега Фонтана, пляж Ковалевского, и пароход, тяжело чертя по горизонту бугшпритом, повернул в открытое море.
У Берга защемило сердце, и он подумал, что уезжать сейчас из Одессы, пожалуй, не стоило.
— Бегу от судьбы, — пробормотал он и пошел в кают-компанию с видом человека, проплававшего по морям всю жизнь.
Берега Одессы опускались в густое море, в Древнюю мглу. Шум волн, казалось, старался загладить в памяти одесские дни.
— Да, много было солнца, — сказал вслух Берг и вздохнул.
Официант покосился и поставил перед ним стакан крепчайшего красного чая с кружком бледно-золотого лимона.
Китаец — прачка
В Таганроге Батурин прожил неделю. Никаких следов Пиррисона и Нелидовой он не нашел и решил ехать в Бердянск. Решение это стоило двух бессонных ночей, — он думал о Вале, и опять пришла к нему пронзительная жалость. Он не находил себе места.
Валя была молчалива. Она догадывалась, что Батурин решил уехать, но ничего не спрашивала, только плакала по ночам.
Все это было тем тяжелее для Батурина, что она ни слова не сказала ему о любви, — всю неделю Батурин прожил с ней, как с давно потерянным другом.
Вечером накануне отъезда Валя ушла, ничего не сказав, и вернулась около полуночи. Электричество в номере не горело. Батурин сидел при свече и писал письмо капитану.
Валя остановилась в темных дверях. Батурин слышал ее отрывистое дыханье и внезапно, еще не видя ее, понял, что несчастье вошло вместе с ней в пустую и черную комнату. Это ощущение непоправимой беды было так остро, что Батурин боялся оглянуться.
— Валя! — позвал он тихо.
Она молчала.
— Валя, вы?
Она молчала. Электрическая лампочка медленно налилась мертвым светом. Батурин оглянулся и встал.
Так они стояли несколько минут. Валя была бледна, яркие пятна на ее щеках казались трупными, глаза были полузакрыты.
— Я, — хрипло сказала она. — Не разговаривайте со мной, иначе я буду кричать.
Она, шатаясь, подошла к кровати, упала на нее ничком и затихла.
Батурин потушил свет, сел на подоконник и просидел несколько часов. Ему было холодно. Неуютно и сурово гудело море. Стараясь не шуметь, он закурил, спичка осветила пустую комнату, раскрытый чемодан на полу, вздрагивающую спину Вали. Валя села на кровати, поправила волосы.
— Ну вот, — она вздохнула с деланным облегчением, — все и прошло. Завтра провожу вас и поеду в Ростов.
— Поезжайте со мной.
— Нет уж, спасибо. — Она помолчала и тихо добавила: — Зачем?
Батурин ничего не ответил.
— Зачем? — повторила громче Валя. — Да вы не бойтесь, я опять кокаину нанюхалась. Уже все прошло.
— Я вижу, — сказал Батурин.
Ему хотелось сказать ей, что впереди — горькая, но прекрасная и переменчивая жизнь, моря, встречи, снежные зимы, тепло человеческих душ, но он сдержал свой порыв и вслух оценил свои мысли:
— Все это — сантименты!
Он не видел, как Валя сжалась, будто ее ударили по щеке, и покраснела до слез.
— Да, — ответила она глухо. — Конечно, не стоит… А теперь ложитесь, светает.
Батурин лег. Он долго не мог согреться. Шум утра раздражал его и прерывал короткие сны.
На следующий вечер он уезжал. Ветер обрушился на город. Он дул неизвестно откуда, — казалось, со всех сторон, — хлопал ставнями, пылил, свинцовыми полосами гулял по морю. К вечеру он усилился. Фонари мигали, но не светили. У мола скрипел на тросах блещущий черной краской пароход «Феодосия».
Город, степи, вся жизнь тонули в этом рвущем дыханье ветряном водопаде.
На пристани Валя, прощаясь, поцеловала Батурина. В этом первом ее поцелуе были горечь и слезы, Батурин ощутил на губах соленый привкус. Он сжал ее руки, но Валя быстро сказала:
— Идите!
С палубы он смотрел на нее, мертвая улыбка кривила его губы. Валя подошла к краю пристани. Ветер трепал черными порывами ее платье. Рядом с Батуриным стоял китаец, щуря впадины дряхлых тысячелетних глаз. Он смотрел то на Валю, то на Батурина, почесывая поясницу.
Когда пароход отвалил, яростно свистя паром, Валя подняла руку и что-то крикнула. Батурин не расслышал. Огонь фонаря пробежал по ее лицу, — глаза ее были полны слез. Она быстро подошла к корме парохода и опять что-то крикнула, но Батурин снова не расслышал. В ответ он только махнул рукой.
Черная пристань с двумя желтыми фонарями, шумя, отодвинулась назад. Сбоку, со стороны моря, ударил ветер, понес сипение пара, крики, шум волн, бивших о мол.
«Кончено!» — подумал Батурин и сел на корме за рубкой.
Рядом на скамейке сидел китаец. На его лайковое лицо светила тусклая лампочка со спардека. Скрипели рулевые цепи, и гулко дышала машина. Звезды пересыпались белыми зернами. Волны с тихим шумом шли с запада и уходили прочь, к Таганрогу, будто спешили на штурм отдаленной крепости.
Китаец перекинулся с Батуриным несколькими словами. Он держал в Бердянске прачечную; звали его Ли Ван; родом он был из Фучжоу.
В Мариуполь пришли ранним утром. На море лег дымный синеватый штиль. Ослепительно хохотали рыбачки, — они тащили в корзинах колючую рыбу. Батурин во время стоянки парохода сходил на базар, заваленный помидорами. Море накатывалось на сухую, розовую поутру степь. Серые волы стояли на берегу; их глаза были синие и влажные, как море.
В Мариуполе Батурин не останавливался. Следы Пиррисона, по словам Вали, могли быть только в Бердянске и Керчи.
Он сошел в Бердянске вместе с Ли Ваном. На пароходе Ли Ван был немногословен. Он спал или ел копченую кефаль, облизывая детские коричневые пальцы. Иногда он смотрел за борт и пел унылые песни.
Бердянск был крепко высушен солнцем. На набережной хрустел сухой чертополох. Листва акации уже желтела (хотя был только июнь). Рыжие кошки спали на тротуарах. Пустынность и сухость этих мест пришлись по душе Батурину.
«Тут я застряну», — решил он, забыв о гневных капитанских письмах. Надо было собраться с мыслями. Он чувствовал себя, как человек, ошибившийся поездом, едущий совсем не туда, куда надо. Он решил подольше остановиться в Бердянске, на рубеже Азовского моря. Он цеплялся за этот город, как будто дальше была пропасть.
По совету Ли Вана он снял комнату у вдовы-матроски Игнатовны, ходившей на поденщину к грекам. Ли Ван принял Батурина за коммивояжера, то же думала и старуха Игнатовна.
Несколько дней Батурин провалялся на маленьком каменистом пляже. Он загорал, курил, не хотел ни читать, ни думать. Мягкое оцепенение сковывало тело. Было такое состояние, как после сыпного тифа, — хотелось пустынности, дней бесшумных, как солнце, свежего сна и простой какой-нибудь песенки.
Батурину нравилось, что в столовой, где он обедал, было темно от зелени и пустынно. Когда хозяин звякал тарелками, Батурин вздрагивал и оглядывался, — за окном было видно море, на углу под акацией спал сидя чистильщик сапог, морщинистый и бессловесный айсор.
Лишь изредка по чистым скатертям дул ветер, и дым папиросы улетал к хозяину, за черную таинственную стойку. Там блестели бутылки, и розовый, золоченый и синий строй чайников напоминал лубочную персидскую сказку.
Батурин рассказал Игнатовне, что ищет сестру. Она в свое время бежала с добровольцами из Киева и якобы жила в Бердянске. Игнатовна поохала, вытерла глаза уголком платка и пошла на поденщину — мыть полы к грекам. А через сутки историю Батурина знали все старухи и простоволосые женщины, стиравшие по дворам белье.






