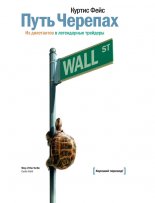Сажайте, и вырастет Рубанов Андрей

– Да, правда.
– Ты как-то мне сказал, что сидишь первый раз, – вкрадчиво продолжал коренной обитатель,– и будешь благодарен, если опытные люди – например, я – станут сразу тебе говорить, что ты делаешь правильно, а что неправильно, так?
– Так,– согласился я ровным голосом, стараясь не выдать волнения.
– Вот теперь послушай. Каждый день ты по полчаса полощешься под краном. И еще час стираешь свои портянки. Тоже каждый день. Потом развешиваешь все это у людей перед носом...
– Извини, Фрол,– перебил я,– но я с детства предпочитаю именно чистые портянки. Я не черт.
– Ну-ну,– коренной обитатель сузил глаза. – А что такое, кстати, «черт»?
– Это неопрятный, грязный человек, не соблюдающий гигиену.
– Откуда ты это знаешь?
– От тебя, Фрол.
– Теперь узнай от меня еще одну вещь. Тут – тюрьма. Тубик везде.
Туберкулез, догадался я.
– Сырость – наш с тобой враг. Ага. Для арестанта нет ничего страшнее, чем вода в воздухе. Слышал про палочку Коха?
– Что-то припоминаю.
– Припоминает! – Фрол улыбнулся углом рта. – Он припоминает, Толстый! Эта самая палочка, маленькая, сидит в тебе всю твою жизнь. С самого детства. Ага. Пока ты вкусно кушаешь и гуляешь на сквознячке, она пассивна. Спит. Ждет, когда тебя посадят в тюрьму. Туда, где нет нормальной жратвы и свежего воздуха. Где все тухло и мокро! В сыром воздухе она размножается. И начинает тебя кушать, братан! Пожирать твои легкие. Сначала потихоньку, потом больше и больше! А в конце ты уже выплевываешь из себя эти легкие по кусочкам. И подыхаешь...
– Все, я понял... – начал я, но Фрол жестом остановил меня и встал. Его лицо покраснело.
– Ты стираешь свои трусы, а я слышу, как она там во мне сидит, сука. И чавкает! Жрет, понял? Я тебе раз сказал – прекрати свой спортзал, два раза сказал, три раза сказал – все без толку! Тебе говорили. Вежливо. Намекали, шутили над тобой! Дали все возможности, чтобы ты сам догадался, сам! Но у тебя на уме только книжки. Ага. Ты хочешь быть вроде Джеймсбонда! А на окружающих тебе плевать! Это неправильно! Я это остановлю! По-любому остановлю! Хватит постирушек! Трусы, носки, прочее белье стираются только в бане! Потом сохнут и наутро сразу снимаются с веревок. Чтобы воздух по хате ходил свободно! Если каждый божий день развешивать мокрые тряпки, будут вилы, ясно? Гибель! Тубик! Загнемся быстро, в несколько месяцев!
Я слушал, опустив голову.
Выход в принципе уже был найден.
– Что же, я все сказал, – равнодушно, тихим голосом выговорил Фрол. – Теперь говори ты.
– Нет,– вздохнул я. – Мне сказать нечего. Ты прав. Постирушек больше не будет. Сырости тоже...
– Он что-то придумал,– обронил Толстяк. – Он не перестанет.
– Да, не перестану, – согласился я и закурил, потому что пока не научился совсем обходиться без ядов. – Отпишу жене, пусть загонит побольше белья. И полотенца, штук десять. Буду в хате их мочить водой, а обтираться – прямо на прогулке. Мокрое грязное белье – в пакет, а утром – в мусор...
– То есть он хочет не стирать шмотки, а сразу выбрасывать,– объяснил Толстый. – И получать с воли новые...
Фрол схватился за голову, и ужас проступил на его лице.
– А свою жену тебе не жалко?
– Ему никого не жалко,– угрюмо выговорил Толстый. Я вдруг разозлился. Жена здесь ни при чем. Я посмотрел на магната.
– Знаешь, Вадим, главное условие нормальной работы мозга?
– Нет.
– Прямой позвоночник.
Толстый немедленно приосанился и развернул круглые плечи.
– Это ты к чему?
– А к тому, что каждый человек по-своему с ума сходит. Одного тянет на колбасу, другого на физкультуру. Согласен?
– Значит,– нажал Толстяк,– ты решил попрекнуть меня колбасой, да?
В этом месте в опасно развивающийся спор вклинился новый участник. Тот самый, про которого мы часто забывали, но он про нас – никогда. Он приблизился к двери с внешней стороны, отодвинул заслонку глазка, изучил обстановку, вставил ключ в замок «кормушки» и открыл.
– Рубанов! – громко сказал он. – На вызов! Я выругался.
– Ты опять ничего не понял,– скорбно констатировал Фрол и потряс передо мной указательным пальцем. – Тебе люди дельные вещи говорят, правильные! А ты в ответ умничаешь! Иди, тебя мент ждет! Вернешься – договорим до конца!..
– Обязательно,– сказал я и вышел. Никогда нельзя оставлять за оппонентом последнее слово.
– Лицом к стене!
Вот как, значит, обернулись дела, Андрей! Теперь кривые позвоночники будут указывать тебе, что и как делать. Диктовать свою волю. Ныне, значит, ты стираешь свои трусы только с их разрешения. Ты хотел победить тюрьму, побороться за свою свободу – вот тебе свобода стирать трусы, сражайся за нее!
От злости и досады у меня защекотало в носу.
Шагнув в кабинет для допросов, я ощутил неудобство и секунду не мог понять, в чем дело; наконец обнаружил, что почти весь дневной свет, поступающий из оконного проема, загораживает широкая человеческая фигура. Некто с внушительным размахом плеч, с крепчайшим квадратным задом, одетый в мешковатые милицейские брюки и такую же рубаху, стоял ко мне спиной, сунув руки в карманы, и смотрел через стекло во двор.
Сбоку – на своем обычном месте, за столом, перед экраном компьютера – обнаружился Хватов.
– Привет,– произнес он и с хрустом выдавил из пластиковой упаковки таблетку.
– Головные боли? – спросил я. Следователь кивнул. Он показался мне бледным. Массивный человек у окна обернулся.
– Здравия желаю, гражданин начальник, – поздоровался я упавшим голосом.
Капитан Свинец ничего не ответил и не изменил выражения лица: оно излучало ту смесь интереса и жалости, которая обычно предшествует минуте крайнего гнева.
В первую нашу встречу, облаченный в кожаные штаны и белые носки, человек из МУРа выглядел как большой, но безопасный болван. Сейчас – будучи одет в сизую форму офицера милиции – Свинец предстал в гораздо более выгодном виде. Такой капитан, если захочет, способен вызвать у окружающих трепет в буквальном смысле слова, грустно подумал я. Сегодня мне придется нелегко. Из таких вот капитанов, крепко сбитых, в развитых странах получаются отменные шерифы и комиссары. Став полковниками, они охраняют президентов. В Латинской Америке они не прочь составить хунту.
– Как сам? – негромко спросил капитан.
– Нормально.
– Сидишь по-прежнему один?
– Нет, нас трое.
– Нормальные соседи?
– Вполне.
– Небось, в стос режетесь целыми днями?
– В азартные игры – не играю.
– Почему?
– Слишком азартный. Свинец кивнул. Помолчал. Затем набрал полную грудь воздуха.
– Если честно, – доверительно, едва не ласково, начал он, глядя мне в глаза, – я бы тебя убил. Ей-богу, я борюсь с желанием сделать это прямо сейчас.
Хватов осторожно кашлянул.
Я оставался стоять посреди комнаты.
– Вообще,– деловым тоном продолжил опасный капитан, – расстреливать выгоднее, чем сажать. На пятерых посаженных в нашей стране положено аж двое охраняющих. Я цифры знаю. А сидит вас по лагерям и тюрьмам почти полтора миллиона... Содержать людей дорого. Это страшная нагрузка на карман государства.
– А как же,– негромко возразил я,– знаменитые чугунные крышки канализационных колодцев? На каждой второй отлит логотип какой-нибудь исправительной колонии...
– Сам ты логотип! – брезгливо ответил капитан. – Зеки – очень плохие работники. Отчего погибла Римская империя – знаешь?
– К этому ее привела логика истории.
– Нет. Оттого, что она использовала труд рабов. Рабов! – Свинец громко повторил вкусное слово и продолжил: – И наша империя... загнется... от такой же болезни. Врагов нации и государства следует ликвидировать, а не кормить бесплатно годами. Расстреливать!
– То же самое мне недавно говорил сосед по камере.
– Вот видишь! – сыщик насупился, он явно не шутил, говоря о ликвидациях врагов. – Что характерно: убить тебя я могу в любой момент... Вывезу арестованного на следственный эксперимент... там он совершит попытку к бегству и погибнет, будучи застрелен в спину из табельного оружия... Что скажешь, Степан?
Хватов принужденно улыбнулся.
– Это не моя идея. Свинец расцвел в улыбке.
– Черт! С интеллигентами трудно! Но я упорный, я справлюсь... А теперь,– голос широкоплечего капитана загремел,– послушай сюда, сучонок! Ты хотел меня обдурить! Твои компьютеры пусты! Вся информация стерта! Уничтожена! И что характерно – ты это знал!
– Я? Знал? – мне тоже пришлось повысить голос, чтобы тирада звучала достоверно. – Как – уничтожена? Почему уничтожена?
– Когда в твой офис пришли с обыском, твои люди не захотели открыть входную дверь.
– И правильно сделали! – мстительно вставил я, благодарно вспоминая Семена и Сергея.
– Пока эту дверь ломали и резали,– капитан повернулся к Хватову и стал рассказывать уже ему, а не мне, – неустановленный следствием человек положил рядом с главным сервером пятикилограммовый кусок намагниченного железа. Вся информация погибла.
– Ага! – выкрикнул я, торжествуя. – А вы что думали? Вы решили, что придете, сунете в нос моим сотрудникам автомат, и вам все подадут на блюдечке? Расскажут все подробности? Нет, гражданин начальник! У меня в конторе все налажено! У меня, знаете ли, каждую неделю, по пятницам – инструктаж! Для всех! Включая секретарей, водителей и завхоза! Каждый солдат должен знать свой маневр! Каждый – наизусть учил, что и как ему делать, когда люди в камуфляже начнут ломиться в дверь. Один – жесткие диски размагничивает. Второй записные книжки в унитаз спускает. Третий текущие документы в уничтожитель запихивает... Только так! Только так, гражданин начальник! Если мои меры безопасности не будут максимальными, исчерпывающими, кто тогда доверит мне свои деньги?
– Деньги... – выговорил Свинец задумчиво. – Опять деньги. Из-за них ты попал в тюрьму, и тебе, дурак, этого мало... А что же твои люди, завхозы и водители, на этом твоем инструктаже – не задавали тебе вопросов? Не интересовались, для чего такие строгости? Магниты в пять кило, уничтожители бумаги?
– Мы живем в Азии,– ответил я. – Здесь нет работодателей, а есть – хозяева. Хозяину вопросов не задают. А можно мне присесть?
– Нельзя!!! – грянул сыщик. – Где ты взял магнит в пять килограммов?
– Купил на черном рынке. Уплатил по таксе.
– Ясно. – Свинец грозно нахмурил светлые брови. – В общем, готовься, сынок. Я тебе устрою сладкую жизнь. Не застрелю, конечно... Пока. Но я тебе такую тюрьму организую, что небо с овчинку покажется! Ты думал, со мной можно в игры играть? Ты сказал, чтобы я посмотрел твой компьютер,– а он пуст! И ты это знал!
– Не знал.
– Знал! – прогрохотал Свинец. – Знал, гад! Сам только что признался, что всех своих людей заранее научил! Но меня все равно послал, чтобы я – пустышкусхавал! Потратил время и силы! Этого, мальчик, я тебе не прощу. Никогда. И я тебе отвечу. Адекватно отвечу! Я сейчас закончу с тобой и пойду к своей девочке. А ты – что характерно – отправишься в камеру! И будешь собирать вещички! Готовиться к переезду! Из этого приятного санатория, где каша с маслом и чай с сахаром, повезут тебя в нормальную тюрьму. В такую, где тебе самое место! В Бутырку! Или на улицу Матросская Тишина! Там – все иначе! Там в тридцатиместных хатах по сто пятьдесят человек сидят, от голода дохнут, умываются кровавыми слезами, вшей кормят!
Как бы успокоившись, Свинец шумно выдохнул. Его лицо покраснело, ноздри раздулись. Серые глаза смотрели на меня и сквозь меня – прямо на идеального, абсолютного преступника, сидящего внутри каждого живого человека.
– Твои замечания насчет белых носков я учел. Что характерно, у меня тоже были сомнения... Но ничего. Моя девочка белый цвет любит. В принципе, это все ради нее, и носки тоже... Но ты, сопляк, захотел меня опустить! Посмеяться над сыщиком! Решил – раз белые носки, значит, лох, да? Ничего подобного! Может, в плане носков я и лох, но насчет работы с подследственным контингентом я кое-что умею! И я тебя накажу. Сейчас дашь показания, а потом пойдешь в камеру, соберешь вещи и – в дорогу. А как на новом месте устроишься и в четыре смены поспишь несколько суток – сразу поймешь, что значит соврать офицеру милиции! И ты вспомнишь все, все про паспорт Фарафонова. Всю подноготную. Где, когда, у кого! В мельчайших деталях...
Отделившись от стены, Свинец пошел прямо на меня и с силой врезался своим плечом в мое. Я словно столкнулся с железнодорожным локомотивом – отлетел в сторону. Не попрощавшись с коллегой, милицейский капитан вышел из кабинета; так вышел, что было неясно,– то ли он вернется через две минуты, то ли через две недели.
Вдруг я вспомнил, что в собственном жилище я не смогу сегодня после допроса спокойно попить чаю, отдохнуть и обдумать все случившееся. Там меня ждет злой, раздраженный и опасный враг, старый уголовник, и у него претензии ко мне, и, может быть, все закончится скандалом, криком, дракой и последующими санкциями тюремного начальства.
Сейчас у меня есть возможность открыть рот, произнести несколько фраз, и меня поведут не в старую камеру, а в новую, и там я встречусь с другими людьми. Возможно, они будут более терпимы к моему образу жизни. Или, наоборот, меня бросят к каким-нибудь гадам, людоедам, убийцам, для которых очередное перерезанное горло ничего не значит...
После ухода сыщика-громовержца воцарилась пауза. Хватов проглотил еще одну таблетку и виновато взглянул на меня.
– Я так понимаю, Андрей, сегодня ты опять не будешь давать показаний?
– Показания? – я ощутил жжение в груди и боль в висках. – Хера вам, а не показания! Хера, а не показания, понятно? Не будет показаний! Ничего не будет! Ни слова! Никаких показаний! Ничего! Ясно вам? Ничего, ничего не скажу!
Я повышал и повышал голос, октаву за октавой, добавлял силы, экспрессии, это получалось у меня помимо воли, горячая слюна сама вылетала из глотки, и пальцы сами тянулись рвануть ворот свитера; обида, горечь, злоба, досада, слезы, тоска – все перемешалось, все вдруг отравило, и я заорал, глотая согласные звуки:
– Давай веди в хату! В хату давай веди!!! В хату!!! Какие тебе показания?!! Хуй тебе на воротник, гражданин начальник, а не показания!!!..
Только теперь я уяснил, что такое настоящая блатная истерика. Она тогда поражает арестованного, посаженного за решетку человека, когда ему угрожают со всех сторон, и на допросе, и в камере, когда повсюду ждут опасные враги, когда угроза не отступает ни днем, ни ночью, когда она каждую минуту рядом.
Интересно, а где мое хладнокровие, где та гармония мыслей, где результат регулярных медитаций? Вдруг это все тоже обман, и никакими упражнениями я не добьюсь настоящей крепости нервов?
Последний шанс смалодушничать и навсегда распрощаться с кривыми позвоночниками я имел на обратном пути, при обыске. Я мог шепнуть несколько слов конвоиру – а тот после такого признания обязан принять все меры. Запереть меня в «стакан», доложить начальнику... Но я промолчал.
Коренной обитатель, старый урка, разрисованный картинками рецидивист – олицетворял для меня всех, подчинившихся тюрьме. И проигравших ей.
Но я не такой. Я хочу победить и добьюсь своего.
В камеру я шагнул, как гладиатор на арену Колизея. Бог его знает, как выходили древнеримские смертники на поле боя – но наверняка их брови были нахмурены, губы поджаты, а глаза метали молнии и жадно искали взгляд врага. Ладони, влажные от пота, стискивали оружие...
Кстати, об оружии. Чем я стану защищаться, если обчифиренный старик набросится на меня? Я хоть и отжимаюсь на кулаках по сто пятьдесят раз каждый день, но навыков тюремной драки не имею, а вот мой противник – наоборот, опытен и хитер...
Представшая глазам картина озадачила меня. Оба соседа сидели на своих койках, сложив на животах руки, и вид имели самый мирный. Лицо Фрола и вовсе светилось.
Они не проронили ни звука, пока дежурный не закрыл дверь, не повернул свой ключ, не взглянул напоследок в «глазок». После этого Фрол улыбнулся и сказал мне:
– Иди сюда, быстро. Он нагнулся и показал пальцем в угол между двумя стальными кроватями.
– Видишь?
– Да,– сказал я, посмотрев. – Паук.
– Паук! – Фрол, совершенно счастливый, хлопнул меня по плечу. – Паук, брат!
От его агрессивности не осталось и следа. Я осторожно рассмотрел маленькое черное существо, шевелящее лапками.
– Это дело надо обчифирить как следует!
– А по какому поводу праздник? – спросил я, понимая, что конфликт исчерпан, замят, отодвинут в прошлое новым событием, значение которого вполне понятно только коренным обитателям тюрьмы.
– Паук – хорошая примета. Очень хорошая. Лучшая из всех, что я знаю, – Фрол с головой залез в дыру между краем койки и стеной и ласково забубнил: – Черт, как я тебя люблю, братан! Ты такой же, как и я! Сокамерник. Толстый, давай дадим ему кусочек твоей любимой колбасы! Маленький кусочек, а?
– Без проблем,– сказал Толстый,– только едят ли пауки колбасу?
– Тебе что, жалко колбасы?
– Для тебя не жалко, и для Андрюхи. Но для паука...
– Чудак ты. Для такого соседа не жалко и пайки, не то что колбасы. Отрежь, не жмись.
– Он не станет жрать такую гадость, как колбаса. Он же не человек!
– Ладно. – Старик выпрямился. – Вы как хотите, а я отпраздную...
Урка вскочил и подбежал к столу, где стояла его главная ценность: вырезанная из картона и оклеенная по углам полосками бумаги особая коробка с запасом чая.
Каждый раз, когда мне или Толстяку приходила продуктовая передача, первым делом из груды пакетов и свертков извлекался именно чай. Он торжественно засыпался в емкость, и Фрол победно провозглашал:
– Полна коробочка! Он не знал, что пьет, возможно, самый лучший чифир в истории человечества – изготовленный из чая «Эрл Грэй», смешиваемого в Лондоне, в конторе фирмы «Кертис и Партридж» крупнейшими специалистами своего дела.
– Паук! – восклицал Фрол и тряс пальцем в воздухе, грозя кому-то, кто оставался неведом мне и Толстяку. – Паук! Значит, хорошо сидим! Не надо ругаться! Надо отдыхать, успокоиться. Чифирнуть. Покурить. Побазарить, а потом чего-нибудь пожрать и поспать. Ага. Вволю. В тепле. Под одеялом. Дураки вы! – почти крикнул он нам. – Не знаете, что это такое, когда у человека есть чай, курить и одеяло! Это все, бля буду! Это все, что надо. Это жизнь. Остальное – параша...
Дрожа, он схватил ложку, опустил ее в коробку с чаем, зачерпнул с верхом и ловко затолкал все в рот. Стал энергично жевать, подбирая свободной рукой падающие с подбородка черные частицы. Потом глотнул из-под крана сырой воды. Снова прожевал, двигая челюстью вперед и вбок. Его щеки вздулись от слюны. Еще раз хлебнул. После третьего раза он повернулся к нам спиной и выплюнул черное и густое в станок для испражнений.
– Что ты знаешь о пауках, Толстый? Его паутина в тыщу раз крепче самой крепкой стали. Он ее сплел, свою сеточку,– и ждет. Ему все по фигу, он будет ждать, сколько надо. По-любому что-нибудь да залетит. Ага. Не было случая, чтобы не залетело! Бог пошлет пожрать в любом случае. Главное – раскинуть сеть, и чтоб она была крепче крепкого... А ты, Андрюха, буддист хуев, этого не понимаешь, не видишь настоящей жизни ни в пауках, ни в людях...
Засыпая вечером этого бурного и нервного дня, я слышал, как Толстяк негромко втолковывал Фролу:
– В полиэтиленовый пакетик наливаем воду из кружки. Кружка вмещает сто пятьдесят граммов. Получаем – гирьку для взвешивания! Пакетик завязываем узлом, подвешиваем на ниточке, тут – коромысло, с другого конца – колбаса. Так мы можем примерно определить массу всего заходящего к нам колбасного груза...
ГЛАВА 19
Через неделю нам устроили обыск. Вывели на прогулку – и, в наше отсутствие, тщательно прошмонали всю камеру. Для Лефортовской тюрьмы это обычная практика.
Вернувшись, Фрол обнаружил, что паутина грубо порушена. Между металлическим углом койки и стеной висели ее остатки – полупрозрачные белесые хлопья. Исчезло и насекомое. То ли спаслось бегством, то ли окончило свои дни под мягкой подошвой вертухайского ботинка.
Несчастный Фрол долго горевал и искал на полу раздавленное тело сокамерника. По мысли старого уркагана, если бы надзиратель убил паука, то вряд ли убрал бы за собой грязь. Мертвый паук не обнаружен, даже в виде мокрого пятна на цементе – значит, он уцелел, рассудил Фрол, обнадежил себя такой сентенцией и, на радостях, крепко чифирнул; потом его опять тошнило.
– Нет тела – нет ДЕЛА! – хрипел он, морщась. – Паучок живой, отвечаю! Прячется где-то. Испугался. Потерпим, Толстый. Скоро наш братан снова нарисуется. Новую сеть раскинет!
Но членистоногий братан исчез, как не было. Фрол помрачнел.
Со мной теперь он вообще не разговаривал. Я по-прежнему бегал ежедневно. Сырые футболки, трусы и носки складировал в особый мешочек. Всего мой запас составлял три смены белья. Три дня в неделю я мог тренироваться, потеть и дышать, а потом терпеливо ждал пятницы, очередного похода в баню. В бане я стирал свои вещи,– и снова на протяжении трех дней подряд самозабвенно работал весь прогулочный час.
Просьба коренного обитателя была формально выполнена: теперь мокрое белье отравляло внутрикамерный воздух только раз в неделю.
С другой стороны, сам я не особенно переживал насчет ссоры с татуированным соседом. Ежеутренние аутогенные тренировки изменили мою психику. Давление извне перестало беспокоить. Сознание упорядочилось. Нервы окрепли. Даже пальцы перестали дрожать – а ведь я страдал тремором на протяжении нескольких последних лет.
Ничего такого особенного в моих рассветных бдениях не было: проснувшись в шесть часов и выключив мешающее радио, я просто сидел, в полнейшей неподвижности, по часу, иногда по полтора, закрыв глаза и держа корпус прямо, и старался при этом не думать ни о чем. Мысли – когда наконец я разрешал им появиться – выстраивались в ровные шеренги и повиновались моей воле. Нужным мыслям разрешалось развиваться в идеи, ненужные изгонялись в никуда.
Сокамерники больше не раздражали меня, а скорее забавляли. Теперь я видел в них добрых и, пожалуй, небесталанных людей, при этом до невозможности нерациональных.
К тому же к середине осени – а осень в Лефортовской тюрьме уныла, сера, угнетающе тиха, печальна, окрашена жидким светом полуслепых электрических лампочек, пропитана запахом волглых простыней – один из троих, Толстяк, впал в глубокую меланхолию. Он спал до полудня, а затем весь день валялся на спине, молча разглядывая фотографию жены и детей; перерывы делались только для того, чтобы прожевать очередной кусочек любимого продукта. Я смотрел на него с жалостью. С моей новой точки зрения было очевидно, что строительный магнат допустил в голову лишние мысли и теперь страдает, не в силах изгнать их.
Причиной упадка я считал недостаток колбасы. В очередной продуктовой передаче Толстяк получил лишь мыло, чай, сахар и сигареты. Все его расчеты рухнули. График питания сорвался. Еще неделю назад мой объемистый сосед был добродушен и бодр, вслух читал газеты и шутил – теперь это был тяжко вздыхающий, глубоко удрученный человек. Он явно переживал колбасную ломку. Двое суток он вынашивал надежду, что произошла ошибка и ему принесли не тот мешок. Написал заявление на имя начальника тюрьмы с просьбой разобраться. Но администрация оскорбилась – однажды вместо вертухая «кормушку» открыл заспанный и раздраженный чин, с лысиной, бородавкой и майорскими погонами, доступно разъяснивший, что в специальном следственном изоляторе «Лефортово» случайностей не бывает: всякий арестант получает в точности те продукты, которые его родственник просовывает в окошко приема передач.
Еще через день все прояснилось. Строительного начальника вызвали на допрос.
Он сидел больше полугода, и дело его было решено. Следствие доказало вину в несколько месяцев. Предстоял суд. В отличие от меня, отправляющегося в следственный кабинет регулярно, дважды в неделю, Толстяка вообще не дергали на допросы.
Когда контролер сообщил ему о вызове, опечаленный чревоугодец натурально испугался. Трясущимися руками сменил мятые спортивные штаны на другие, более чистые и нарядные, пригладил волосы и в проем открывшейся двери шагнул, поеживаясь и втягивая голову в плечи – словно припозднившийся курортник в остывающее сентябрьское море.
Возвратился к обеду.
Фрол и я решили не садиться за еду без нашего приятеля. Он явился прямо к накрытому столу, во всем его великолепии: мутный макаронный супчик плескался на дне сизых алюминиевых мисок, а меж ними на кусках мятой газеты покоились специи и закуски – крупная соль, несколько колец лука, чеснок, пайка хлеба. Отдельно, с угла, размещались деликатесы – сыр и пара огурцов.
Магнат вернулся злым. Смачно и оглушительно, в точности как Фрол, он прохаркался в умывальник, сел и молча схватил ложку.
– Был адвокат,– сообщил он. – Новости принес. От жены.
Посмотрев в свою миску, он раздраженно отодвинул ее от себя и зажмурился, словно бы намереваясь заплакать.
– Деньги мои кончились,– сказал он. – В доме больше ни копейки.
– Это неприятность,– тихо вздохнул Фрол.
– Неприятность? – Толстяк побагровел. – У меня четыре дома! Не скажу где, но они есть! Двухэтажные кирпичные коттеджи, под шифером! Она должна была взять и продать любой, и денег хватило бы на сто лет!
– Супруга?
– Да! Об этом мы с ней много раз говорили! А теперь пишет, что продавать ничего не хочет, потому что никто не дает ей нормальной цены!
Магнат едва не всхлипывал. Я и Фрол сочувственно молчали, не притрагиваясь к еде.
– У меня четыре дома, все – с гаражами и участками, а я сижу без куска хлеба!
– Слушай,– спросил я,– а ты строил особняки?
– Последнее время – только их и строил.
– За что же ты сидишь? Толстый прокашлялся.
– Я сижу,– нехотя сообщил он,– за то, что построил особняк одному очень большому человеку.
– Где же тут преступление?
– Оно в том, что деньги, которыми мне заплатили, оказались украдены.
– А при чем здесь ты?
– При том, что материалы, из которых я строил, тоже были украдены.
– Тогда посадить должны были вас обоих. И тебя, и большого человека.
– Нет,– магнат с горечью покачал головой. – Этот человек оказался настолько большой, что если его посадить, то тогда сажать маленьких людей станет вообще незачем. Так мне объяснили, сразу.
Фрол улыбнулся.
– А я-то думал, что большой человек – это ты.
– Нет,– сокрушенно признался магнат,– я не большой. Я просто толстый.
– Зачем же ты рисковал? Строил дом из ворованного?
– Не всякое воровство – преступление,– убежденно провозгласил Толстяк. – Сколько ни укради у государства – своего все равно не вернешь. Я ничего ни у кого не украл. Я забирал то, что мне положено!
– Ладно,– сурово махнул рукой Фрол,– украл или не украл – это нас не касается. В камере этого не рассказывают. Правильно, Брумель?
Я с достоинством цыкнул зубом.
– Лучше расскажи нам,– попросил Фрол,– как ты растолстел.
– Толстеть и воровать – это один и тот же процесс,– печально ответил строительный начальник. – Во всяком случае, для меня. Хотя я, вообще-то, толстый с детства. Это, кстати, мне не мешало. Если в школе кто-то пытался пошутить надо мной – я сразу бил в ухо. Потом – стройбат. Там то же самое. Но интереснее: я в ухо, мне в ответ, и так два года... Отслужил срочную – и на стройку. Вырос с рабочего до бригадира. Заочно окончил институт. Вступил в партию – передвинули в прорабы. Через пять лет – начальник участка, через семь – замначальника управления. Потом начальник...
Воспоминания явно отвлекли магната от раздумий насчет жадной супруги, и он взялся за еду. Мы последовали его примеру.
– А как стал начальником – так и растолстел! – предположил Фрол, почесав ключицу, отчего вытатуированная там воровская восьмиконечная звезда пошевелилась, как звезда морская.
– Отнюдь, братан, – ответил Толстый. – Не сразу. Если честно, я вообще тогда не имел подкожного слоя. Ни физически, ни финансово. Вкалывал много, ел мало, почти не спал, особенно летом, когда сезон, когда люди на объекте – в три смены... У нас в стране тогда строили от севера до юга. И не гнилые магазины с бумажными крышами, как сейчас, а заводы. В общем, проходит год, второй, я – целый начальник СМУ, машина с водителем, галстук, партбилет, зарплата немалая, но при всем этом – бегаю, как мальчик, между высокими кабинетами или по котлованам, грязь дикая, мороз, дождь, холод, жара, ответственность – стройка, одним словом. Стал уставать, зубы сгнили, почки посадил, печень, естественно, тоже...
Я и Фрол, жующие горький лук и влажный сыр, согласно кивнули. В таком деле, само собой, без водки никак нельзя.
– И вот под конец года обещают мне премию и путевку в Сочи. А кроме того, с распродажи, – Толстяк уже почти успокоился, активно действовал ложкой, забрасывал в рот хлеб и куски помидоров,– достался мне дефицитный костюм, польского пошива, и ботинки, английские...
– «Ллойд»? – предположил я. – «Черч»?
– Хрен его знает,– емко высказался Толстяк. – Не в этом дело. В общем, в этой красоте, после срочной оперативки угораздило меня двинуть на объект ночью. На обратном пути застряли. Темень, грязь по колено, дождь пополам со снегом, начало зимы. Поменялись мы с водилой местами, он – толкать, я – газовать, а в водиле метр пятьдесят росту и подкожного слоя никакого... Через час плюнул я, снял ботиночки, штаны закатал и – сам в грязищу прыгнул. Толкал еще час. Вытолкнул. Водиле сразу говорю: у тебя наверняка водка есть, налей-ка мне срочно стакан, а не то завтра слягу с воспалением легких. Нет, отвечает мне водила, у меня водки, ты ж сам запретил под страхом смерти. Ладно, отвечаю, поехали домой. Приезжаем, я ему говорю – проверь-ка, друг, заднее колесо; а сам под сиденье к нему заглянул. Там – не одна, а аж две бутылки! Я ему сгоряча – в рыло. Наутро он в партком, жаловаться. Секретарь парткома вызывает, матом два часа орет. Мне – выговор с занесением. Недостойное члена партии поведение, рукоприкладство, унижение достоинства... Отбирают путевку в Сочи, премию. Все. Иди, работай...
– Вот где преступники,– каркнул Фрол, встал и устремился к емкости с чаем; он ел очень мало, после нескольких ложек баланды и куска хлеба с сыром уже принимал сытый вид, незамедлительно догоняясь чифиром.
– В тот же день,– магнат драматически вздохнул, как будто заново переживая прошедшее,– я две машины щебня оформил налево, на дачу к директору универмага, он мне в ответ – два костюма бельгийских. И так оно пошло, под кожей копиться... Кстати, и я чифирну, Фрол.
– Давно бы так,– обрадовался седой урка, произведя сложное, положительно окрашенное движение тела, отчего поколебались почти все его нательные рисунки, и Богородица на животе, и купола на предплечьях, и прочие знаковые орнаменты. – Тогда и ты с нами, Андрюха.
– Без базара,– согласился я. «Немного яда не повредит»,– пролетела в голове мысль, хотя я ей этого не разрешал.
Дважды шумно отхлебнув черной жидкости, Толстяк крякнул. Его передернуло. Теперь слова выскакивали из него быстро, как бы подгоняя друг друга.
– Не прошло и двух лет – я как очнулся! Зубы вставил! Жене – шубу, сыну – машину, теще – финский шифоньер! Водилу уволил. Секретарь парткома – лучший друг. Делюсь, как положено, со всеми. Они – со мной. Никто не воровал! Все забирали только свое. То, что положено! Компенсацию за тяжелый нервный заработок! Глаза мои открылись. Стало ясно, что отбор малой доли заложен строительными учеными во все стандарты, во все правила и нормы! Еще со времен Сталина! Расчеты изначально сделаны с огромным запасом. То есть я кладу вместо тысячи кубов девятьсот девяносто, десять кубов – моя доля, и все это без особого ущерба для прочности или качества!..
– Ты, я вижу, раскумарился, ага? – перебил Фрол, улыбаясь.
– Наверное,– стеснительно ответил Толстяк и вытер со лба пот. – Дальше – перестройка, совсем просто стало... Трест развалился. Я успел приватизировать восемь самосвалов и башенный кран. Технику сдаю в аренду. Сам – строю коттеджи. За черный нал. Секретарь парткома ищет заказы, бухгалтер платит налоги, я – коплю под кожей... Потом проблема появилась. Стали вокруг меня крутиться всякие любители увеличить свой собственный подкожный слой за мой счет. Один пришел – денег занял и пропал. Второй. Третий. Четвертый. Все – близкие люди, родственники, приятели по школе, по армии, по институту... Тут я не выдержал. Заплатил кому надо – всех разыскали...
– По таксе? – уточнил я.
– Чего?
– Заплатил – по таксе?
– Конечно.
– И что ты сделал с должниками? – осведомился Фрол.
– Как что? – удивился Толстяк. – Отрабатывать заставил! Я же – строитель. Один хитромудрый малый целый год на меня работал, электросварщиком! Пока все не отдал, до копеечки, пока весь жир из него не вытопился...
– Так и надо! – убежденно вставил я. – Только так! Взял, не отдал – отработай!
– Хорошо, что ты это понимаешь... Долго потом сидели; чифирили; курили сигареты с фильтром, пили чай с сахаром; разговаривали о деньгах, о воровстве, о «черном нале», о подкожном слое; о должниках, не возвращающих взятое; о врагах и друзьях, о колбасе и хлебе, о женах и детях, о преступниках и прокурорах, о свободе и тюрьме – о том, что беспокоило, волновало, о чем болела душа.
Через два дня Фрол притих. Запас чая таял. В один из вечеров татуированный старик расстелил на своем одеяле газету, ссыпал чай в аккуратную кучу, вытащил дно из спичечного коробка и аккуратно стал промеривать весь оставшийся запас.
– Что, друг, – тихо спросил Толстяк, наблюдая за ним,– и твой кайф на исходе?
– Был такой Ленин, Владимир Ильич, – ответил Фрол, сосредоточенный на своем занятии. – Может, слышал?
– Что-то припоминаю,– пошутил магнат.
– Так вот, он писал: социализм – это учет.
– А у нас социализм?
– А разве в этом дело?