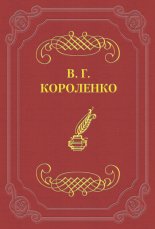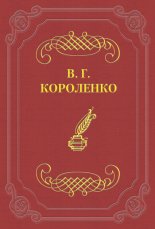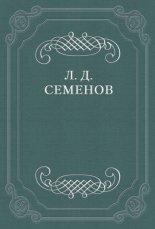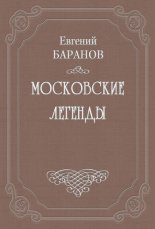Возвращение с Западного фронта (сборник) Ремарк Эрих Мария

За окном мчащегося поезда раскинулась огромная ночь; в своей бесконечности она раскинулась над сорока годами, над всей жизнью человека, для которого эти сорок лет и были вечностью. Мимо скользили деревни; в иных окошках горел огонек, изредка доносился собачий лай. И все это были деревни его детства, и в каждой из них он играл, и в каждой проходили его зимы и весны, и колокола всех этих часовенок когда-то звонили для него. Проносились черные, заспанные леса – леса его юности. Их золотые рассветы озаряли его первые походы, в их зеркальных прудах отражалось его возбужденное мальчишечье лицо, когда, затаив дыхание, он наблюдал пятнистых саламандр с красными животиками, – и ветер, перебиравший стволы буков, словно струны арфы, и гудевший в соснах, был стародавним ветром чудесных приключений. Едва различимые в темноте дороги, легшие раскидистой сетью на просторные поля, когда-то были дорогами его тревожной юности, он исходил их все вдоль и поперек, никогда не колеблясь на их скрещениях, шел от одного горизонта к другому, не страшась расставаний, веря в возвращение, и все вехи на этих дорогах, все хутора, разбросанные вдоль них, были ему знакомы. И дома, где в низких окнах, словно плененный, горел красноватый свет – добрый знак тепла и родного уюта; он жил за каждым из этих окон, помнил, как податливо опускаются дверные ручки, когда на них нажмешь, знал, кто ждет его под круглым абажуром лампы, чуть склонив голову, знал, как сверкают золотистые, огненные волосы, точно обрызганные искрами, – она, чье лицо было везде и ожидало его на всех улицах и уголках мира, порой затемненное, а часто и вовсе невидимое, полное тоски и желания забыться, – то был лик его жизни, и он ехал ему навстречу, – навстречу лицу, заполонившему все ночное небо, глазам, мерцавшим из-за облаков, губам, шептавшим за горизонтом беззвучные слова, рукам… Он уже ощущал эти руки – в ветре, в колыхании деревьев, видел улыбку, в которой под натиском безбрежного чувства тонул весь пейзаж, тонуло его сердце.
Ему чудилось, будто жилы его открылись и из них хлещет кровь; она вливалась в широкий поток, бушевавший вне его, и этот поток набухал и возвращался к нему, поднимал его руки и нес их куда-то далеко, к другим рукам, протянутым навстречу… Бурливый круговорот отламывал и уносил от него кусок за куском, растапливал его одиночество, как буйные вешние воды растапливают льдину. В эту единственную и бесконечную ночь он испытал одинокое счастье, ощущение великой слитности бытия, словно плескавшегося у его груди. И здесь было все – и жизнь, и потерянные годы, и блеск любви, и глубокое сознание неизбежности возвращения, но уже по ту сторону гибели.
XX
Штайнер приехал в одиннадцать утра. Сдав чемодан на хранение, он отправился прямо в больницу. Мимо него текли потоки людей и машин, тянулись дома, но города он не видел.
Дойдя до большого белого здания, он с минуту постоял в нерешительности, разглядывая широкий подъезд и бесконечные ряды окон. За одним из них лежит она… Или, быть может, уже не лежит. Стиснув зубы, он вошел внутрь.
– Я хотел бы узнать, когда можно навещать больных, – осведомился он в приемном покое.
– Какого класса? – спросила медицинская сестра.
– Этого не знаю. Я здесь впервые.
– Вам к кому?
– К фрау Мари Штайнер.
На мгновение его удивило, что сестра принялась равнодушно перелистывать толстую регистрационную книгу. Он только что произнес заветное имя и приготовился скорее к обвалу потолка белого зала или к тому, что сестра вскочит с места и начнет звать на помощь полицию или охрану.
– Пациентов первого класса можно навещать в любое время, – сказала сестра, продолжая листать страницы.
– Думаю, она не в первом классе, – ответил Штайнер. – Может быть, в третьем.
– Часы посещения третьего класса – от трех до пяти. – Сестра все никак не могла найти нужную страницу. – Повторите, как ее зовут.
– Штайнер, Мари Штайнер. – Внезапно у Штайнера пересохло в горле. Он глядел на хорошенькую, похожую на куклу сестру, словно ожидая от нее смертного приговора. Вдруг она сейчас скажет: «Умерла»?
– Мари Штайнер, – сказала сестра. – Второй класс. Комната 505, пятый этаж. Часы посещения – от трех до шести.
– 505. Благодарю вас, сестра.
– Пожалуйста.
Штайнер сделал шаг и остановился. В этот момент тихо зажужжал телефон. Сестра потянулась за трубкой.
– У вас есть еще вопрос? – спросила она.
– Скажите, она еще жива?
Сестра сняла трубку и положила ее на стол. Послышался тихий и квакающий жестяной голос, словно телефон превратился в какого-то зверька.
– Конечно, жива, – сказала сестра и снова заглянула в книгу. – Иначе рядом с ее именем была бы пометка. О каждом случае летального исхода нас немедленно извещают.
– Благодарю вас.
Хотелось тут же попросить разрешения подняться наверх. С трудом он подавил в себе это желание. Сестра могла бы спросить, кто он и откуда, а ему надо было оставаться возможно более незаметным. Поэтому он ушел.
Он бесцельно бродил по городу, описывая большие круги, но не отходя далеко от больницы. Она жива, твердил он про себя. Господи, она жива! Вдруг его охватил страх – что, если кто-нибудь узнает его! Он юркнул в какой-то трактир, спросил себе обед, но не мог притронуться к еде.
Кельнер удивленно уставился на него:
– Что, не нравится?
– Нет, все очень вкусно. Только принесите мне сначала вишневки.
Он заставил себя съесть обед. Затем попросил принести газеты и пачку сигарет. Он притворился, будто читает; впрочем, он действительно хотел читать. Но слова не проникали в мозг. В полутемном трактире пахло снедью и пресноватым пивом. За всю свою жизнь Штайнер не переживал более страшного часа. Воображение рисовало страшные последние часы Марии. Он слышал, с каким отчаянием она призывает его, видел ее в слезах, покрытую предсмертной испариной. Словно налитый свинцом, он сидел на стуле, шурша газетой и сжав зубы, чтобы не застонать, не вскочить, не побежать. Медленно ползущая стрелка часов была рукой судьбы – она схватила его за горло и медленно душила…
Наконец он положил газету и поднялся. Кельнер, прислонившись к стойке, ковырял в зубах. Увидев, что гость встал, он подошел к столику.
– Счет? – спросил он.
– Нет, – сказал Штайнер. – Еще рюмку вишневки.
– Хорошо. – Кельнер наполнил рюмку.
– Налейте и себе.
Кельнер налил вторую рюмку и поднял ее двумя пальцами.
– Ваше здоровье!
– Да, – сказал Штайнер. – Будем здоровы.
Они выпили и поставили рюмки.
– Вы играете в бильярд? – спросил Штайнер.
Кельнер взглянул на стоявший в середине зала бильярдный стол, обитый темно-зеленым сукном.
– Так, немножко.
– Сыграем?
– Почему бы нет? А вы хорошо играете?
– Давно уже не играл. Предлагаю для начала пробную партию, если не возражаете.
– Идет.
Каждый натер острие кия мелом. Затем они разыграли несколько пробных шаров. Первую партию выиграл Штайнер.
– Вы играете лучше меня, – сказал кельнер. – Дайте мне десять очков вперед.
– Ладно. – «Если я выиграю и эту партию, все будет хорошо, – загадал Штайнер. – Тогда, значит, она жива, и я увижу ее, и, может быть, она выздоровеет…»
Он играл очень сосредоточенно и выиграл.
– Теперь я даю вам двадцать очков вперед, – сказал он. Эти двадцать очков казались ему неким залогом жизни Мари, ее здоровья и бегства с нею; щелкали белые шары, Штайнеру чудилось – позвякивают ключи судьбы. Партия получилась довольно острой. После серии хороших ударов кельнеру не хватило до полного счета только двух очков, но на последнем шаре он промахнулся на сантиметр. Штайнер взял кий и начал играть. Несколько раз он останавливался – что-то мелькало перед глазами, – но все-таки успешно довел партию до конца.
– Здорово играете, – одобрительно заметил кельнер. Штайнер с благодарностью кивнул ему и посмотрел на часы. Начало четвертого! Быстро расплатившись, он ушел.
Он поднялся по лестнице, устланной линолеумом. Его трясло – с головы до пят его трясла какая-то бешеная, мелкая дрожь. Длинный коридор извивался, коробился, и вдруг откуда-то точно выпрыгнула белоснежная дверь и остановилась прямо перед ним: 505.
Штайнер постучал. Никто не ответил. Он постучал снова. А вдруг это случилось только что, в последнюю минуту, подумал он, и от этой мысли все в нем судорожно сжалось. Он открыл дверь.
Маленькая комната, освещенная лучами предвечернего солнца, казалась каким-то нездешним островком мира. Казалось, грохочущее время, неукротимо рвущееся вперед, уже утратило всякую власть над бесконечно спокойной женщиной, лежавшей на узкой кровати и глядевшей на Штайнера. Он слегка качнулся, уронил шляпу, хотел было поднять ее, но, едва нагнувшись, словно от резкого удара в спину, в беспамятстве рухнул на колени у самой кровати. Содрогаясь всем телом, он беззвучно рыдал.
Женщина смотрела на него долгим, умиротворенным взглядом, но постепенно ее начало охватывать беспокойство. Дернулась кожа на лбу, зашевелились и на мгновение искривились губы. Рука, недвижно лежавшая на одеяле, поднялась, будто хотела удостовериться, коснуться того, что видели глаза.
– Это я, Мари, – сказал Штайнер.
Женщина попыталась приподнять голову. Ее взгляд блуждал по его лицу, склонившемуся над ней.
– Успокойся, Мари, это я, – повторил он. – Я приехал…
– Йозеф… – прошептала она.
Штайнер опустил голову ниже. Слезы лились неудержимо, и он сильно прикусил губу.
– Это я, Мари. Я вернулся к тебе.
– Если они тебя найдут… – прошептала она.
– Они не найдут меня, где им… Я могу спокойно остаться здесь. Остаться с тобой.
– Прикоснись ко мне, Йозеф… я должна чувствовать, что ты здесь. А видела я тебя часто…
Он взял легкую в голубых прожилках руку и поцеловал ее. Потом склонился над любимым лицом и коснулся губами ее усталых и уже словно далеких губ. Когда он выпрямился, глаза ее были полны слез. Она легонько тряхнула головой, и слезы дождем пролились на подушку.
– Я знала, что ты не можешь приехать, но всегда ждала тебя…
– Теперь я останусь с тобой.
Она попыталась оттолкнуть его:
– Как же ты останешься здесь! Ты должен уехать. Ты ведь не знаешь, что тут было. Уходи сейчас же. Уйди, Йозеф…
– Нет. Мне ничто не грозит.
– Тебе грозит огромная опасность, уж я-то знаю. Я повидала тебя, а теперь уходи. Долго мне не протянуть, и с этим я вполне справлюсь одна.
– Я все устроил так, что могу остаться здесь, Мари. Скоро будет амнистия, и я подпадаю под нее.
Она недоверчиво посмотрела на него.
– Правда, – сказал он, – клянусь тебе, Мари, что это правда. Конечно, никому не надо знать, что я здесь. Но если кто и узнает – ничего страшного не будет.
– Я-то ничего не скажу, Йозеф. Я никогда ничего не говорила.
– Знаю, Мари. – Волна нежности и тепла захлестнула его. – Ты не развелась со мной?
– Нет. Разве я могла? Не сердись…
– Это нужно было для тебя. Чтобы тебе легче жилось.
– Мне и так было нетрудно. Люди помогали мне. Мне даже помогли получить одиночную палату. Лучше лежать здесь одной. Тогда и ты сможешь быть со мной больше.
Штайнер смотрел на нее. Сморщенное лицо, резко очерченные скулы, бледные восковые щеки, синие тени под глазами. Тонкая, хрупкая шея и ключицы, выпирающие из впалых плеч. Даже глаза и те подернуты поволокой, а губы совсем обесцветились. И только золотистые волосы сверкали. Казалось, они стали гуще, крепче, точно вобрали в себя все силы, покинувшие угасающую плоть. В лучах предзакатного солнца волосы пышно вздулись, словно красновато-золотистый ореол, словно яростный протест против усталости этого почти детского тела, едва обозначавшегося под простыней.
Дверь отворилась. Вошла сестра. Штайнер встал. Сестра поставила на столик стакан с жидкостью, похожей на молоко.
– У вас гость? – спросила она, окидывая Штайнера быстрым взглядом голубых глаз.
Голова больной шевельнулась.
– Из Бреслау, – прошептала она.
– Из такой дали? Что ж, хорошо. Будет у вас хоть какое-то развлечение.
Голубые глаза снова скользнули по Штайнеру. Сестра достала термометр.
– У нее жар? – спросил Штайнер.
– Что вы! – весело ответила сестра. – Уже много дней никакого жара.
Дав больной термометр, она ушла. Штайнер пододвинул к кровати стул, сел совсем близко к Мари и взял ее руки.
– Ты рада, что я здесь? – спросил он, понимая всю нелепость своих слов.
– Для меня это все, – сказала Мари, не улыбнувшись.
Оба молча смотрели друг на друга. Говорить не хотелось. Они снова оказались вдвоем, и это само по себе было так огромно, что любые слова казались ненужными. Они смотрели друг на друга, тонули друг в друге, и не было на свете ничего, кроме них. Оба точно вернулись домой, к себе. Не было будущего, не было и прошлого. Было только настоящее – покой, тишина и мир.
Снова вошла сестра и сделала отметку на температурном листе; они почти не заметили ее. Они смотрели друг на друга. Солнце медленно соскальзывало вниз, словно нехотя расставаясь с этими красивыми, пламенеющими волосами; луч сполз на подушку, распластался пушистой кошкой из света, потом сместился дальше и стал медленно карабкаться вверх по стене. Они смотрели друг на друга. На голубых ногах пришли сумерки и заполнили комнату… Они неотрывно смотрели друг на друга, пока тени, выдвинувшиеся из углов комнаты, не закрыли своими темными крыльями это белое, это единственное лицо.
Дверь открылась, и вместе с хлынувшим потоком света в палату вошел врач, а за ним и сестра.
– Теперь вам пора идти, – сказала сестра.
– Да. – Штайнер встал и наклонился над постелью. – Завтра я приду снова, Мари.
Она лежала, словно наигравшийся до полного изнеможения, полуспящий, полугрезящий ребенок.
– Да, – проговорила она, и он не понял, сказано ли это ему или кому-то другому, привидевшемуся ей во сне. – Да, приходи опять.
В коридоре Штайнер дождался врача и спросил, сколько ей еще осталось жить. Врач смерил его взглядом.
– Не более трех-четырех дней, – сказал он. – Чудо, что она не умерла до сих пор.
– Благодарю вас.
Штайнер медленно спустился по лестнице. Выйдя из подъезда, он остановился и вдруг увидел город, раскинувшийся вокруг. Утром он никак не воспринимал его, но теперь улицы, дома, площади, – все обрело полную отчетливость, и от этого нельзя было уйти. Он видел опасность, незримую и безмолвную, подстерегавшую его на каждом углу, в каждой подворотне, притаившуюся в каждом лице. Он знал, что сделать почти ничего нельзя. Место, где его могли схватить, как зверя у водопоя в джунглях, – вот оно, это белое, каменное строение за его спиной. Но он также знал, что должен прятаться, – иначе он не сможет приходить сюда. Три-четыре дня. Ничто и целая вечность. Он подумал, не разыскать ли кого-нибудь из старых друзей, но потом решил отправиться в какой-нибудь отель средней руки. В первый день там на него не обратят внимания.
Керн сидел в камере тюрьмы «Ля сантэ» с австрийцем Леопольдом Бруком и вестфальцем Мэнке. Они клеили бумажные пакеты.
– Знали бы вы, ребята, до чего жрать охота! – сказал Леопольд. – Передать невозможно! С удовольствием сожрал бы клейстер, если бы за это не полагалось наказания!
– Подожди, – ответил Керн. – Через десять минут принесут жратву.
– Какой от нее толк! Еще больше голодным будешь. – Леопольд надул пакет и, злобно хлопнув по нему, порвал. – И зачем только человеку желудок, да еще в такое проклятое время! Как подумаешь об окороке или даже о свиных ножках – и прямо хочется разбить в щепы всю эту лавочку!
Мэнке поднял глаза.
– А мне, наоборот, рисуется огромный бифштекс с кровью, – заявил он. – С луком и жареным картофелем. И конечно, пиво, холодное как лед.
– Прекрати! – застонал Леопольд. – Давайте говорить о чем-нибудь другом. Например, о цветах.
– А почему именно о цветах?
– Ну, вообще о чем-нибудь прекрасном, неужели ты не понимаешь? Надо же нам как-то отвлечься!
– Цветы меня не отвлекают.
– Однажды я видел несколько розовых кустов. – Леопольд судорожно пытался сосредоточиться на этом воспоминании. – Прошлым летом. Перед тюрьмой в Палланце. На закате, когда нас выпустили на волю. Красные розы. Такие красные, как… как…
– Как сырой бифштекс, – подсказал Мэнке.
– Ах, чтоб тебе пусто было!
Щелкнул замок.
– Принесли жратву, – сказал Мэнке.
Дверь отворилась. Но это был не служитель, разносивший пищу, а надзиратель.
– Керн… – сказал он.
Керн встал.
– Пойдемте со мной! К вам пришли!
– Вероятно, президент республики, – предположил Леопольд.
– А может, Классман. Ведь у него есть паспорт. Вдруг он принес какую-нибудь еду.
– Масло! – вдохновенно произнес Леопольд. – Большой кусок масла! Желтого, как подсолнух!
Мэнке ухмыльнулся:
– Знаешь, Леопольд, ты все-таки лирик! Нашел когда думать о подсолнухах!
Керн резко остановился в дверях, будто кто-то ударил его кулаком в грудь.
– Рут! – сказал он, задыхаясь. – Как ты сюда попала? Тебя тоже схватили?
– Нет, Людвиг, нет!
Керн мельком взглянул на надзирателя, безучастно прислонившегося к стенке. Затем быстро подошел к Рут.
– Ради всего святого, немедленно уходи отсюда! – прошептал он по-немецки. – Ты не понимаешь, что происходит! В любую минуту тебя могут арестовать. Это – месяц тюрьмы. При вторичном аресте – полгода! Поэтому поскорее уходи… немедленно!
– Месяц! – Рут испуганно посмотрела на него. – Ты должен просидеть здесь целый месяц?
– А что тут такого! Просто не повезло! Но ты… не будь легкомысленна! Здесь каждый может потребовать у тебя документы! В любую секунду!
– Да есть у меня документ!
– Что?
– У меня есть вид на жительство, Людвиг!
Она достала из кармана бумажку и показала ее Керну. Тот широко раскрыл глаза.
– Иисусе Христе! – медленно произнес он немного погодя. – Значит, правда! Так сказать, непреложный факт! Это все равно что кто-то воскрес из мертвых! Хоть один раз выгорело! Кто помог? Комитет беженцев?
– Да. Комитет и Классман.
– Господин надзиратель, – сказал Керн, – разрешается ли арестованному поцеловать даму?
Надзиратель вяло посмотрел на него.
– По мне – так сколько угодно, – ответил он. – Лишь бы она не передала вам при этом нож или напильник!
– При месячном сроке это вряд ли имеет смысл.
Надзиратель свернул сигарету и закурил.
– Рут! – сказал Керн. – Вы знаете что-нибудь о Штайнере?
– Нет, ничего. Марилл говорит, что узнать о нем что-либо невозможно. Штайнер наверняка не станет писать. Просто возьмет и вернется. Вдруг придет к нам, и все.
Керн недоверчиво поглядел на нее:
– Марилл серьезно верит в это?
– Все мы верим, Людвиг. А что нам еще делать?
Керн кивнул:
– Действительно, делать больше нечего. Он уехал только неделю назад. Может быть, все-таки пробьется.
– Должен пробиться. Ничего другого я себе не представляю.
– Время вышло, – сказал надзиратель. – На сегодня хватит.
Керн обнял Рут.
– Возвращайся! – прошептала она. – Возвращайся поскорее! Ты останешься здесь, в «Сантэ»?
– Нет. Нас перебросят к границе.
– Я попробую добиться еще одного свидания! Возвращайся! Я люблю тебя! Приходи скорее! Мне страшно! Я хочу поехать с тобой!
– Это невозможно. Твой вид на жительство действителен только в Париже. Я вернусь.
– Я принесла тебе деньги. Они спрятаны под бретелькой. Вытащи их, когда поцелуешь меня.
– Мне ничего не нужно. Хватит того, что у меня есть. Оставь их себе! Марилл тебя не бросит. Может быть, скоро и Штайнер приедет.
– Время вышло! – повторил надзиратель. – Не плачьте, детки! Ведь не на гильотину он идет!
– Прощай! – Рут поцеловала Керна. – Я люблю тебя. Возвращайся, Людвиг!
Оглянувшись, она взяла пакет, лежавший на скамье.
– Здесь немного еды. Внизу пакет проверили, все в порядке, – обратилась она к надзирателю. – Прощай, Людвиг!
– Я счастлив, Рут! Господи, до чего я счастлив, что у тебя есть вид на жительство. Теперь эта тюрьма будет для меня раем!
– Ну, пошли! – сказал надзиратель. – Пошли обратно в рай!
Керн взял пакет. Он оказался довольно тяжелым. По дороге в камеру надзиратель задумчиво проговорил:
– Моей жене, знаете ли, шестьдесят лет, и у нее появился небольшой горб. Иногда мне это бросается в глаза.
Керн пришел в камеру в момент, когда служитель стоял у двери и раздавал миски с супом.
– Керн, – проговорил Леопольд с кислой миной. – Снова картофельный суп без картофеля.
– Это овощной суп, – заметил служитель.
– Скажешь еще, что это кофе, – ответил ему Леопольд. – Тебе я верю на слово…
– Что у тебя в пакете? – обратился к Керну вестфалец Мэнке.
– Еда. Только не знаю какая.
Лицо Леопольда засияло, как алтарь католического собора.
– Ну-ка, разверни его! Быстро!
Керн развязал шпагат.
– Масло! – молитвенно прошептал Леопольд.
– Как подсолнух! – добавил Мэнке.
– Белый хлеб! Колбаса нескольких сортов! Шоколад! – в экстазе продолжал Леопольд. – И вот еще… глянь-ка… целая головка сыра!
– Как подсолнух, – повторил Мэнке.
Леопольд не обратил внимания на насмешку и горделиво выпрямился.
– Служитель! – повелительно произнес он. – Возьмите свою гнусную баланду и пойдите-ка вы с ней к…
– Стоп! – прервал его Мэнке. – Не спеши! Ох уж эти мне австрийцы! В 1918 году мы из-за них проиграли войну! Давайте миски сюда, – сказал он служителю.
Он взял их и расставил на скамье. Положив сюда же остальное продовольствие, он с умилением принялся созерцать этот натюрморт. На стене, прямо под сыром, красовалось написанное каким-то заключенным изречение: «В жизни все – одно мгновение, даже пожизненное заключение!»
Мэнке ухмыльнулся.
– Будем считать овощной суп чаем, – объявил он. – А теперь давайте поужинаем, как образованные люди! Как ты считаешь, Керн?
– Аминь! – ответил тот.
– Завтра я приду к тебе снова, Мари.
Штайнер склонился над ее спокойным лицом и выпрямился. В дверях стояла сестра. Она скользнула по нему быстрым взглядом, но тут же отвела глаза в сторону. Стакан на блюдце в ее руке дрожал и тихо позвякивал.
Штайнер вышел в коридор.
– Стой! – скомандовал чей-то голос.
Справа и слева от двери стояло по эсэсовцу в форме и с пистолетом в руке. Штайнер остановился. Он даже не испугался.
– Как вас зовут?
– Иоганн Губер.
– Пройдите со мной к окну.
Подошел кто-то третий и внимательно вгляделся в него.
– Это Штайнер, – сказал он. – Никаких сомнений. Я узнаю его. Да и ты, Штайнер, пожалуй, тоже узнал меня, а?
– Я не забыл тебя, Штайнбреннер, – спокойно ответил Штайнер.
– Это тебе и не удастся, – захихикал тот. – Добро пожаловать! Сердечно приветствую тебя на родине! Я действительно рад видеть тебя снова. Надо полагать, теперь ты погостишь у нас немного, не так ли? Мы открыли великолепный новый лагерь со всеми удобствами. Полный комфорт!