Йозеф Геббельс. Особенности нацистского пиара Кормилицына Елена
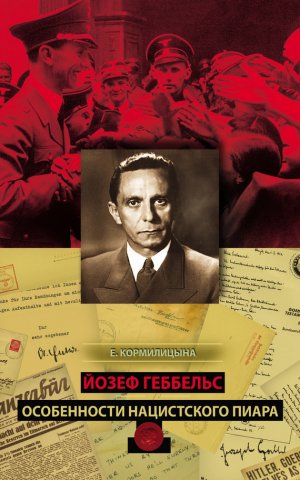
была сделана на случай, если немецкий народ не впечатлится речами Лея, которого крупный немецкий промышленник Франц Тиссен называл «заикающимся алкоголиком». Являвшаяся частью Германского трудового фронта «Сила в радости» занималась вопросами досуга, отдыха и развлечений среди рабочих. Получая огромные правительственные субсидии, она развивала туризм, организовывала любительские театры, культивировала массовый спорт. При желании горожане могли также приобщиться к фермерскому труду, заодно получив представление о том, что такое идеальный германский образ жизни. Прагматичных горожанок предполагалось заманивать в деревню, обещая им браки с крепкими сельскими парнями. Реклама ли тому виной или сознательность немок, но начинание это имело большой успех.
С первых моментов своего существования телевидение дало жизнь не только телерекламе, но и теленовостям. Поскольку официальные источники не баловали телевидение своим вниманием, то информацию для новостных передач получали порой достаточно причудливым образом.
Так, журналист мог быть отправлен, например, на рынок, где после разговора с покупательницами и продавцами приобретал «достоверные» сведения и выслушивал «экономические прогнозы». Особенно прославился на этом поприще репортер Фриц Янеке. Именно он вдруг обнаружил в себе талант-умение разговаривать с людьми. Янеке одинаково увлеченно рассказывал о кулинарных рецептах и о том, как следует правильно сидеть на лошади. А главное, он слушал так, что члены общества охотников принимали его за своего, а домохозяйки были уверены, что он как никто разбирается в кулинарии и шитье. Тематика передач менялась постоянно, неизменными оставались лишь приветствие: «Хайль Гитлер!» и тот восторженный общий тон, который выделялся даже на общем фоне хвалебных немецких передач.
По мере того как военная фортуна все больше отворачивалась от Германии, телевидение приобретало все более гротескные черты. Чем хуже становилась ситуация, тем более легкими и веселыми делались телевизионные передачи. Они развлекали, утешали и отвлекали от действительности. Раненые солдаты в госпиталях стали первыми настоящими поклонниками немецкого телевидения.
Телевещание в нацистской Германии официально прекратилось осенью 1944 года, но это событие не выглядело для немцев такой уж страшной потерей на фоне всего происходящего. Проглядели в Третьем рейхе огромный потенциал, который несло в себе новое средство массовой информации. Телевидению оставили роль глупого горшочка с бубенчиками, который умел наигрывать: «Все пройдет, мой Августен, Августен, Августен…» Впрочем, к 1944 году его уже мало кто слушал.
Несмотря на то что радио, как и телевидение, было для Германии новинкой, судьба его в Третьем рейхе сложилась совершенно иначе. История его широкого распространения началась с 1923 года. После этого каждый новый год количество радиослушателей увеличивалось необыкновенно быстрыми темпами. Если на 1.04. 1924 года их было 10 000, то уже к 1.04.1925-го насчитывалось 780 000, к 1.04. 1927-го – 1 миллион, к 1.04.1929-го – 2, 8 миллиона, к 1.04. 1931-го – 3,7 миллиона. В 1932 году, несмотря на экономический кризис, число радиослушателей превысило 4 миллиона человек. К этому времени Германия вышла на второе в Европе место (после Великобритании) по количеству радиоприемников.
Фактически это выражалось в том, что радио дома имела каждая четвертая семья[209].
После прихода национал-социалистов к власти радио, как и другие средства массовой информации, было подвергнуто унификации. Это не потребовало таких хлопот со стороны министра пропаганды, как, например, завоевание прессы, находившейся в руках разных частных владельцев. Изначально подчиненное государству радио оказалось намного проще контролировать, чем какие бы то ни было еще средства массовой информации.
В марте 1933 года имперским министром внутренних дел Геббельсу официально было передано право контроля за «персональными, политическими, культурными и программными задачами радио»[210]. Планируя мартовскую избирательную кампанию, Геббельс довольно преждевременно заметил: «Теперь борьба будет легкой, так как мы можем использовать все средства государства. Радио и пресса в нашем распоряжении. Мы достигнем вершин пропаганды»[211]. На самом деле он был прав лишь частично. Во-первых, оказалось, что замена руководителей радиостанций на нацистов – мера далеко недостаточная для того, чтобы превратить радио в превалирующий инструмент пропаганды. Следовало так организовать предвыборное радиовещание, чтобы передаваемые речи Гитлера не стали своеобразной антирекламой национал-социализма. Одно дело – выступление на митинге, где при минимуме выразительных средств толпа «заведет» себя сама, и совсем другое – радиовещание, где индивидуальное прослушивание передач оставляет место для критического восприятия. Гитлеровский истерический надрыв, так хорошо действовавший на людей во время митингов, в данном случае мог оказаться не только бесполезным, но даже вредным. В 1933 году, после прослушивания одной из своих речей во Дворце спорта, фюрер довольно уныло заметил, что, похоже, ему никогда не стать радиозвездой. Геббельс взялся опровергнуть это замечание и добился поразительных результатов. Все те речи Гитлера, которые мы имеем возможность услышать сегодня, – плод кропотливой работы самых разных специалистов. В конечном итоге подбирались наиболее выразительный тембр, предварительные и последующие комментарии, звуковое сопровождение – все то, что должно было максимально приблизить радиослушателя к тому экзальтированному состоянию, которое было характерно для участника митинга. Геббельс не скрывал удовлетворения. Партия успешно осваивала один из самых на то время прогрессивных способов распространения информации. Оставалось совсем немного времени до того момента, когда появится радио, «марширующее вместе с нацией».
Создание министерства пропаганды вывело систему контроля радио на новый уровень. Все отделы министерства начинали свое существование как достаточно компактные структуры, впоследствии разраставшиеся до огромных размеров. Не был исключением и третий отдел (т. е. отдел радио). К 1940 году он состоял из четырех частей, каждая из которых ориентировалась на что-то свое.
1) Отдел по делам культуры и вещания на зарубежные страны: это отделение занималось радиопередачами по вопросам политики, радиопрограммами для национальных фестивалей, культурным обменом с зарубежными странами, помощью в вещании на заграницу, школьными и научными передачами, передачами по вопросам международной культуры, связью с прессой и с Всемирным союзом радио.
2) Отдел по особой тематике: отделение ведало подготовкой радиопередач в случае, когда была необходима срочная мобилизация, организацией радиовещания в военное время и использованием радио как оружия военной пропаганды.
3) Отдел юридического обеспечения.
4) Отдел технических вопросов[212].
Четвертое отделение помимо явных своих задач достаточно часто занималось техническим обеспечением особо секретных и важных объектов. Так, шеф политической разведки В. Шелленберг упоминал об одном из таких объектов:
«Геббельс, будучи министром пропаганды, создал службу радиоперехвата, главная задача которой состояла в снабжении его министерства всем необходимым для ведения пропаганды в странах противника. Эта служба, в которой в качестве операторов работало много иностранцев, была благодатной базой для вражеских секретных служб и поэтому находилась под постоянным и тщательным наблюдением гестапо»[213].
Достаточно высокий уровень развития радиотехники позволял не только перехватывать «вражеские голоса», но и поддерживать сложную систему вещания. Уже в 1936 году вещание осуществлялось на Южную Азию, Австралию, Восточную Азию, Африку, Южную Америку, Центральную Америку и Северную Америку. Во время войны с СССР Геббельс с радостью отмечал отличную работу секретных радиостанций, вещавших на русской территории:
«Наши секретные радиостанции образцово используют всяческие уловки и ухищрения. Сталину не до смеха. Значительная часть русской пропаганды внутри страны занята опровержением нашей. Она носит оборонительный характер, эта расхваленная и опасная большевистская массовая пропаганда. Теперь наши радиостанции беспрепятственно выходят в эфир. Официальные подчеркнуто объективны, а секретные радиостанции жмут на всю катушку»[214].
Координация таких разноплановых отделений требовала огромных сил как от самого Геббельса, так и от его непосредственных подчиненных. Неудивительно, что Отдел радио Имперского министерства народного просвещения и пропаганды оказался неспокойным местом для тех, кто его возглавлял. Обилие самых разнообразных функций, а главное – деспотичный контроль со стороны Й. Геббельса, требовавшего от руководителей полного и безоговорочного подчинения, привели к тому, что люди там надолго не задерживались. Первый глава отдела, Густав Крукенберг[215], продержался на новом месте совсем немного. Его противостояние с министром пропаганды вылилось в то, что вскоре ему пришлось подыскивать новое место работы. На смену Крукенбергу пришел 28-летний Ойген Хадамовски. Его отношения с Геббельсом тоже были далеки от идеальных. С одной стороны, именно его министр в своих записях обозначил как «одного из спутников жизни, много лет неустанно и преданно сопровождавших его», с другой – стремительный карьерный взлет и непомерное честолюбие молодого работника безумно раздражало министра. А. Шпеер не раз становился свидетелем достаточно безобразных сцен, когда Геббельс намеренно дискредитировал Хадамовского перед фюрером:
«Некоторые остроты бывали тщательно подготовлены и как звенья аккуратно вплетены в цепь действий, о развитии которых Гитлер получал регулярную информацию. Геббельс и здесь превосходил остальных, поскольку одобрительная реакция Гитлера снова и снова побуждала его к действию. На радио старый член партии Ойген Хадамовски получил руководящую должность и теперь горел желанием возглавить все радиовещание рейха. Министр же пропаганды, у которого на примете был совсем другой кандидат, опасался, как бы Гитлер и впрямь не вздумал поддерживать Хадамовского, поскольку тот с заметным искусством организовал передачи о ходе избирательной кампании. Ханке, статс-секретарь в министерстве пропаганды, после этого пригласил его к себе и официально сообщил ему, что он недавно был произведен Гитлером в "рейхсинтенданты". Восторги Хадамовского по поводу желанного назначения были, по всей вероятности, за обедом доведены до сведения Гитлера в огрубленном и искаженном виде, так что Гитлер воспринял все происшедшее как интересную шутку. На другой день Геббельс нарочно велел напечатать несколько экземпляров одной газеты, в которой была опубликована ложная информация о назначении, а вновь назначенный осыпался неумеренными похвалами. В таких интригах Геббельс знал толк; теперь он мог доложить Гитлеру, какие преувеличения и восторги содержала информация и с какой радостью Хадамовски все это воспринял. Результатом был новый приступ хохота у Гитлера. В тот же день Ханке попросил вновь назначенного произнести приветственную речь в неподключенный микрофон, и это снова послужило источником бесконечного веселья, когда за столом было сообщено, с какой неумеренной радостью – доказательством откровенного тщеславия – он реагировал на это предложение. Теперь Геббельсу нечего было опасаться, что кто-то поддержит Хадамовского. Дьявольская игра, причем высмеиваемый даже не имел возможности вмешаться, он, вероятно, и не подозревал, что все эти шуточки имели целью сделать его совершенно несостоятельным в глазах Гитлера. Никто не мог бы также проверить, точно ли Геббельс излагал факты или дал волю необузданной фантазии»[216].
Интриги Геббельса привели к ожидаемым результатам. Хадамовски сначала был вытеснен в Мюнхен, подальше от Берлина, а в 1943 году в числе других партийных функционеров направился в действующую армию, где и погиб в бою.
Следующим беспокойное место в отделе радио занял Дресслер-Андресс, человек опытный, прошедший Первую мировую войну и примкнувший к нацистскому движению с середины 20-х годов. Еще до прихода НСДАП к власти он являлся одним из создателей Молодежной германской организации и командиром молодежной боевой группы. Будучи талантливым журналистом и толковым руководителем, Дресслер-Андресс хорошо зарекомендовал себя как глава политического отдела радио в Имперском руководстве НСДАП. Казалось, этот человек как ни один другой готов к работе в министерстве пропаганды. Однако его сгубило именно наличие большого опыта руководящей работы, поскольку, как он считал, давало ему право на собственное мнение. Начались неизбежные конфликты с Геббельсом, закончившиеся сменой руководства отдела радио. Та же участь постигла позже и преемника Дресслер-Андресса по фамилии Криглер[217]. Следующий руководитель, Берндт[218], поплатился за то, что часто передоверял свои обязанности заместителю, который вскоре и занял его место[219].
Последним главой отдела радио оказался Ганс Фриче, талантливый журналист, исполнявший свои обязанности до мая 1945 года. Поначалу его отношения с Геббельсом складывались непросто, как и у его предшественников. Еще до получения новой должности, будучи руководителем службы внутренней прессы, он не раз вызывал раздражение Геббельса, пытаясь действовать по своему разумению. В частности во время инцидента с Гессом Фриче пытался добиться от Геббельса вразумительной информации для распространения внутри страны. Но Геббельс, избравший тактику замалчивания для ликвидации последствий от скандального перелета, был нем.
«Фриче постоянно терзает меня, требуя больше информации о деле Гесса внутри страны. Я отвергаю это. Эту аферу необходимо систематически замалчивать»[220]. Довольно скоро Фриче научился не задавать лишних вопросов, демонстрируя высокий уровень приспособляемости и большие способности в лавировании.
Скорее всего, он добился бы больших успехов, но не случилось. В мае он был захвачен советскими войсками и в качестве военного преступника привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. Современники были немало удивлены этим фактом.
«Ганс Фриче, сделавший карьеру в качестве радиокомментатора благодаря тому, что его голос напоминал голос Геббельса, который и взял его на службу в министерство пропаганды. Никто из присутствовавших на суде, включая самого Фриче, не мог понять, почему он, будучи слишком мелкой сошкой, там оказался, – и его оправдали»[221].
Однако все объяснялось достаточно просто: на процессе в Нюрнберге[222] обвинители хотели видеть представителя министерства пропаганды, человека изнутри знавшего устройство министерства. Фриче подходил по всем статьям. Он действительно был необыкновенно осведомленным человеком. При этом его знали в Германии все. Вся страна спешила к радиоприемникам, заслышав позывные: «Говорит Ганс Фриче».
Приемники эти, образца 1938 года, стоившие 65 марок, а позже – еще дешевле, производили в огромном количестве. Содержание их обходилось в 2 рейхсмарки ежемесячно. Они обладали неоспоримым преимуществом перед всеми другими моделями, поскольку физически были не в состоянии выловить иностранные передачи. Подобные приемники были и в семьях, и на производстве. Они передавали политические передачи вроде таких, как «Слово предоставляется партии», а также развлекательные – «Веселые минуты на работе и дома» и «Музыка и танцы на предприятии». Они просвещали крестьян, излагая сельскохозяйственные новости, воспитывали молодежь в духе преданности национал-социализму во время «Часа молодежи нации».
Программа передач с течением времени видоизменялась и трансформировалась: все больше было легкой танцевальной музыки, по мере того как положение на фронте становилось все серьезнее. Все реже и реже Геббельсу удавалось уговорить выступить Гитлера. В последние месяцы войны он посвятил этим уговорам немало времени, но вот еще:
«Фюрер обещает мне быстрейшим образом выступить с обращением по радио к немецкому народу. Но, как уже было сказано, он сначала хочет дождаться успешных результатов принятых им на Западном фронте мер. Я несколько сомневаюсь теперь в том, что он действительно намерен выступить в обозримом будущем. У фюрера сейчас появился какой-то совершенно непонятный мне страх перед микрофоном. Хотя он и понимает, что было бы неверно теперь оставить народ без такого обращения, но, к сожалению, служба СД после его недавнего выступления доложила ему, что в народе его речь критиковалась, что он будто бы не сказал ничего существенного нового. А он и действительно не может сообщить народу ничего нового. Уже о чем-то говорит сам факт, что фюрер заявляет о необходимости сообщить в своей речи нечто существенное, а пока у него для этого нет предпосылок. Я возражаю, обращая его внимание на другую сторону дела и указывая, что народ ожидает от него хотя бы какого-то сигнала. Такой сигнал можно было бы дать и в нынешней сложной обстановке. В общем, наша "дуэль" по поводу речи приобретает такой характер, что мне становится просто не под силу убедить фюрера немедленно составить эту речь»[223].
К весне 1945 года, собственно, уже было безразлично, будет Гитлер выступать или нет. К тому времени «народные приемники» отчаявшееся население давно уже переименует в «морды Геббельса». Империя будет трещать по швам, и самая откровенная правда, самая беспардонная ложь, равно как и самая «изысканная» пропаганда уже не будут волновать значительную часть немцев. 1 Мая не станет Геббельса. А 2 мая извлеченный русскими солдатами из подвала Министерства пропаганды Ганс Фриче передаст по радио призыв к немецким войскам берлинского гарнизона прекратить всякое сопротивление.
Мобилизованные СМИ: пропагандистские методы, применяемые средствами массовой информации во время войны
То, что войны могут длиться так долго, что они продолжаются, даже если давно проиграны, объясняется глубочайшей потребностью массы сохранять себя в возбужденном состоянии, не распадаться, оставаться массой.
Хосе Ортега-И-Гассет. Восстание масс
Как уже говорилось, ни Гитлер, ни Геббельс не были теоретиками – разработчиками методов психологического воздействия. Однако оба являлись практиками. Первый, будучи натурой весьма артистичной, обладал великолепно развитой интуицией. Просто чувствовал, что именно надо сказать в данную конкретную минуту. Именно поэтому самое яркое в пропагандистском плане явление – это Гитлер-оратор. Второй, безусловно, обладая талантом и фантастической работоспособностью, опирался скорее на собственный профессионализм, что позволяло ему добиваться результатов вне зависимости от способа донесения информации. Среди применявшихся Геббельсом методов большая часть была великолепно известна и до него, просто мало у кого получалось использовать их так, как это делал он.
Драматический эффект – один из приемов, которому Геббельс был обязан своей славой отличного пропагандиста. Едва вступив в должность министра народного просвещения и пропаганды, 21 марта 1933 года Геббельс потряс немцев грандиознейшим по виду и лицемернейшим по сути действом. Именно на этот день было запланировано открытие новой сессии рейхстага, ставшее наглядной демонстрацией единения НСДАП и старых имперских традиций. Прежде всего большую роль играло то, что церемония проходила в Потсдаме, бывшем долгое время монаршей резиденцией. Так же тщательно, как и город, было выбрано место – церковь, сооруженная над могилой Фридриха Великого. Тщательный выбор места предполагал и тщательный выбор времени – годовщина открытия Бисмарком первого рейхстага. Далее оставалось продумать максимальное количество сочетаний старых и новых традиций в оформлении, чтобы потешить немецкую склонность к сентиментальности и умилостивить представителей самых консервативных кругов Германии. У Геббельса получилось сочетать несочетаемое. Солдаты рейхсвера и штурмовики почтительно вытянулись, когда канцлер Германии А. Гитлер получил от имперского президента Гинденбурга «согласие на возвышение Германии» и возложил цветы на могилу Фридриха Великого. Встретились прошлое и будущее, а над всем этим развевались черно-бело-красный императорский флаг и знамя со свастикой. Впоследствии идея преемственности власти НСДАП будет отражена и графически – появятся плакаты с тремя профилями, расположенными так, как в СССР любили изображать Маркса, Энгельса и Ленина: Фридрих Великий, Гинденбург и Гитлер.
Среди акций, спланированных Геббельсом и имевших ярко выраженный постановочный эффект, нельзя не назвать также сожжение книг нежелательных авторов, проходившее в Берлине перед Оперным театром 10 мая. Геббельс вообще очень любил открытый огонь, так как с ним мало что могло сравниться по степени выразительности. Отблески языков пламени ложились на лицо Геббельса, монотонно произносившего однообразные формулировки: «Приговаривается к сожжению книга…» Такие зрелищные акции благосклонно воспринимались населением Германии. Но «мирные» развлечения длились недолго, надвигалась война, а с нею и новые «зрелища».
Что ни говори, самый лучший метод военной пропаганды – это освещение военных успехов. Именно на этой непреложной истине базировалась методика подачи материала в начале войны. Конечно, было бы наивно утверждать, что типичный выпуск, скажем, «Вохеншау» в начале войны сосредотачивался лишь на одном-единственном методе; конечно, нет. Но все же наглядная демонстрация успешности военной кампании являлась определяющей при подаче информации. Каждый выпуск представлял собой материал, состоявший из кадров, отснятых специальными подразделениями пропаганды, и того, что удалось позаимствовать у противника. Почти в каждом фильме специально подчеркивалось наличие трофейного материала, что само по себе выполняло пропагандистскую функцию.
Взять, например, 1940 год, один из самых удачных для немецкого оружия. Одна из задач, которая была поставлена перед Западной армией в этот период, – захват Голландии и Бельгии. Эту операцию предполагалось осуществить в результате внезапного удара, разгрома левого крыла противника и поворота на юг с одновременным нанесением ударов по северному крылу фронта французов. В этом случае, несмотря на наличие перед ними линии Мажино, перешел бы в наступление южный участок немецкого фронта. Главный удар должна была наносить группа армий фон Бока. Особую проблему для наступающих представляла собой бельгийская крепость Льеж. Многочисленные форты, окружавшие Льеж, придавали ему исключительную неприступность. Среди всех фортов самым сильным был северный форт Эбен-Эмаель, прикрывавший своими орудиями большой участок канала Альберта. Если Льеж можно было обойти, то форт Эбен-Эмаель, блокирующий пути продвижения, нужно было взять во что бы то ни стало. Для овладения им был подготовлен специальный воздушный десант, который должен был высадиться в форте с планеров в тот момент, когда наступающие войска перейдут границу. Саперы, высаженные вместе с десантом внутри форта, должны были взорвать огневые сооружения. Предварительно их довольно долго тренировали на специально построенном макете. Одновременно группа парашютистов должна была захватить мост, а пикирующие бомбардировщики – совершить налет, чтобы не дать бельгийцам мост взорвать.
Вот как выглядели фрагменты этой операции в зеркале «Вохеншау».
Задумчивый немецкий летчик разглядывает географическую карту. Монтажный переход – и вместо карты возникает реальное изображение местности. Под бравурную музыку немецкие войска форсируют водные преграды.
Появляется закадровый голос: «Солдаты Западного фронта, 10 мая 1940 года наступил решающий час схватки за будущее немецкой нации. У немцев нет ненависти к английскому или французскому народу. Но сегодня встал вопрос о жизни и смерти. Многомесячная подготовка завершилась. Англия и Франция пытаются развернуть крупномасштабное наступление через Голландию и Бельгию по направлению к Рурской области. Солдаты Западного фронта, такими они вступают в этот решающий час». На экране возникают лица солдат. Очень долго и крупным планом показывают солдата внешне необыкновенно похожего на министра пропаганды. «Начинающаяся сегодня борьба определит судьбу немецкого народа на ближайшие тысячелетия. Немецкое командование получило сведения, что мощные силы противника – французские и английские дивизии при участии голландского и бельгийского правительств – концентрируются под Лиллем. Они получили приказ открыть крупномасштабное наступление на нашу страну через Рурскую область. Шлагбаум на бельгийской границе открывается для прохождения сил западных армий». Под французскую музыку демонстрируются угрожающие кадры: марширующие французские части. Сразу следом, – кадры с марширующими англичанами, соответственно под звуки английской музыки.
«Летящие над бельгийскими дорогами и голландскими каналами десантники первыми начинают наступление. Немецкие солдаты выступают единым фронтом». Параллельно тому, что говорится, идет демонстрация уличных боев. Несколько секунд показывают немецкого солдата, склонившегося над телом павшего товарища. На этом лирическое отступление завершено. Далее снова кадры военной хроники. «Одно из самых мощных укреплений противника форт Эбен Эмаель. Командование противника надеется на 100 000 своих солдат. Наши воздушные силы наносят удар». На экране появляются немецкие солдаты, штурмующие форт. «11 Мая Эбен Эмаль капитулировал. При штурме погибло несколько немецких солдат. Их гибель – выкуп за свободу… Крепости Голландии вынуждены сдаваться одна за другой. Голландия капитулирует. Цель достигнута. Наступление на Рурскую область остановлено»[224].
Военные успехи действительно красноречивы сами по себе. Задача пропагандиста в этом случае заключается лишь в передаче информации. Можно усилить драматический эффект за счет преувеличения вражеских потерь либо добиться того же самого, приводя цифры, «накопившиеся» за определенный срок. Поэтому, когда настал период освещения военных действий против СССР, никто не стал изобретать велосипед, используя поначалу опробованную методику.
«К июлю 1941 года, после удара немецких войск, у врага – более 100 000 убитых, более 400 000 раненых, уничтожено 7615 танков и боевых машин, 6233 самолета… Маловероятно, что советская власть опомнится от такого ужасающего удара» [225].
Наглядность и простота, – вот каков был самый востребованный на тот момент способ подачи информации. Как ни странно, но если убрать техническое оснащение, то данный метод в психологическом плане можно будет отнести к одному из самых древних. Цари древности сооружали пирамиды из отрубленных голов, переправляли на родину отрубленные части вражеских тел – все это должно было устрашить противника и продемонстрировать «тылу», что война идет по плану.
Именно в немирные времена особенно заметно, что идущий семимильными шагами прогресс меняет лишь какие-то внешние проявления в человеке.
Исторические аналогии. Пропагандисты Третьего рейха в силу мировоззренческой позиции своего фюрера вообще то и дело вынуждены были обращаться к историческим примерам: то для обоснования избранности германцев, то для доказательства злокозненности мирового еврейства. Во время войны необходимость в подобном погружении в глубины истории возникала, как правило, тогда, когда положение на фронте складывалось не лучшим образом. К чему еще апеллировать в безнадежной ситуации, как не к героическому прошлому своего народа? Если происходящее беспримерно, то подойдут и другие исторические либо мифологические аналогии.
После того как ситуация с немецкой армией, запертой в Сталинградском котле, потребовала отклика немецких средств массовой информации, то, в частности, ими была растиражирована речь Геринга, в которой он сравнивал гибнущих солдат с нибелунгами: «Они тоже стояли в зале, полном огня, полыхавшем от пожара, утоляя жажду собственной кровью. Они стояли до последнего»[226].
Позже в газетах будет приведен еще один исторический пример: противник смог победить лишь благодаря численному превосходству, так же как в свое время персы буквально смяли при Фермопилах маленький отряд из трехсот спартанцев во главе с царем Леонидом.
В самом конце войны, когда потребовались факты, имевшие мировое значение, Геббельс писал в своих дневниках: «Фюрер дал мне указание опубликовать в немецкой печати подробные рассказы о Пунической войне. Пуническая война наряду с Семилетней – это тот великий пример, которому мы пока можем и должны следовать. Собственно говоря, она еще больше подходит к нашему положению, чем Семилетняя война, так как в Пунической войне речь шла более о всемирно-историческом решении, последствия которого сказывались на протяжении нескольких столетий. Да и столкновение между Римом и Карфагеном, в точности как нынешнее из-за Европы, было решено не в ходе одной войны, и то, кто будет руководить античным миром – Рим или Карфаген, – зависело от храбрости римского народа и от его руководства».
Замалчивание с целью выжидания. Когда нечего сказать, то достаточно выдержать длинную паузу, и может так случиться, что говорить уже ничего и не придется, поскольку потрясшая всех новость очень быстро перестанет быть актуальной. В мае 1941 года весь мир был потрясен неожиданным перелетом заместителя Гитлера по партии Гесса в Англию с целью заключения мира между двумя германскими народами. Это был удар так удар! Мартин Борман – рейхсляйтер, руководитель партийной канцелярии фюрера – оперативно создал версию, будто Гесс был сумасшедшим. Более того, он уговорил Гитлера озвучить эту версию в первом официальном сообщении по делу Гесса. Шеф прессы Отто Дитрих подхватил данное заявление и растиражировал его.
«Видимо, член партии Гесс жил в мире галлюцинаций, в результате чего он возомнил, что способен найти взаимопонимание между Англией и Германией… Национал-социалистическая партия считает, что он пал жертвой умопомешательства. И таким образом, его поступок не оказывает никакого воздействия на продолжение войны, к которой Германию вынудили»[227]. Подобное опрометчивое заявление дало возможность Геббельсу вволю негодовать и удивляться непроходимой тупости своего вечного конкурента: «Какая картина для всего мира: душевнобольной является вторым после фюрера человеком! Такое даже помыслить и то невозможно». Полностью «размазав» Дитриха, Геббельс берет освещение вопроса в собственные руки: «Даю указание прессе и радио опубликовать это сообщение без всякого комментария. А затем выждать, какова будет реакция. Лондон сразу даст о себе знать, а мы не останемся в долгу со своим ответом». Далее Геббельс развивает бурную деятельность: «Я приказываю немедленно вырезать кадры с его (Гесса) изображением из еженедельного киножурнала». Затем он успокаивает гауляйтеров и рейхсляйтеров, которые совершенно растерялись, не зная какую версию тиражировать в местных средствах массовой информации, и потому бросились обрывать телефоны, дозваниваясь до Министерства пропаганды. 14 мая 1941 года, на следующий день после того, как до него дошла сенсационная новость, Геббельс провел в министерстве совещание. Его итогом было указание: «Пока – абсолютное молчание. Не слушать никаких слухов». 15 мая, – по-прежнему молчание. «Даю прессе и радио приказ энергично писать и сообщать о всяких других вещах и делать вид, будто ничего не произошло». Геббельс напрасно ждал реакции Лондона – там тоже решили молчать. Подобное не входило в расчеты министра пропаганды! Он полон злобы, обвиняет Лондон в некомпетентности: «Лондон хитро выжидает со своим официальным сообщением и дает полный простор для лживых измышлений. Будь я английским министром пропаганды, я бы извлек из этого гораздо больше».
Молчание затянулось. Больше всего Геббельс боялся, как бы в Лондоне не додумались до «самой собой напрашивающейся махинации»: делать заявления от имени Гесса. Его страхи оказались небеспочвенными. 15 мая в дневнике Геббельса появятся полные паники строки: «Теперь я уже несколько отстраненно читаю ужасные сообщения из Лондона. Эту чудовищную смесь лжи, скандалов и правды. Беднягу Гесса используют там таким образом, что это не поддается описанию. Его детская наивность наносит нам такой ущерб, который даже трудно себе представить. Постепенно англичане наконец догадались, что от его имени можно фабриковать самую невероятную ложь. Он, конечно, мог бы заранее об этом подумать, но теперь он совершенно беззащитен. Большую часть всего этого он никогда не узнает. Настоящая трагедия. Я постоянно работаю над опровержениями, но если это будет продолжаться, то мы будем вынуждены заговорить». 16 мая Черчилль сообщает в палате общин об инциденте с Гессом. Его называют убийцей и умалишенным. Тоже, конечно, не сахар, но больше всего Геббельс страшился, что заявления якобы от имени Гесса «поставят на поток»: «Это была бы для нас единственная, но страшная опасность. Я дрожу от страха, что это может случиться. Но, кажется, ангел-хранитель снова оберегает нас. Мы имеем дело с отпетыми дилетантами… Слухи начинают затихать. Повсюду царит состояние отрезвления. Я запретил транслировать сообщения, предназначенные для распространения в стране, а для зарубежья сообщаем одни лишь факты. Эта тактика оказалась правильной». 17 мая министр пропаганды понимает, что гроза, кажется, пронеслась: «Вчера: инцидент с Гессом затихает. У Лондона и Вашингтона другие заботы. Что сделал бы я из этой истории! Но руководящий слой Англии, право, созрел для своего свержения». 19 мая Геббельс уже прямо заявляет, что политика замалчивания дала свои плоды: «Мировое общественное мнение едино в том, что пропагандистскую кампанию вокруг Гесса выиграли мы. Я в этом никогда не сомневался, но что все пойдет так быстро, и не предполагал»[228].
Использование придуманной терминологии. Еще до начала войны Геббельс активно использовал этот метод, либо подменяя термины, либо создавая новые взамен существующих. Так, все недовольные режимом получали ярлык: Kritikaster. Данным придуманным термином обозначались всем недовольные люди, которые пальцем о палец не ударят для того, чтобы помочь своей стране. Слово оказалось настолько емким и выразительным, что вошло в обыденную речь того времени для обозначения личностей брюзгливых и при этом безынициативных.
Во время войны потребность в искусственной терминологии возросла. Стали возникать ситуации, когда соответствующие явлениям названия не указывались напрямую, поскольку это было бы равносильно признанию поражения. В 1943 году, когда дела немецкой армии на Восточном фронте стали далеки от идеальных, для существовавшего положения был найден термин: «эластичный фронт». Он был широко растиражирован, поскольку не содержал в себе негативной информации в отличие от равнозначного «временного отступления».
Геббельс вообще старался очень аккуратно относиться к терминологии; видимо, сказывалось то, что когда-то он занимался наукой. От своих подчиненных он требовал подобной же аккуратности или даже, можно сказать, осторожности. В немецких печатных изданиях времен Второй мировой войны, невозможно найти слова «солдат» для обозначения русского противника. Обозначения: «русские», «советские» и «иваны» попадаются достаточно часто, а вот слово «солдат» отсутствует. Дело в том, что в Третьем рейхе понятию «солдат» придавался едва ли не сакральный смысл. Солдат, – это тот, кто в первую очередь должен был являться носителем национал-социалистической идеологии. Соответственно, даже союзники относились ко второму сорту. В воспоминаниях бывшего офицера вермахта командира саперного батальона майора Гельмута Бельца можно найти полные горечи слова, характеризующие подобное положение вещей:
«Мы, немцы, – венец творения и господа всего сущего, мы одни – хорошие солдаты, мы – все и вся! А другие зачем существуют? Для спокойных участков фронта, для затычки брешей, как фарш для котлет. Для этого они сгодятся! Да, нам они как раз кстати. Вместо снарядов больших калибров подкинем-ка пять-шесть рыцарских крестов их командирам, опубликуем в газетах фотографии с длинными комментариями – все это, конечно, для них весьма привлекательно»[229].
Несмотря на то что писавшим двигали возмущение и гнев, сказанное им объективно. То, что именно немецкий солдат – истинный солдат, внушалось постоянно. То, что союзники воюют хуже, – подразумевалось, но не афишировалось. И наконец, противник вообще не удостаивался подобного обозначения, поскольку не обладал необходимым набором качеств.
Использование музыкального сопровождения для усиления драматического эффекта. Здесь уместно будет вспомнить, что воздействие на человека усиливается многократно, если оно направлено на несколько органов чувств одновременно. Работая над каждым из выпусков «Вохеншау», Геббельс всегда старался, чтобы изображению соответствовало звуковое сопровождение, дополнявшее образ, возникающий на экране:
«Вечером новый выпуск "Вохеншау". Предстоит много работы по монтажу и музыкальному оформлению. Зато потом он обретет литые формы, станет настоящим шедевром кинохроники».
Кадры с марширующими немецкими солдатами, как правило, традиционно сопровождались бравурными маршами, придававшими военным действиям на экране цельность и даже некоторую праздничность.
Важные сообщения по радио тоже не обходились без подходящего озвучивания и сопровождались, например, звуками фанфар. Историк Курт Рисе пишет, как трепетно Геббельс относился к тому, как, где, с какими промежутками должны они звучать. С хронометром в руках он подсчитывал, сколько времени понадобится матери семейства, чтобы подойти к радиоприемнику с кухни. А сколько времени понадобится ей, чтобы собрать вокруг приемника детей и мужа? Сколько раз надо давать позывные: один раз, а может, два или три?
Так же лично Геббельс проверял и то, как будут звучать фанфары перед передачей, возвещающей начало войны с СССР. «Между тем я испытываю новые фанфары для радиопередач. Это очень подходит к обстановке… На этот раз фанфары будут возвещать об особой важности радиопередачи. Они прозвучат вступлением к речи Гитлера, который оповестит мир о начале новой войны»[230].
Геббельс знал, что делал. Можно, конечно, иронически отнестись к картине Пауля Падуа, написанной в 1939 году и изображавшей немецкое семейство, рассевшееся под радиоприемником, с тем чтобы, затаив дыхание, слушать речь Гитлера. Оставлены дела, дети забросили игрушки, а на все это взирает с портрета фюрер. Но ведь именно так и слушали!
А коль скоро радио – одно из самых популярных средств массовой информации, то важна любая мелочь.
Создание ощущения сопричастности и общности. На чувстве общности и противопоставлении себя другим, собственно, строилась вся идеология национал-социализма: «мы против них». Именно поэтому создание особого состояния единения являлось одним из излюбленных приемов в средствах массовой информации. Особенно актуальным стал данный способ во время ведения боевых действий. Бывало, что для усиления пропагандистского эффекта использовался попутно или в качестве самостоятельного еще один метод: обратная связь. Именно в этом случае достигался максимальный результат, поскольку идея единения находила соответствующее подтверждение. Одним из самых выразительных примеров в данном случае можно считать радио-мост, организованный на Рождество, 24 декабря 1942 года. В данном случае особо циничным выглядело то, что в этой акции участвовала и находящаяся в окружении под Сталинградом 6-я армия, командование которой 30 декабря будет поставлено в известность о том, что деблокирование не представляется возможным. Солдатам поступит приказ держаться до середины февраля своими силами, в надежде на то, что ситуация нормализуется. Солдатам продемонстрировали, что они – часть великой нации, после чего их бросили на произвол судьбы.
«Внимание всем! Еще раз под впечатлением тех часов, которые мы вместе пережили, наши товарищи, находящиеся на дальних рубежах, засвидетельствуют в этой передаче своими откликами наше единство…
– Внимание, я вызываю еще раз Сталинград!
– Здесь Сталинград! Здесь фронт на Волге!
– Еще раз фронт в Лапландии!
– Здесь Лапландский фронт, в финском зимнем лесу…
– Внимание, еще раз Кавказский фронт!
– Докладывает фронт на Кавказе!
– Внимание, экипажи подводных лодок в Атлантике!
– Здесь центр по координации подводных лодок в Атлантике…
А теперь мы вас просим, друзья, исполнить совместно красивую старую немецкую рождественскую песню "Тихая ночь, святая ночь". (Звучит песня).
Благодаря этому спонтанному желанию наших товарищей, находящихся далеко от нас, мы связали воедино все станции. Теперь наши воины поют у Ледовитого океана, в Финляндии, теперь они поют и под Ржевом, а теперь мы подключаем все остальные станции: Ленинград, Сталинград, а теперь к нам присоединяется и Франция… Вот присоединилась Африка. Теперь все поют вместе, все поют с нами вместе в эти минуты старинную немецкую рождественскую песню»[231].
Нарочито примитивное изложение. То, что пропаганда должна быть доступна, постоянно подчеркивалось и Гитлером, и Геббельсом. Если в том была необходимость, то она могла стать не просто доступной, но откровенно примитивной. Именно интеллектуал Геббельс высказал мысль, что худший враг любой пропаганды – интеллектуализм. Потребность в примитивном изложении фактов появлялась, как правило, в том случае, когда надо было донести до аудитории достаточно ограниченный объем важной информации.
Так, например, после начала Второй мировой войны, Геббельс столкнулся с серьезной проблемой: немцы слушали не только составленные для них Министерством пропаганды радиопередачи, но и стали проявлять повышенный интерес к передачам английским. Репрессивные меры помогали, хотя и не слишком. Лишь за первый год войны 1500 немцев, уличенных в прослушивании враждебного радио, были отправлены в лагеря, тюрьмы и на исправительные работы.
Подобные меры были направлены против явных нарушителей. А сколько было тех, кто пребывал в сомнениях, боясь наказания и в то же время желая услышать английские новости, чтобы составить собственное мнение о том, что происходит на самом деле.
Вот против таких сомневающихся и были направлены простенькие скетчи, цель которых заключалася в том, чтобы убедить обывателей, что наказание неотвратимо, что англичане лгут, а разовое прослушивание иностранных передач – тоже предательство. В диалогах двух персонажей – правильного Людвига Шмитца и простоватого Юппа Хассельса – мысль о противоправности и непатриотичности подобных действий доносилась в необыкновенно доходчивой форме[232]:
Ю.: Мне больше никто не говорит правду Теперь я все узнаю из первых источников. Возможно, я могу разок… время от времени послушать иностранные передачи.
Л.: Как, ты хочешь послушать иностранные передачи?
Ю.: Ага, иностранные новости. К примеру, Лондон.
Л.: Лондон?!
Ю.: Да, Лондон! Ты не можешь подсказать, как я могу поймать радиостанцию?
Л.: Я не знаю как тебе поймать Лондон, но я твердо знаю, куда тебя посадят, если ты поймаешь Лондон.
Ю.: И куда же меня посадят?
Л.: В кутузку!
Ю.: Ха-ха, в кутузку!
Л.: Возможно, даже в тюрьму!
Ю.: Как, если этого даже никто не заметит?
Л.: Заметит или не заметит, это не играет никакой роли. Хороший немец так не поступает!
Ю.: Да, но надо же сориентироваться, когда все это закончится!
Л.: Конечно, в иностранных передачах говорят чистую правду, не так ли?
Ю.: Понятное дело!
Л.: Нда, понятно. Ты, тупица, неужели ты никогда не слышал о системе, которую используют наши враги при подаче новостей?
Ю.: Да, но…
Л.: Видно никогда, потому как в противном случае ты бы знал, что все у них нацелено на то, чтобы ослабить нашу обороноспособность!
Ю.: О, Боже мой, я уже достаточно взрослый, чтобы отличить, когда говорят правду, а когда нет. Пойду-ка я, пожалуй.
Голос радиокомментатора: «…за прослушивание вражеских передач был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения».
Л.: Смотри-ка, что я говорил! Ха-ха!
Правило Сократа. Следующий метод, как понятно из названия, был известен с глубокой древности. Издавна люди знали, что «он работает», и только сейчас смогли объяснить причину этого. Само правило гласит, что с целью получения положительного решения в важном для вас вопросе следует поставить главный вопрос на третье место, предпослав ему два других, на которые собеседник ответит вам «да». Только современные исследования показали, в чем же секрет действенности правила Сократа. Психологи-практики утверждают, что дело тут в особенностях нашей гормональной системы. «Когда мы говорим „да“, это означает наше согласие, а вместе с ним – осознание того, что в ближайшее время противостояния с собеседником не предполагается. Наш организм, ориентированный на экономное расходование сил, сразу расслабляется, что осуществляется посредством выделения в кровь эндорфинов (гормонов удовольствия)»[233]. Геббельс ничего не знал об эндорфинах, но интуитивно чувствовал, что толпа, несколько раз подряд сказавшая: «да», уже не способна сказать: «нет». В качестве примера наиболее уместно будет вспомнить принцип, по которому строилась знаменитая речь Геббельса, произнесенная в Шпортпаласте 14 февраля 1943 года и ознаменовавшая собой начало тотальной войны:
«Итак, вы, мои слушатели, представляете здесь в данный момент всю нацию. Поэтому я хотел бы задать вам десять вопросов, на которые я прошу вас ответить от лица германского народа и перед лицом всего мира, учитывая и то, что наши враги слушают нас сейчас по радио.
Первое: англичане утверждают, что германский народ утратил веру в победу. Я спрашиваю вас: верите ли вы вместе с фюрером и нами в полную и окончательную победу германского народа? Готовы ли вы следовать за фюрером через все испытания в борьбе за победу и выносить даже самые тяжелые личные тяготы?
– Да!
Второе: англичане утверждают, что германский народ устал от борьбы.
Я спрашиваю: готовы ли вы под руководством фюрера составить крепкий тыл и поддержать вооруженные силы для продолжения борьбы, с полной решимостью и невзирая на все превратности судьбы, до тех пор, пока победа окажется в наших руках?
– Да-да!
Третье: англичане говорят, что германский народ не желает больше нести растущее бремя военных работ, требуемых от него правительством.
Я спрашиваю: готовы ли вы, как и все немцы, работать по приказу фюрера десять, двенадцать, а если необходимо – то четырнадцать и шестнадцать часов в день и отдать все, что у вас есть, ради нашей победы»?[234]
Дальше можно не продолжать, оставшиеся семь вопросов построены по такому же принципу Толпа в Шпортпаласте, состоявшая из «верных», скандировала «да» в ответ на каждое обращение: «Да, фюрер, мы следуем за тобой». Тем, кто слышал радиотрансляцию, тоже нелегко было сохранить трезвость мысли, поскольку «да», выкрикиваемое в едином порыве, воистину звучало как голос нации.
Создание истерии. Геббельс сам был потрясен тем эффектом, который вызвало его выступление в Шпортпаласте. Казалось, прикажи он этим людям совершить нечто немыслимое – и они откликнутся на его призыв, не усомнившись ни на минуту. Подобный успех надо было развить, выжать из него все, что можно в пропагандистском плане. Газеты еще долго изощрялись в придумывании заголовков, чтобы полнее отразить готовность нации к величайшим жертвам во имя победы: «Скорее мы попросим большего для закрепления победы, чем меньшего», «Да-да-да!», «Доктор Геббельс подал сигнал – нация последует!», «Десять вопросов – народный опрос. Представители всех слоев дали вчера свой решительный ответ!», «Доктор Геббельс в берлинском Шпортпаласте – нация, поднимись! Тотальная война – заповедь времени!», «Доктор Геббельс показал, в какое серьезное время мы живем. Воля всей нации – победа!», «Наши сердца дрогнули!». Массовая демонстрация фанатической воли к победе в Шпортпаласте!», «Тотальная война – тотальная победа. Фанатичное согласие с десятью вопросами доктора Геббельса!»[235]. Объясняя, что происходило с людьми во время прослушивания речей Геббельса, уместно будет вновь обратиться к трудам такого признанного авторитета в области социальной психологии, как Гюстав Лебон. В частности, он писал о мощнейшем факторе, превращающем поведение толпы в нечто полностью иррациональное. Речь идет о «заразе»: «В толпе идеи, чувства, эмоции, верования – все получает такую же могущественную силу заразы, какой обладают некоторые микробы. Это явление вполне естественное, и его можно наблюдать даже у животных, когда они находятся в стаде. Паника, например, или какое-нибудь беспорядочное движение нескольких баранов быстро распространяется на целое стадо. В толпе все эмоции точно так же быстро становятся заразительными… Умственные расстройства, например безумие, также обладают заразительностью»[236]. Можно сказать, что выступление в Шпортпаласте спровоцировало подобную бурную реакцию из-за того, что люди «подзаряжались» друг от друга. Фактор скученности, безусловно, благоприятен для пропагандиста, однако для распространения заразы вовсе не обязательно собирать толпы в одном зале, достаточно лишь сориентировать, пускай на расстоянии, мысль в нужном направлении.
«Держи вора». Этот метод был основан на отвлечении внимания общественности от каких-то нелицеприятных дел указанием на то, что другие грешны так же, если не больше. Несмотря на то что солидная часть опрошенных после войны немцев утверждала, что они не подозревали ни об убийстве евреев, ни об уничтожении психически больных, очевидно, что они лукавили. Безусловно, люди знали или подозревали о многом. Значительная часть из них, не полностью пропитанная националистической пропагандой, вполне могла негласно не одобрять подобных методов.
Поэтому так кстати пришлась страшная находка в Катыни. 13 апреля 1943 года берлинское радио сообщило о судьбе десяти тысяч расстрелянных большевиками польских офицеров. Казалось, в этот раз мир должен был по-настоящему содрогнуться. Были установлены личности многих погибших. Благодаря уликам выяснили, что поляков расстреляли в
1940 году, а немцы оказались в этом районе лишь в 1941-м. Был проведен химический анализ найденных останков. Геббельс лично проследил, чтобы на место были направлены многочисленные наблюдатели, в том числе и из нейтральных стран. Однако ожидаемого эффекта не получилось. Благодаря пропагандистской работе, проводимой Геббельсом с 1941 года, ничего другого немецкое население от Сталина не ожидало.
Воздействие на взрослую аудиторию через детскую. Идеологическое воздействие на детей в Германии было ничуть не меньшим, чем на взрослых. Буквально с первых лет жизни маленькие немцы сталкивались с «правильными» игрушками. Свастики украшали кукольные сервизы и обои игрушечных домиков, появлялись в задачниках для самых маленьких и на иллюстрациях в букварях. Не было обойдено вниманием и такое любимое всеми детьми мира явление, как мультипликация. Однако адресное воздействие в данном случае вовсе не настолько очевидное, как может показаться. То, что раньше не принято было снимать мультфильмы для взрослых, вовсе не означало, что взрослые не смотрели их. Просто они это делали со своими детьми. Соответственно, вполне объяснимой становилась логика тех, кто насыщал простенькие детские мультипликационные фильмы совсем недетскими деталями.
Так, после нападения Германии на Польшу студия «Бавария» на волне патриотических настроений выпустила мультфильм «Нарушитель мира» режиссера Ханса Хеда, отличавшийся необыкновенным сходством с «Вохеншау» – и детям посмотреть интересно, и взрослым повторить не вредно. В мирный лес, где проживают ежи да зайцы, вдруг проникает лиса. Лисе необходимо дать отпор. Кто же это сделает? Может, длинноногий заяц? Но заяц, который поначалу был готов идти в бой и даже вооружился доской от забора, оказался плохим бойцом. Он убегает от лисы и получает трепку от своей зайчихи. То ли дело подразделение ежей, всегда готовое к военным действиям! С воздуха ежей прикрывают пчелы. Они летят, показывая фигуры высшего пилотажа, хитрым образом превращают собственные жала в пулеметы, при этом общаются друг с другом исключительно посредством узнаваемой жестикуляции летчиков люфтваффе. Скоординировав свои действия, они заходят для бомбометания. Где-то внизу съежилась полностью деморализованная лиса. Заяц раскаивается, звери ликуют. Вот такой детский мультик!
Создание мифов. Выше уже говорилось о том, какое огромное значение отводил Геббельс мифологизации отдельных людей, событий и явлений. К сожалению, он оказался полностью прав в своей убежденности: мифы намного более живучи, чем реальная история, иначе у национал-социализма не было бы сторонников сегодня.
В последние месяцы войны мифотворчество, казалось, обрело второе дыхание. Вот как описывает создатель мифов с противоположной стороны Илья Эренбург свою встречу с одним из порождений Геббельса после войны: «Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции "вервольфов"; я спросил капитана, занятого пропагандой среди войск противника и, следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое "вервольф"; он ответил: "Фамилия генерала; кажется, он сражался в Ливии…" Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал: "В древних германских сагах вервольф обладает сверхъестественной силой, он облачен в волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое". В Растенбурге я нашел школьную тетрадку, какой-то мальчик написал: "Клянусь быть вервольфом и убивать русских!"»[237]
Что же это были за «вервольфы», неизвестные русскому офицеру, но зато отлично известные любому жителю Германии, кто хоть изредка слушал радио? В данном случае имелись в виду ополченческие подразделения, созданные в последние дни войны. Наивно было бы рассчитывать, что подростки и пожилые люди, прошедшие краткий курс боевой подготовки, способны оказать серьезное сопротивление наступающим войскам.
Геббельс был совсем не так глуп, чтобы ожидать каких-то серьезных военных результатов. Помимо всего прочего, идея создания «Вервольфа» принадлежала руководителю Германского трудового фронта Роберту Лею, к которому министр пропаганды не испытывал ничего, кроме презрения. Однако идея Лея получила поддержку фюрера. Перед Геббельсом была поставлена задача распропагандировать движение, которого еще не было и в помине. Ну что ж, эта задача была не сложнее тех, что он решал раньше.
«Я сейчас занят делом, связанным с организацией радиостанции для нашей акции "Вервольф". Ею будет руководить Слезина, который приобрел на этом поприще немалый опыт еще во времена сражения в Саарской области. Прюцман[238], занимавшийся подготовкой самой организации «Вервольф», сделал пока не очень много. Мне кажется, что дело у него движется слишком уж вяло. Он жалуется на то, что население в захваченных противником западных немецких областях все еще ведет себя пассивно и настроено против партии, однако это вовсе не причина, чтобы выполнять свою работу столь медленно. Сейчас здесь нужно быть очень энергичным. Я рассчитываю дать всему делу мощный импульс с помощью пропаганды, которую мы развернем, используя создаваемую нами новую радиостанцию «Вервольф»»[239].
Радиостанция, вещавшая якобы откуда-то с оккупированных территорий, была создана достаточно
оперативно. А дальше на немцев обрушились трогательные рассказы о посильных подвигах женщин и детей. Параллельно с радиопередачами на улицах стали обнаруживаться листовки угрожающего содержания:
«Мы покараем каждого изменника и его семью. Наша месть будет смертельной!»[240]
Обычно в основе мифа лежит какое-то реальное событие, в данном случае все произошло с точностью до наоборот: миф стал основой реальности. Наслушавшись про подвиги несуществующей организации, немецкие подростки стали совершать действия, способные, по их мнению, переломить ход войны. Судя по воспоминаниям, они до последнего не теряли надежду, что их «детский крестовый поход» окажется более удачным, чем военные действия, ведущиеся регулярными войсками:
«Трудоемкая работа, заключавшаяся в копании траншей, была основной нашей деятельностью в период от четырнадцати до семнадцати лет. Это считалось уроком на выносливость, чтобы сделать из нас настоящих мужчин. Победа несомненно должна была быть за нами. Вера в непобедимость немецкого народа являлась неотъемлемой частью нашей жизни. Тот факт, что русские перешли границу на востоке нашей страны, нисколько не тревожил нас. Как и первые распространившиеся слухи о близком конце»[241].
Вера в чудо. Обращение к тайным знаниям, ко всему чудесному и необъяснимому как нельзя более устраивало Министерство пропаганды.
Этот метод действовал не на всех, но «радиус поражения» увеличивался, если призыв верить в чудо поддерживался крупным авторитетом.
Например, в 1940 году в геббельсовском министерстве решили использовать туманные предсказания Нострадамуса. По мысли Геббельса, средневековый провидец невольно должен был содействовать успеху начатой по приказу Геринга воздушной операции «Атака орла». В пропаганде, направленной в основном на население Англии, использовались следующие строки: «Альбион, когда гора извергнется с неба… придет твой последний час»[242]. «Извергающаяся гора» была объявлена иносказательным обозначением германских люфтваффе, и слух о предрешенном исходе операции обрел жизнь. Это не помешало англичанам успешно противостоять налетам и сорвать операцию люфтваффе, а Геббельсу оставалось утешаться мыслью, что уж на своем-то поприще он сделал все, что мог.
В самом конце войны, когда надеяться нацистским руководителям было, собственно, не на что, упование на чудо стало, пожалуй, одним из самых часто употребляемых пропагандистских приемов.
Так уж устроен человек, что каким бы рационалистическим складом ума он ни обладал, в критических ситуациях он зачастую предпочитает надеяться на лучшее даже в ущерб своему рационализму. Вот как описывают очевидцы проявления этой парадоксальной веры: «В последние дни нашего бегства и вообще войны мы наткнулись у околицы одного верхнебаварского села у реки Айхах на группу людей, рывших одиночные окопы. Рядом с землекопами собрались зрители – инвалиды этой войны в гражданском, однорукие и одноногие, и седые мужчины преклонного возраста. Шел оживленный разговор; ясно было, что это люди из фольксштурма, задача которых заключалась в стрельбе фауст-патронами по наступавшим боевым машинам. В эти дни, когда все рушилось, я не раз слышал высказывания, в которых звучала абсолютная уверенность в победе, напоминавшая веру в чудо».
Пробуждая иллюзорную надежду у населения Германии, Геббельс опирался на тот самый образ непогрешимого и всезнающего фюрера, который он создал еще в первые годы своей работы. Он надеялся, что население все еще помнит о том, что фюрер ошибаться не может. А раз так, то любое заявление от его имени будет раз за разом вызывать всплески энтузиазма:
«Фюрер сказал, что уже в этом году судьба переменится и удача снова будет сопутствовать нам… Подлинный гений всегда предчувствует и может предсказать грядущую перемену. Фюрер точно знает час, когда это произойдет. Судьба послала нам этого человека, чтобы мы в годину великих внешних и внутренних испытаний могли стать свидетелями чуда»[243].
13 апреля 1945 года, когда всякая объективная надежда на победу давно умерла, выяснилось, что скончался Рузвельт. Случившееся произвело сильнейшее впечатление на министра пропаганды, который вслед за своим фюрером каждый день погружался в область иррационального. Он связался с Гитлером по телефону, чтобы поделиться с ним своей радостью и своей верой:
«Мой фюрер, поздравляю вас, Рузвельт мертв! Судьба убрала с вашего пути величайшего врага! Бог нас не забыл! Чудо свершилось! Это похоже на смерть русской царицы во время Семилетней войны. Не зря предсказывали звезды, что во второй половине апреля нас ждет полная перемена событий! Сегодня пятница, 13 апреля, и этот день стал поворотным в истории!»[244]
Примеры того, как оказывалось психологическое воздействие на гражданское население Германии и на военных, можно было бы приводить бесконечно. В ход шло все: от игры на инстинктах до использования патриотических устремлений. Но об этом не рассказать и в двух книгах. Патриотизм, – это та кнопка, на которую Геббельс давил, не переставая. Старая циничная шутка о том, что государство называет себя родиной, когда ему что-то от тебя надо, оказалась актуальной и для данного народа, и для данного периода человеческой истории.
Заключение
Странное впечатление производят последние записи Й. Геббельса. В них – описание военного положения, сведения о кадровых перестановках. Все, кроме осознания бессмысленности всяких действий. Все дневники, которые он вел ежедневно, тратя по 10 минут, чтобы надиктовать стенографисту текст, были адресованы тем, кто будет читать их спустя время. Геббельс не мог допустить того, чтобы в них сквозила истерика. Его задачей было донести мысль о том, что он – человек долга, который до последнего выполнял свои обязанности.
Между тем все двигалось к своему логическому завершению. Многие вещи происходили в последний раз. 19 апреля Геббельс последний раз выступил по радио по случаю грядущего дня рождения фюрера. 20 апреля, день пятидесятишестилетия Гитлера, был ознаменован тем, что последний раз собралось вместе руководство Третьего рейха. Помимо Гитлера и Геббельса в бункере присутствовали Гиммлер, Борман, Шпеер, Лей, Риббентроп и высшие чины вермахта. Несмотря на наигранно бодрое настроение, каждый из них думал лишь об одном: что делать лично ему в свете сложившейся обстановки. Гитлер не был исключением. Накануне своего дня рождения он высказывал мысли о том, что, по-видимому, переедет в Оберзальцберг, откуда постарается возглавить борьбу. Судя по всему, именно так и планировалось поступить. Но тут вмешался Геббельс, который начал свою последнюю пропагандистскую кампанию. У него уже не было технических средств воздействия на население Германии. Даже если бы и были, не до того сейчас было людям.
Последняя битва министра пропаганды шла уже не за умы измученных войной немцев, а за их потомков, которых на данный момент еще вообще не было на свете. Географически эта битва ограничивалась не пределами Германии, но пределами бункера. Главное было втолковать Гитлеру важность «моральной всемирной победы»[245], которая непременно последует, если фюрер найдет в себе силы возглавить сражение за Берлин и умереть как герой на его развалинах. Гитлер поддался уговорам. Битва за умы потомков началась. 28 апреля Гитлер пригласил к себе всех обитателей бункера и заявил им о своем решении уйти из жизни. В ночь с 28 на 29 апреля он сочетался браком с Евой Браун, затем покинул присутствующих, с тем чтобы продиктовать свое политическое и частное завещание. Оба завещания Геббельс подписал как свидетель. Согласно этому документу рейхспрезидентом должен был стать адмирал Карл Денниц, Геббельс назначался рейхсканцлером, а Борман должен был возглавить партию. 30 апреля после 15 часов Гитлер и Ева Браун покончили жизнь самоубийством. Борман отправил Деницу телеграмму, в которой говорилось, что тот стал преемником Гитлера, в ответ Денниц сообщил о своем согласии и передал свои заверения в преданности фюреру [246].
В качестве единственного своего деяния на новом посту Геббельс провел ночью 30 апреля вместе с Борманом совещание, результатом которого стало решение о проведении с русскими переговоров о перемирии. В середине дня пришел ответ от Жукова с требованием безоговорочной капитуляции всех обитателей бункера. Вечером 1 мая, отравив предварительно своих детей, Йозеф и Магда Геббельс покончили жизнь самоубийством.
Одним из последних документов, подписанных Геббельсом, было дополнение к завещанию А. Гитлера. Вот оно:
«Фюрер приказал мне в случае крушения обороны имперской столицы покинуть Берлин и войти в назначенное им правительство в качестве ведущего его члена.
Впервые в жизни я категорически отказываюсь выполнить приказ фюрера. Моя жена и мои дети тоже отказываются выполнить его. Иначе – не говоря уже о том, что мы никогда не могли бы заставить себя покинуть фюрера в самую тяжелую для него минуту просто по человеческим мотивам и из личной преданности, – я в течение всей своей дальнейшей жизни чувствовал бы себя бесчестным изменником и подлым негодяем, потерявшим вместе с уважением к себе уважение своего народа, которое должно было бы стать предпосылкой моего личного служения делу устройства будущего германской нации и германского рейха.
В лихорадочной обстановке предательства, окружающей фюрера в эти критические дни, должно быть хотя бы несколько человек, которые остались безусловно верными ему до смерти, несмотря на то что это противоречит официальному, даже столь разумно обоснованному приказу, изложенному им в своем политическом завещании.
Я полагаю, что этим окажу наилучшую услугу немецкому народу и его будущему, ибо для тяжелых грядущих времен примеры еще важнее, чем люди. Люди, которые укажут нации путь к свободе, всегда найдутся. Но устройство нашей новой народно-национальной жизни было бы невозможно, если бы оно не развивалось на основе ясных, каждому понятных образцов. По этой причине я вместе с моей женой и от имени своих детей, которые слишком юны, чтобы высказываться самим, но, достигнув достаточно зрелого для этого возраста, безоговорочно присоединились бы к этому решению, заявляю о моем непоколебимом решении не покидать имперскую столицу даже в случае ее падения и лучше кончить подле фюрера жизнь, которая для меня лично не имеет больше никакой ценности, если я не смогу употребить ее, служа фюреру и оставаясь подле него. Написано в Берлине 29 апреля 1945 года в 5 часов 30 минут»[247].
Он ушел, как он сам считал, с высоко поднятой головой. Выглядел ли его уход достойно? Да! Последние дни и часы он работал над тем, чтобы именно так оно и было. Все, кто находился в это время вместе с ним, свидетельствовали: он не предал своих идеалов, не оставил того, кому безоговорочно верил. Все так. Но ушел-то он не один. За ним шли его жена, его маленькие дети, из фанатизма умерщвленные ею, солдаты, убитые на фронте, подростки и старики из фольксштурма, погибшие в безнадежных боях за Берлин, все те, кто не дождался конца войны. А ведь каждый из людей, – это лишь одно из звеньев. Умирает человек – и умирают те, кто мог бы у него родиться; умирают повторно те, кого он помнил из своих предков. Обрывается не одна нить, а тысячи нитей. Не надо обольщаться – толпа мертвецов идет не только за Геббельсом, но и за каждым идеологом, который считает, что заповедь «не убий», можно обойти, если цели будут уж очень высокие. Только есть ли на земле НАСТОЛЬКО высокие цели?
Приложения
Приложение 1
Дух и буква национал-социализма[248]
Йозеф Геббельс, имперский министр народного просвещения и пропаганды Берлин, 1934 г.
Сущность национал-социализма невозможно объяснить в сжатые сроки, ведь речь идет о рассмотрении процесса и идеи, которые мощно и динамично врываются в общественную жизнь Германии, основательно меняя все обстоятельства и взаимоотношения людей. Отсюда следует, что национал-социализм сегодня представляет собой не нечто свершившееся, а лишь свершаемое; что он подвержен текущим изменениям и поэтому не может быть охарактеризован окончательно.
Мы не хотим рассматривать национал-социализм в качестве всеобъемлющего явления. Наша задача – лишь разъяснить основные понятия данного учения, представить и обозначить те столпы, на которых покоится здание нашего мировоззрения, объясняя не только возможность, но и необходимость национал-социалистической реальности.
Национал-социализм, как каждое великое мировое учение, опирается на немногие основные понятия, заключающие в себе глубокий смысл.
Простое объяснение основных ошибок немецкой политики последних четырнадцати лет заключается в том, что мы, немцы, никогда не приходим к соглашению в вопросах, касающихся нашей судьбы, ни в качестве отдельных индивидов, ни будучи объединены в организацию или партию. Хотя и происходили дискуссии о понятиях, но исключалась возможность достичь единства в основных принципах нашей политической мысли, так как каждый считал себя вправе подразумевать под этими понятиями что-то свое. То, что один понимал под «демократией», другой рассматривал как «монархию»; один говорил «черно-бело-красное», другой – «черно-красно-золотое». В том, что один обозначал как «авторитарное государство», другой видел «парламентскую систему». Пришла пора вновь включить народные массы в политическую жизнь. Чтобы находить в них понимание, мы разработали ориентированную на народ пропаганду. Таким образом, мы вынесли на улицу ситуацию, понимание которой было доступно лишь нескольким специалистам и экспертам.
Мы обсуждали эти понятия до хрипоты. Если бы кто-то четырнадцать лет назад дал себе труд выяснить перед политическим противостоянием, что, собственно, каждый отдельный человек понимает под «демократией» или «монархией», под «системой» или «авторитарным государством», то стало бы очевидно, что мы, немцы, едины в основных принципах, просто по-разному их обозначаем.
Национал-социализм упростил мысли немецкого народа и привел их назад, к примитивным прототипам. Он свел сложные подходы политико-экономической жизни к самой простой формуле. Он естественным образом вложил ее объяснение в мозг маленькому человеку; при этом все было объяснено так просто, что стало доступно самому примитивному разуму Мы отказывались иметь дело с расплывчатыми, нечеткими и неясными понятиями, придавая всем вещам простой и ясный смысл.
В этом заключалась тайна наших успехов.
Гражданские партии ощущали себя не способными понять наш «культ примитивности». Они судили о нас с аристократической надменностью, придя к ошибочному мнению, что они являются государственными мужами, а мы – болтунами. В лучшем случае они рассматривали нас в качестве агитаторов и выразителей идей толпы. Но мы поставили перед собой другие задачи: захватить колеблющиеся троны, чтобы после передать их достойнейшим.
Мы обладаем способностью ясно видеть и представлять основные принципы ситуации в Германии и в немецкой общественной жизни. Мы также обладаем силой побуждать широкие массы нашего народа к борьбе за эти, по-новому увиденные принципы и основы политической жизни. Такой агитационный подход не остался без последствий и в плане мировой политики.
Я вижу в этом успехе предпосылку к политическому взаимному согласию немцев друг с другом и всего нашего народа с демократическими, фашистскими или большевистскими государствами. Если мы не обратимся во всем к единому толкованию понятий, то объединение будет исключено. Первая необходимость каждой политической классификации основывается на разграничении понятий и разъяснении принципов. Важно, чтобы имелась возможность простого перехода от теоретической дефиниции к политической практике.
Кто однажды четко уяснит основные понятия, тот с удивлением увидит, что политическая практика проистекает из них органически, естественно и логично. Ему станет очевидно, куда должно быть направлено политическое развитие. Станет очевидным и то, что процесс, начатый с того момента, когда разразилась национал-социалистическая революция в Германии, не может рассматриваться как завершенный, но будет иметь свое продолжение; что он вообще сможет завершиться лишь тогда, когда национал-социалистический образ мыслей обновит и заполнит содержанием всю общественную и частную жизнь Германии.
Так это называется сегодня в Германии: «Мы сделали революцию». Однако немногие люди знают, что эта революция означает, что она представляет собой в динамике и в плане исторического развития. Имеются даже отдельные товарищи, которые вообще не хотят признавать, что в Германии произошла революция.
Что такое революция? Перед тем как произошел национал-социалистический переворот, с этим понятием связывали признаки, которые, собственно, лишь приблизительно относились к первоначальному значению слова. Под революцией понимался политический подход, когда все решается на баррикадах и направлено против существующих законов. Известно лишь очевидное – это процесс насильственного свержения господствующей прослойки и передача власти насильственно пробившейся новой группе. Но скрытый смысл того, что есть революция, несколько иной. К нему не обязательно относится понятие «баррикада», оно вообще ни в коем случае не должно быть признаком настоящей революции. Революция может совершаться бескровно и без нарушений закона; равно как возможно, что правящая группа пойдет на баррикады, не провозглашая революции. Революция заключает в себе динамичный процесс, развивающийся по собственным законам и направленный на то, чтобы перенести свою, когда-то оппозиционную динамику на государственный уровень законности. Абсолютно не важно, какими средствами все осуществляется. При этом степень легальности не играет никакой роли. Немецкая революция является тому классическим примером, так как она проводилась легальным путем при непременном соблюдении существующих законов и все же принесла с собой самый большой духовный, культурный, экономический и социальный переворот, какой только был когда-нибудь в мировой истории. А причина лежит в особенности именно немецкой революции, которая была совершена снизу, а не сверху.
Бывают революции, совершаемые сверху и снизу, они гораздо меньше отличаются тем, какую сферу жизни они захватили, нежели своими методами и долговечностью результатов. Революция, совершаемая сверху, является противоестественной и имеет по большей части ограниченное историческое значение. Революция, совершаемая снизу, напротив, естественна и живет столетия. Очень тяжело, если вообще возможно, спустить народу сверху новый закон без предварительной духовной подготовки. Именно поэтому спущенные сверху революции имеют столь короткий срок жизни.
При революциях, проводимых снизу, наоборот, их законы не открываются ограниченной группой людей, сидящих за письменными столами, и не проводятся насильственным образом, а живут в народе, давая всходы.
Если народ не готов к революции, то революционная группа, захватив власть и имея перед глазами четкую цель, недолго сможет этой властью распоряжаться. Проводимые сверху революции, как правило, очень быстро выходят в тираж. Собирается горстка генералов или государственных деятелей, приводит режим к падению и перенимает власть.
Революции, совершаемые снизу, напротив, прорастают из глубин; они развиваются из самых крошечных народных групп; из десятка революционеров делается сто, из тысячи – сто тысяч, и вот уже в мгновение происходит духовная победа революции, поскольку динамичная энергия оппозиционно настроенных революционеров сильнее, чем постепенно ветшающий государственный аппарат. С захватом власти и слиянием с государственным аппаратом совершилось то, что мы в Германии наблюдали с 30 января 1933 года. Это не революция сама по себе, скорее последняя часть многопланового явления. Очевидно, что законы, образ мыслей и динамика революции, выросшие за десятилетия из мощнейших корней народной мощи, будут перенесены на государственный уровень.
В Германии мы пережили чудо: без кровопролития, без баррикад и пулеметов свершалась революция в пределах нашего шестидесятимиллионного народа; революция, чья динамика никогда не прекращалась, которая заполнила все стороны жизни и чьи законы утвердились повсюду. В течение прошедших месяцев мы показали, с какой скоростью она должна совершаться. Результатом явилось новое государство!
В действительности свершилось не что иное, как перенесение революционной законности в масштабы государства. Авторитеты национал-социализма стали выступать в качестве авторитетов государственных; революционные законы стали государственными, а национал-социалистический образ мыслей – национальным. В Германии не имеется ничего, что могло бы помешать законному развитию данного исторического процесса.
Революция никогда не свершилась бы, если бы она поддерживалась только группой людей с узурпаторскими намерениями, чей захват власти осуществлялся бы без внутренней идеи. Национал-социалистическая революция способствовала прорыву в мировоззрении!
Мировоззрение, и это его существенная черта, не зависит от образовательного уровня. Бедный, неизвестный рабочий с незначительным образовательным запасом может иметь мировоззрение на уровне ученого университетского профессора, который свободно разбирается во всех областях знаний. Опыт показывает даже, что чем выше уровень образованности, тем зачастую меньше мужества остается для мировоззрения. Мировоззрение, как явствует из самого слова, – это особый способ смотреть на мир. Данный способ восприятия подразумевает единый угол зрения. Когда носитель мировоззрения рассматривает экономику в том же масштабе, что и политику, то культурная жизнь будет рассматриваться в органической связи с социальной, а внешняя политика – с внутриполитическим положением. Мировоззрение означает, что человек рассматривает государство, экономику, культуру и религию под одним углом. Этот подход не нуждается в большой программе, а может быть выражен в коротком предложении. Разумеется, это зависит от того, правильным или ошибочным окажется данное предложение. Если оно будет правильным, то сможет несколько столетий или тысячелетий служить народу; если неправильным, то система, выстроенная на его основе, развалится очень быстро. Исходя из данных соображений, все великие исторические революции произойти сами по себе. Никогда у истоков революции не стояла книга или разбитая на параграфы программа, всегда лишь единственный лозунг, отражавший в себе всю общественную и частную жизнь.
Большой объем христианских обрядов и религиозных правил был установлен не их Творцом. Христос лишь сформулировал основное понятие любви к ближнему, все прочее является творением отцов церкви. Любовь к ближнему была настолько диаметрально противоположна понятиям античного мира, что между этими полюсами не могло быть никакого согласия: либо античный мир должен был устранить христианское учение, либо христианство – ограничить античность.
У революционеров нет намерения оставаться в рамках одной теории, они продвигаются от теории к практике и видят развитие так ясно, что делаются излишними дискуссии о реализации их лозунгов. Идеи национал-социалистической революции будут осуществлены, так же как и идеи христианского учения и французская революция.
Раньше над нами издевались, что де «программа национал-социализма означает отсутствие программы». Мы, национал-социалисты, не чувствовали себя отцами церкви, скорее агитаторами и поборниками нашего учения. У нас не было намерения по-научному обосновывать наше мировоззрение, мы хотели лишь осуществить учение, предоставив более поздним временам возможность оценить нашу практику в качестве объекта познания. Ни один ученый не спланирует народный образ жизни, не вставая из-за стола. Конституции, которые делаются на бумаге, никогда не дадут народу законность. Природа уходит от науки прочь и формирует собственные правила. Так это произошло и во время национал-социалистической революции!
Незадолго до нашего прихода к власти наука пыталась доказывать, что тот или иной революционный процесс не соответствует существующим законам. Она, не смущаясь, передавала политико-государственные споры в ведение высших судебных инстанций. Мы тогда только улыбались, поскольку в то время, когда наука утверждала, что такого не может быть, все уже давно было осуществлено.
Наука обладает лишь правом выбирать из существующих компонентов новую законность, и потому положение, возникшее благодаря переносу нашей национал-социалистической революционной законности в масштабы государства, само по себе является законом.
Этот закон представляет собой новое, нормальное состояние народа и не подвержен научной критике. Революция стала действительностью, и только безрассудные реакционные люди способны верить в то, что построенное нами возможно когда-нибудь повернуть вспять.
Теперь национал-социализм находится на этапе, когда он медленно стабилизирует новое состояние закона в Германии, сформированное революцией. Оно принципиально отличается от старой законности и не может быть подвергнуто критике, которая могла бы быть применена в условиях старой системы. Если демократия использовала во времена нашей оппозиционности демократические методы, то это было логично в условиях демократической системы. Однако мы, национал-социалисты, никогда не утверждали, что мы являемся приверженцами точки зрения демократов. Мы открыто утверждали, что средства демократии мы использовали с целью получить власть, что после ее захвата мы будем решительно противодействовать нашим противникам всеми средствами, на которые нам было дано согласие еще во времена нашей оппозиционности. И все же мы можем утверждать, что наше правительство соответствует законам облагороженной демократии.
Мы стали самостоятельны в своих критических проявлениях и сегодня можем поставить себя на правовые позиции. Но с одной оговоркой: мы даем право на критику только в том случае, если это осмысленная критика, а не демократический вздор. Эта критика должна служить народной пользе, которая выше всех политических дел. Критиковать разрешается лишь более умным более глупых и никогда наоборот. Итак, осталось лишь доказать, что мы, национал-социалисты, являемся более умными.
Наши противники обладали властью, армией, полицией, чиновничьим аппаратом, деньгами, партиями и парламентским большинством. Они владели общественным мнением, прессой, радио – одним словом, всем, что можно обозначить общим понятием «власть». Если маленькой группе в количестве семи человек удалось за четырнадцать лет оспорить это право у власти, имея в наличии лишь право критики противоположной стороны, то становится понятным, кто оказался умнее. Если бы умнее была противоположная сторона, то при подобном неравном распределении средств для достижения успеха она бы нашла пути и возможности, чтобы воспрепятствовать нашей победе. Этого не произошло, наоборот, хотя власти удалось на определенное время задержать продвижение революции, новая законность восторжествовала.
Очевидно, она появилась в те дни, когда свершилась немецкая революция, 30 января 1933 года, и национал-социалистическое движение объединилось с властью. Однако фактически она началась гораздо раньше, вероятно уже с начала войны и с утверждения версальского диктата. Она творилась годами, завоевывала приверженцев, формировала общественную жизнь сторонников, создавала новые авторитеты, новые формы существования, новые взгляды и новый стиль, который после захвата власти был перенесен на новое государство.
1 августа 1914 года является исторической точкой пересечения, поскольку уже тогда каждому исторически мыслящему человеку было понятно: там, где мы сегодня отступим, мы не сможем начать вновь после масштабной войны. Девять миллионов немецких людей перенесли самые страшные физические и нравственные муки; они прошли ад и чистилище человеческого горя, человеческой боли, лишений и депрессии. Для них не представлялось возможным начинать с того, на чем они остановились четырьмя годами раньше. Нет – эти люди выносили из окопов новый образ мышления. В ужасных лишениях и опасностях они узнали новый вид общности, который им никогда не довелось бы испытать в счастье. Они поняли, что перед смертью все равны, и пережили то, что в конечном итоге важными оказываются лишь свойства характера. Они не зависят от обеспеченности, образованности или благородного имени, пуля не видит разницы в вечном стремлении сравнять своим полетом высокое и низкое, бедное и богатое, большое и малое. Между людьми остается одно-единственное различие: то, чего каждый из них стоит как личность. Форменная одежда никогда не могла сгладить разницы между смелым и трусом, между тем, кто проявлял себя как мужчина, проводя жизнь в окопах, и тем, кто пытался спрятаться. Само собой разумеется, что подобная оценка получила распространение и на родине и что старые «государственные мужи», остававшиеся дома, не почувствовали этих новых тенденций, напротив, отвергали их. Однако это был лишь вопрос времени, по закону жизни более молодые, твердые, мужественные должны были победить тех, кто старше и трусливее.
Девять миллионов немецких фронтовых солдат знали о беспомощности того политического режима, который они защищали ценой своих жизней, выполняя волю нации. Они пережили то, что весь мир поднялся против Германии, и узнали, что только напряжение всех сил могло бы отвести угрозу. Очевидно, что самый бедный представитель народа, имевший отношение к собственной нации, все же зачастую никогда не ощущал свою к ней принадлежность. Он не ведал ничего о культурных достижениях своей страны. Имена Вагнера, Бетховена, Моцарта, Гете, Канта и Шопенгауэра он в лучшем случае знал понаслышке. Он считал себя вправе говорить: «Мне нет дела до шахт и рудников, которые мы собираемся захватывать, поскольку мне полностью безразлично, работаю ли я у немецкого или у французского хозяина». И все же нам довелось испытать то, что эти люди заступились за идеал, все величие которого они даже не могли осознать, когда начались суровые испытания, когда миллионы из слабости или неосведомленности изменяли этому идеалу. Но мы не были тогда народным государством, лишь оно пересиливает опасности. Единый народ никогда не станет оставлять свое собственное государство в тяжелый момент.
Противоположным образом происходило развитие национал-социалистического движения. Во время кризисов никогда не отделялись от движения члены партии, лишь сторонники и избиратели. Партийные товарищи, напротив, становились настойчивее и активнее, заполняя собой пробелы. Таким же образом все будет обстоять у народа, у которого появится осознание ценности обладания народным государством. Если бы люди, которые отдавали свои жизни, имели понятие о величии, ценности и достижениях народной страны, которую они защищали, они никогда не допустили бы, чтобы в решающий час эта страна играла на руку политическим аферистам и дельцам. Они противились бы этому с фанатичным усердием и никогда бы не потерпели того, что ужасные жертвы, принесенные на фронтах, оказались в один прекрасный день проиграны и истрачены.
Мы, немцы, ранее не были мировой нацией, не проводили мировой политики. В тот момент, когда разразилась война, во главе нации стоял человек, являвшийся настолько же плохим философом, насколько плохим государственным деятелем. Позднее его отказ от власти ничему не научил нас, напротив, государственные деятели стали старее, а не моложе, в то время как у наших противников имела место противоположная тенденция. Там у штурвала стояли настоящие мужчины, жестокие властные люди, не отягощенные никакой сентиментальностью и бесцеремонные в использовании государственных средств власти. Они не позволяли парламенту проработать и недели без того, чтобы не расстрелять того, кто возмущал спокойствие, имея силы наказать виновного. Мы, немцы, в военном отношении блестяще выигрывали войну, но в политическом – полностью проигрывали по всем фронтам. Мы не имели никакой военной цели и не проводили мировую политику. Пролетарий должен был жертвовать своей жизнью во имя неопределенных и расплывчатых целей. И произошло так, что наш фронт отступал, наш народ распадался и понятие народного государства не имело никакого значения перед реалиями исторического развития. После героически и мужественно проведенной войны разразилась ужасающая катастрофа. Твердые духом, лучшие немецкие патриоты разочаровались тогда, в те серые ноябрьские дни, в будущем нашего народа, многие из них тогда погибли. Сегодня мы смотрим на многие вещи иначе. Мы признаем органичность и целесообразность подобного развития и понимаем пророческие слова Меллера Ван ден Брука: «Мы должны были проиграть войну, чтобы обрести революцию». Если мы будем придерживаться мнения, что война уже являлась частью революции, отразившейся хотя и не в реальных условиях, но внутри людей, то придем к выводу: мы должны были проиграть первую часть революции, с тем чтобы опомниться во втором, третьем, четвертом акте и в конце концов выиграть.
Противники изобрели после окончания войны мирный договор, который с хитрой изощренностью был направлен на то, чтобы уничтожить немецкую нацию, окончательно вычеркнуть ее из списка мировых держав. Об этом не догадывались партии Веймарской политической системы. Еще недавно гражданская пресса в Германии ужасалась слову «дань» и озвучивала мнение, что одно лишь упоминание Версальского позорного договора способно отравить взаимное доверие «наций, связанных дружбой». Благодаря многолетней работе мы, национал-социалисты, разъяснили нашему народу сложное положение дел, связанное с вражеской политикой порабощения. Сегодня в Германии каждый ребенок знает страшные последствия Версаля и нет ни одного немца, который не знал бы о последствиях грабительского договора.
Но пятнадцать лет назад немецкий канцлер мог выступить перед нацией, заметив по поводу позорного договора: «Немецкий народ победил по всем направлениям!» Какая перемена произошла за эти пятнадцать боевых лет! Можно по праву сказать, что народы не всегда однородны – в них заложены стремления к хорошему и плохому, и всегда зависит от руководства, к добру или ко злу обратится нация!
Современный немецкий народ не может сравниваться с народом 1918 года, равно как не могут ставиться ни в какое сравнение массы 1918 года с нацией 1914-го. Здесь речь идет о принципиально различных менталитетах, о разных способах мышления, об иных внутренних связях.
Мы отразили методы захвата власти, обрисовав наши сущностные основы. Осталось объяснить еще некоторые основные понятия, которые должны дать нам окончательное понимание национал-социалистического способа мышления. Часто можно слышать, высказываемые общественностью слова: «Национал-социализм хочет тотальное государство!» Здесь кроется большая ошибка, так как национал-социализм стремится не к тотальному государству, а к тотальной идее. Это означает полное утверждение того мировоззрения, за которое происходила борьба в последнее десятилетие и которое мы привели к победе. Оно находит свое применение в общественной жизни нации, не останавливаясь перед проникновением в области экономики, культуры, религии. В Германии больше не найдется такой области, которая бы не соответствовала национал-социалистическим воззрениям.
Часто возникает мнение, что национал-социалистическое движение ведет к упадку, поскольку оно захватило власть и уничтожило все прочие партии. В качестве аргумента используется тот факт, что «все мы сегодня являемся национал-социалистами». Это не так, благо весь народ может мыслить по-военному и при этом не отказываться от армии в качестве гаранта собственной безопасности. Она является носителем традиций, организации, опыта военной жизни. Только в исключительных случаях солдатом становится весь народ; как правило, это остается привилегией избранного меньшинства.
Другой пример: директор театра очень заинтересован в том, чтобы его театр посетили как можно больше людей. Однако это не значит, что каждый зритель выйдет на сцену, чтобы заменить собой артистов. Это право приобретается не усердным посещением театра, лишь тяжелым трудом можно добиться приобщения к немногочисленной иерархии деятелей искусства.
Каждый встречный не может примерять на себя плащ героя или, говоря о политике, цеплять на себя партийный значок и утверждать, что он настоящий национал-социалист. Если в тогу облачается дилетант, то он еще долго не будет великим трагиком. Напротив, великого трагика признают и без тоги. Дилетант же облекается в нее лишь потому, что у него отсутствует драматический талант. Таким образом, партия должна всегда оставаться иерархией национал-социалистического руководства. Всегда лишь малая ее часть должна претендовать на руководство государством. Она держит открытыми двери для немецкой молодежи, которая желает войти в ее иерархию. Однако, исходя из этого, ее иерархия имеет меньше прав, чем обязанностей. Она ответственна за руководство государством, она торжественно принимает ответственность, переданную народом. У нее обязанность, вести государство к благам, к общей пользе нации.
Мы бы совершили чреватую последствиями ошибку, если бы поставили национал-социалистическое движение на тот же уровень, который раньше занимали гражданские и марксистские партии. С самых своих истоков национал-социализм имел целью уничтожить все другие партии и избавить людей от их иссушающего влияния. Поэтому сейчас нельзя менять существенные программные предпосылки национал-социалистического движения. Его взгляд на будущее остается неизменным, оформление собственных программных положений – однозначным, оно держит себя непоколебимо, а не предоставлено изменчивой и колеблющейся силе масс.
Многократно от нас, национал-социалистов, тайно требовали изменить ту или иную формулировку в программе. Говорили: «Почему вы называете себя социалистами? Вполне достаточно будет термина "социальный"! Наконец, мы все социальны! Придайте слову потерянную актуальность, и все придет в полное согласие». Нет, мы, национал-социалисты, так не можем, поскольку имеется существенная разница в том, провозгласим мы себя «социальными» или «социалистическими», «национальными» или «националистическими». Рядом с понятием «национал» по большей части стоит словечко «также», и это является решающим. Здесь проходит граница между мирами. Для национал-социалиста совершенно не важно, как другие трактуют его «национальную» позицию. Для него не имеют значения формальности, однако он посвятил себя своему народу плотью и кровью, телом и душей. Никогда настоящий националист не станет произносить пустые фразы: «Это так отрадно и почетно – умереть за Отечество». Для этого он слишком честен, и это удерживает его от того, чтобы растрачивать в пустых фразах, направленных на обывательскую публику, свою готовность на самопожертвование.
То же самое относится и к понятию «социализм». «Я социален!» – так говорит большинство директоров банков, синдикатов, владельцев фабрик или высокопоставленных чиновников. Социалисты же хотели основать больницы и санатории, чтобы помочь бедным людям; они были согласны с тем, что так не может продолжаться и надо что-то менять. В этом проявляется социалист. Он придерживается той позиции, что мы все должны стать одним народом, чтобы нация могла выдержать испытания.
Любая жертва во имя народного будущего оправдана. Я принадлежу к моему народу в хорошие и в плохие времена и вынесу с ним радость и горе. Я не знаю никаких классов, единственно только чувствую в себе обязательства по отношению к нации.
Национал-социализм не думает о разделении немецкого народа и признает каждое деяние, выделяющее человека из множества современников. По большому счету, мы все равны перед смертью, перед опасностью и перед испытаниями. Давайте же выразим эту мысль, признав друг друга и никогда не допуская, чтобы между нами пролегла пропасть, поскольку когда-нибудь настанут опасные времена, когда наш народ будет опираться на свою внутреннюю солидарность.






