БИЧ-Рыба (сборник) Кузнечихин Сергей
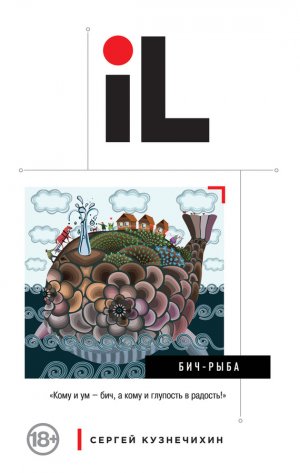
Блат
Знал я старуху, которая страсть как любила стоять в очередях. Ей и телевизора не требовалось: и новости, и прогноз погоды – все оттуда, причем самые достоверные и с правильными пояснениями. А старик ее – наоборот: у прилавка два человека, так нет же, обязательно надо потрясти удостоверением ветерана. Но вообще-то никакой нормальный человек стоять в очередях не любит. Да куда от них, родимых, денешься, если ты не кум королю и не сват завмагу. Хотя встречал я ухарей, которые и без королей обходились. Юра Муравьев со мной работал. Без блата ни шагу. Даже обыкновенный хлеб по блату брал.
Доживаю как-то последние дни командировки. Городишко в забайкальской степи, изуродованная драгой речка с неприличным названием Унда, тоска зеленее лягушки. И вдруг появляется Юра. Глазами хлопаю: с каких пирогов, если по графику он должен быть в Черемхове? Темнить со мной бесполезно, да и какой резон? Человек он солидный, знает, что приказы начальства надо исполнять, поэтому в Черемхове лежит его чемодан, а сам он закосил неделю, чтобы навестить подругу.
Для бешеного кобеля – ни ветрила, ни руля. Однако неожиданные визиты к далеким женщинам добром не кончаются.
Нет, вы не о том подумали.
В ее кровати он никого не застукал. Хуже. У нее должен был вернуться муж из тюрьмы. Телеграмма пришла, а дата не указана. Так что беднягу даже чаем не напоили. Оттого и оказались мы попутчиками. Ему возвращаться в Черемхово, мне – в Читу, а дальше, до Красноярска, у меня был билет на самолет. Но до Читы еще надо добраться. Июль. Тучи распаренного народа валят в юго-западном направлении. Билет на автобус я взял заранее. Но опять же – один. Не рассчитывал, что спутник появится. Вроде и не виноват, а все равно неловко перед товарищем. Предупредил, чтобы похлопотал у местных заправил, может, записку для шофера нацарапают. А ему не до того. Спешил к жаркой перине, а очутился на холодной гостиничной койке. И психология и физиология бунтуют и требуют. Познакомился с москвичкой.
Утром я убежал по делам. Вернулся за час до отъезда. Подхожу к гостинице, а там грузовик с будкой меня поджидает. И вещи мои уже погружены. Юра с новой подругой на лавочке беседует. Оказалось, и она едет до Читы, а дальше самолетом. Отрываться от коллектива неприлично. Пришлось садиться в грузовик с автобусным билетом. Даме предоставили кабину. Сами полезли в будку. А подруга его, между прочим, пару недель прожила в соседнем номере, но желания знакомиться ни у меня, ни у других мужиков не возникало… Впрочем, не в моих привычках чужих женщин обсуждать. Хотя из Юры гордость перла во все щели: с кандидатом наук познакомился. Не мужик, а начальник отдела кадров.
Трясемся в будке. Куда – непонятно. Однако по частым поворотам чую, что на дорогу еще не выбрались, по городу крутимся. Потом тормознулись и подсадили мужика, но без вещей. Я думал, он кого-то встречать едет, оказалось – хозяин машины проветриться захотел, Юру проводить. Русские проводы короткими не бывают. Доехали до первого ручейка и остановились перекусить. Мужик закуску достал. Юра на меня смотрит: знал, что всегда прихватываю в дорогу аварийную бутылочку. Пришлось доставать. Водки не жалко, но пить на жаре, чуть ли не с утра… И главное, не откажешься. Юра два года как закодировался, а мужику напарник нужен. Московская дамочка раздвижной стаканчик протянула, он плеснул ей, но все равно потребовал, чтобы я выпил, при этом снова повторил:
– Не могу без компании, помирать буду, но пока второй человек не найдется – не могу.
– Так я вам составлю компанию, – пискнула кандидатка.
Мужик посмотрел на нее через плечо, промычал что-то непонятное и опять свое:
– Мне, перед тем как выпить, обязательно стукнуться надо, – и, не замечая протянутого стаканчика, двинул кружку к моей.
Бывают женщины, перед которыми последние вахлаки рыцарями становятся. А эта – увы. Я, конечно, извинился за причиненную неловкость, хотя не моя это забота, если рядом кавалер. Но Юра молчит. Делает вид, что все нормально.
Дамочка просит не беспокоиться, ей, видите ли, даже интересно такое обхождение, сибирский колорит хочется прочувствовать. А мужик, не обращая на нее внимания, травит, как ездили на водовозке добывать тарбаганов из нор, и матерится заливистее пожилого пастуха. Когда водки осталось на пару глотков, а история про тарбаганов еще не кончилась, он подозвал шофера и велел гнать за новой бутылкой. Мы отговаривать. Он и слушать не хочет. Никуда, мол, не денется ваш поезд, один пропустите, другой придет. Мы – к шоферу, трезвый вроде человек, а как попугай перепуганный: куда начальник прикажет, туда и поедем. Начальник откомандировал в магазин. Сидим в чистом поле, слушаем лекцию о пользе тарбаганьего мяса. По дороге автобус пропылил, тот, на который у меня билет в кармане. Посмотрел ему вслед – и сиротливенько на душе стало. Ждем-пождем, а машины нет. А мясо тарбагана, кстати, действительно очень полезное. И мужик рассказывать умел, только время выбрал не самое подходящее. Гонец угодил на обеденный перерыв в магазинах. Степь широкая. Солнце яркое. Застряли между небом и землей. Зато – по блату, на персональном грузовике.
Но обошлось. Шофер вернулся. До Нерчинска доехали.
Приходим на вокзал. К кассе не пробьешься. Глухая защита и с фронта, и с флангов, и с тыла. Оцепленье в три ряда, а возле амбразуры боевой отряд женщин с детьми. Мне пришлось становиться в очередь, Юра двинулся прощупывать обходные пути, а дама побежала в город искать книжный магазин. В те годы был самый разгар книжного психоза. Даже тот, кто читать не умел, хапал все подряд. Неподъемного чемодана и увесистой связки, вероятно, было недостаточно, отправилась за новой порцией, а мне наказала смотреть за вещами. Стою, караулю барахло и очередь караулю. В зале духота, в голове пары неохлажденной водки, сплю не закрывая глаз. Однако доверенный багаж держу под контролем и положенные полшага в десять минут делаю. А попутчики на помощь не торопятся. Сначала я не очень волновался за них, но когда все-таки приблизился к кассе и узнал, что билеты только в общие вагоны, появилась потребность посовещаться. А совещаться не с кем. Очередь сзади подталкивает. Нервничают люди, и понять их нетрудно. Пришлось брать ответственность. Только взял, и сразу же появилась москвичка со стопкой книг, перевязанных бечевкой. Но, должен отдать справедливость, к известию о местах в общем вагоне отнеслась мужественно и с пониманием. Толкаться в зале сил больше не было, водочные пары на верхнем пределе взрываемости. Выбрались на улицу. Счастливая книголюбка взахлеб рассказывает мне, какой неиспорченный народ в Сибири, какие редкие книги за гроши отдают букинистам. И в самый разгар ее восторга между нами возникает взмыленный Юра.
– Где вы прячетесь? – кричит. – Поезд уходит! – Хватает ее чемодан и ковыляет по направлению к перрону.
Мы трусцой за ним, хотя и не понимаем, куда торопимся, потому что до поезда еще долго. Он на ходу объясняет:
– В почтово-багажном поедем.
Я про билеты талдычу.
– Все правильно, – успокаивает, – билеты вам для авансового отчета пригодятся, а поедем в почтово-багажном, в отдельном купе, как белые люди.
По блату – за двойную плату.
Только сели – и сразу тронулись, будто специально нас поджидали. Купе отдельное, чистенькое. Расположились. Голубки мои сразу ворковать. Я человек понятливый – люди утром расстанутся и, может, никогда не встретятся, – вышел из купе якобы покурить. Пейзаж за окном вроде бы и приличный, но глазам не до него, закрываются бедные мои глазоньки, ждут не дождутся, когда избавят их от природных красот. А в купе словно забыли про меня. Я уже и в соседние двери подергался, надеясь приткнуться на свободное место – все заперты, и к проводнику постучался – не ответил. Пришлось на откиднушке плацкартствовать.
Юра собрался перекурить только через два часа. Увидел меня, вытаращился, словно привидение встретил, и удивленно так спрашивает:
– А чего ты здесь делаешь?
– Дремлю, – говорю.
– А почему не в купе? – Наивненьким притворяется, потом руки к сердцу прижал. – Да что ты о нас подумал! Как ты мог! Как тебе не стыдно! Да я, да она…
Ну чем на такую наивность отвечать? Ладно, замяли. Заполз на свою верхнюю полку. Пока ноги вытягивал, уснул.
С боку на бок перевернуться не успел, а уже будят. Мне показалось, что и не спал вовсе. Глянул в окно, а там серенький, чуть живой рассвет. Какого дьявола, кричу, нашли время для шуток! Никак не врублюсь, что уже приехали, по моим соображениям, должны были прибыть чуть ли не к полудню. Самая короткая дорога у спящего. Я и билеты с таким расчетом брал. Но блат спутал все расписания и расчеты. Везли нас без остановок и на повышенной скорости, как самый ценный груз. Или как скоропортящийся, от которого спешат побыстрее отделаться. Домчали по холодку и выбросили на перрон прозябать остатки ночи в вертикальном положении, потому что лежачие места в зале ожидания нас не ждали. Можно было подстелить газетку и устроиться на полу, но кандидату наук такое не предложишь. И оставлять ее в одиночестве как-то не по-мужски. Пришлось развлекать байками до открытия магазинов.
А Юра в это время спал себе под стук колес и с каждым новым сном приближался к гостеприимному Черемхову.
На самолете летел уже без блата и четко по расписанию.
Но битому неймется. Умный человек два раза об одну кочку не спотыкается, но кому-то, чтобы поумнеть, и трех раз недостаточно. Года не прошло, и я снова влип с его блатом. Прислали повестку из военкомата, а мне в этот день товарища надо было встретить на вокзале. Ну я и пожаловался на судьбу. А Юра: не боись, мол, у меня там свои люди. Пошли вместе. И очередишка-то небольшая была. Успевал. Но у него же – блат. Взял мои документы и прямым ходом к начальству. Через пять минут возвращается. Грудь – колесом, улыбка шире физиономии:
– Я же говорил, что все улажу. Сейчас вызовут.
И растянулось это «сейчас» на четыре часа. Плюнуть бы да сбежать, но документы забрали. И тех, что раньше пришли, уже отпустили, и тех, что позже…
Меня пригласили самым последним, и смурной капитан объяснил, что с ним такие финты не проходят, за некоторых красавчиков даже генералы хлопотали, и все равно – осечка. Суровый капитан, но справедливый, в красавчики меня зачислил. Оставалось только поблагодарить: сначала капитана, а потом – Юру.
Эка разворчался. Чего доброго, подумаете, что в святые рядиться начал. Куда там! Черного кобеля не отмоешь добела. Но обидно страдать за чужие грехи, когда своих полно.
Дядька
Когда у нас в России любили начальников? Да никогда. А за что, собственно? Когда от них людям польза была? Работать не умеют, зато жаловаться на свою судьбу – великие мастера. Но если эта шапка Мономаха настолько тяжела, чего же они так грызутся за нее? И уж к слову, на Руси издавна принято было, заходя в дом, снимать шапку, и не важно, Мономахова она или еще чья…
Но правила без исключения, сами понимаете… Толик Березин своего начальника любил. Других, как и положено, терпеть не мог, а своего обожал. Потому что Михалыч имел золотую голову. Кто – о футболе, кто – о бабах, а Толик – о своем шефе, о том, что лучшего специалиста по дизелям и турбинам не только в Сибири, но и во всем Союзе не существует, разве что в Питере один самородок приближается к нему по величине, но до Михалыча пока еще недотягивает. И попробуй возрази, чуть ли не в драку лез. Да и спорить с ним особого желания не возникало, потому что сам Михалыч ни начальника, ни профессора из себя не корчил, даже во хмелю. А то бывают скромники: трезвый – ниже травы, а стакан пропустит – и сразу же из всех дыр, подбородок в соплях, а туда же, в гении. Пьяный Михалыч говорил еще меньше, чем трезвый. Предпочитал слушать. И больше всего любил анекдоты, даже над самыми бородатыми хохотал. Толик ему специально людей приводил. Иной загулявший шеф требует в номер девицу, другой – гитариста, Михалыч – анекдотчика. А поддавал он частенько, мужик в работе безотказный, и – соответственная благодарность. Это сейчас требуют дензнаки, а тогда была единственная валюта – в стеклянной упаковке.
И вот как-то на Севере увезли его старатели на свою дизельную, а возвратили чуть тепленького. Толик принял начальника из рук в руки. Отнес в постель, раздел, уложил – все аккуратненько. В куртке у Михалыча нашлась чуть початая бутылка с тремя звездочками. Толик с устатку приложился. Разумеется, после того, как навел полный марафет. И, надо заметить, не все прикончил, оставил шефу на утро, заботился о его здоровье. А оно у Михалыча было слабенькое, ну и случилась ночью беда – навалил во сне под себя. Старатели хвастались, что строганиной из сохатого закусывали, да не каждый желудок сырое мясо принимает.
Проснулся Михалыч, глянул на простыни – и хоть стреляйся. Представьте себя в его положении…
Вот именно. А что делать? Выкинуть потихоньку и заменить? Так ведь не купишь нигде – дефицит, будь он неладен. Недавно слышал по радио, что русский язык иностранными словами засорили. Но возьмите хотя бы слово «дефицит». Оно чье? Иностранное? Вот именно – самое что ни есть российское. По радио рассуждать легче простого. А Михалычу не до рассуждений, он и в нормальном состоянии особой смелостью не отличался, а тут похмелье, косматое, как медведь. Совсем раскис. Лежит, стонет. Проснулся Толик. Остатки коньяка – в стакан, корочку – занюхать – в руку, и шефа лечить. Михалыч выпил. Вроде и полегчало, но следы ночной оплошности все равно не исчезли. Сколько ни тяни, а признаваться придется, с минуты на минуту старатели должны заявиться, дизельную до ума доводить надо. И тогда он дает Толику червонец, чтобы тот заплатил уборщице за стирку простыней, а сам быстренько влез в одежду и – на свежий воздух, дожидаться машину подальше от места «преступления».
Толик остался один и начал рассуждать: если червонец предназначен за работу – это вполне приличная плата, и уборщица обязана за такие деньги выстирать обе простыни, и она выстирает, а потом растрезвонит по всему руднику, но если предупредить, что плата – за молчание, она деньги возьмет… и все равно растрезвонит, ее и четвертаком не угомонишь, потому как натура у нее склочная. Поэтому решил оставить червонец у себя. Так надежнее – сам он не проболтается. А выстирать пару простыней – все равно что пару пальцев обмочить. Перед стиркой сбегал в магазин. В то время на червонец можно было взять литр водки.
Если можно – почему бы не взять?
Если взял – почему бы не открыть?
И так далее…
Но он не просто пьяница, человек ответственный. Принял для вдохновения – и сразу на кухню.
Откуда в гостинице кухня, спрашиваете?
Наивные люди. Большинство северных гостиниц – наполовину общежития: общая кухня, общий душ и общий сортир, зачастую на улице.
Является, значит, на кухню, находит чью-то кастрюлю. Попробовал обе простыни затолкать – не уместились. Оставил одну, засыпал порошком, залил водой и водрузил на медленный огонь кипятиться. Время раннее, народишко на трудовых вахтах, так что караулить не от кого, и Толик преспокойненько откочевал к бутылке.
Вернулся через час. Вывалил простыню в раковину, прополоскал ее там и развесил посреди кухни, благо веревка уже была. Он даже пол возле раковины подтер, чтобы претензий не было. Не хамло какое-нибудь – культурный человек. Потом зарядил кастрюлю новой порцией. Пошел к себе отдохнуть. И задремал…
Разбудила его хозяйка посуды. Вернулась баба с работы, собралась щи варить на очередную неделю, а кастрюля ее другим варевом занята. Тут же и простыня на веревке вся в желтых разводах. Если в гостинице живут монтажники, значит, время на поиски виноватых тратить необязательно. Тем более – женское время. Волос – долог, суд – короток. Комната была открыта, а если бы догадался запереться, она бы и дверь высадила. Ремонт все равно за его счет. На крик прибежала уборщица. А что может противопоставить непроспавшийся мужик двум задерганным трудовыми буднями женщинам? Ничего от его достоинства не оставили. Единственное, что успел, – спас недопитую бутылку. Ну и, конечно, ни словом не опорочил начальника, всю вину взял на себя.
Думал – запер, но вороты оказались полороты. Слух дополз до конторы, и Михалычу выписали на полную катушку за слабую воспитательную работу с подчиненными.
Шефа наказывают, а работяга переживает.
В старые времена к барчуку дядьку приставляли – и денщик, и наставник, и защитник в одном лице. И Толик туда же. У Михалыча, дескать, ясная голова, но в жизни он как ребенок, поэтому при нем должен быть опытный человек, бывалый и надежный, способный защитить, а ему вечно мнилось, что к Михалычу относятся без должного уважения. Любое панибратство с великим спецом он считал за оскорбление, не говоря уж о шуточках и подковырках. Короче, пестовал.
И вот приехали мы как-то в Хакасию. Михалыч турбину пускал, а электрической частью занимался Игорь Барановский. Их, как шефов, поселили в двухместном номере. Толик, естественно, недоволен. Заревновал. Прибегал ко мне и жаловался. Присмотрись, мол, к электрику – дурак дураком, а гонору на десятерых, стучаться в номер заставляет, пьянь несусветная, а закусывать из одной тарелки со слесарем брезгует… Толик немного сгущал, но обиды, как мухи, над чистым местом не роятся.
В городишке этом случалось бывать и раньше, знакомых накопилось много, и Барановского с Михалычем чуть ли не каждый вечер таскали по гостям. У Толика – снова обиды, и не потому, что его не берут, а потому, что во всех этих визитах первую скрипку играет Барановский. Да еще и шуточки себе позволяет. Вернулись пьяные. Михалыч уснул, а тот, ледащий, связал шнурки на его ботинках и повесил на рожок люстры. Михалыч утром проснулся, ботинок возле койки нет, и в тумбочке нет, и в шкафу, и в мусорном ведре – нигде нет. Как возвращался, естественно, не помнит и спросить не у кого – Барановский уже на работу уехал. Может, в гостях оставил, может, бичу какому-нибудь подарил – по пьянке чего только не бывает. Сидит, мучается. Глаза к люстре не поднимаются, потому что с похмелья они к полу примерзают. Потерянное всегда ищут внизу. Потом дежурная пришла, сказала, что к телефону зовут. Обрадовался. Подумал, что ботинки нашлись. Нет. Срочно потребовался на турбине. Приспичило им, как дурной корове быка в ненастную погоду. Пришлось бежать к Толику, снимать с него разношенную обувь, газетку подкладывать, чтоб не потерять. Вернулся в номер, а там уборщица шваброй размахивает, что, мол, за безобразие, совсем с ума посходили, зачем грязные башмаки на люстру вешаете…
Михалыч извинился, что почистить забыл. Уборщица еще сильнее раскричалась.
А Барановский в глухую несознанку – не был, не принимал, не участвовал.
Михалычу мозги запудрить нетрудно. А Толика не проведешь, у него свое мнение, хоть и небольшое, но всегда при нем. Кто ботинки спрятал, тот и звонок с работы организовал. Если Михалычу на глупые шутки обижаться не к лицу, значит, слово за Толиком.
Обида остыть не успела, а случай отдать должок уже подвернулся. Шефов снова позвали в гости. Ушли вдвоем, а возвратился Барановский один. Сказал, что Михалыча развезло и пришлось оставить его у друзей, чтобы тот с дури в вытрезвитель не попал. Презрительно так процедил. А Михалычу, грешным делом, случалось залетать, по слабости здоровья. Но разве можно над этим смеяться? Сам-то Барановский хлестал в три горла, и все ему сходило. Крепкий мужик, ничего удивительного, но зачем так издевательски говорить о человеке, у которого вся крепость не в тело, а в мозги ушла. Такого Толик простить не мог и решил выровнять шансы. Взял грех на душу. Сбегал на почту, позвонил оттуда в вытрезвитель и сказал, что в гостинице, в двадцать третьем номере, бузит пьяный мужчина… Грязное дело – донос, но накипело, жажда справедливости мозги затуманила.
Заботливая милиция, конечно, приехала, но не сразу, а через полчаса, если не позднее. Ткнулись в указанный номер – заперто. Поинтересовались у соседей. Те подтвердили – да, шатался пьяный, но куда-то пропал. Искать, разумеется, не стали, такого задания не было. Выходят на крыльцо и нос к носу встречаются с Михалычем. Будь они в хорошем настроении, могли бы и не забрать. Он уже проспался, никого не цеплял, песен не пел, разве что походка слегка неуверенная была. Но людей посылали забирать, порожняком возвращаться обидно, и вдруг добыча сама в руки идет, тем более что клиент не буйный.
А Барановский преспокойненько допивал в собственном номере, и не один, а с девицей. В дамах он разбирался лучше, чем в электричестве. Умел найти ключик к потайным замкам. У Толика, естественно, черная зависть – почему самые яркие бабы достаются прохвосту Барановскому, а не его Михалычу. Где справедливость?
Шефа из вытрезвителя выкупил, а сам запил. Вглухую. На четвертый день кончились деньги, но он вспомнил, что на почту должна прийти зарплата. Ума не приложу, как ему отдали перевод. Пьяных они обычно отправляют проспаться. Никакие уговоры не действуют. Видно, сумел притвориться трезвым. Деньги получил. А дальше начались чудеса.
Я оказался первым, кого он встретил после почты. Влетел в номер бледный, в поту, за руку меня схватил, говорит шепотом и озирается, чтобы кто-то нежелательный не подслушал.
– Представляешь, – говорит, – получил сейчас перевод, в общем-то, копейки, аванс высчитали, алименты взяли… осталось на питание до конца командировки да на обратный билет – вот и все капиталы. Выхожу на улицу, слышу, кто-то окликает. Поворачиваю голову, а на плече у меня чертик сидит. «Пойдем, – говорит, – Толик, выпьем и пельмешками закусим». Я ему объясняю, что денег нету. А я в натуре хотел завязать: сколько можно, перед Михалычем неудобно, его за мои прогулы взгреть могут. А черт не верит. Я ему честное слово даю. А он меня стыдит: «Как тебе не ай-я-яй, засунь руку в левый карман, там у тебя семьдесят четыре рубля». Представляешь, знает, куда положил, и знает – сколько. Значит, пас меня от самой кассы. И не только зубы заговаривает, так еще и подталкивает, чтобы я к пельменной повернул, а дорога оттуда через парк, без фонарей, знает, куда заманивать. Да не на того нарвался. Я – хлоп его кулаком. А он, как боксер, плавненько в сторону корпусом ушел. И я – мимо. Врезал по собственному плечу. А он хохочет: «Схлопотал, жмотина несчастный, может, добавки желаешь?» И снова в хохот. И, что характерно, сам щупленький, а голосище, как у Муслима Магомаева. Что оставалось делать? Только бежать! Здесь уже не до гордости. Но сначала удостоверился, что деньги целы. А потом – дёру…
Смотрю на него: смешно рассказывает, а смеяться боюсь. Не до шуток мужику. Хорошо еще, у меня пиво было, правда абаканское, но здесь уж не до капризов. Прими, говорю, успокойся. Выпил две бутылки подряд и вроде как в себя начал приходить, но вдруг спрашивает:
– А может, он сквозь одежду видит?
Снова черта вспомнил. Пришлось еще пару пива открывать. Кое-как успокоился. А потом уже признался, как хотел за Михалыча отомстить и что из этого получилось. Просил никому не рассказывать. Я, конечно, молчал.
А теперь время прошло, судьба по разным городам развела. Да и жив ли… Его хоть и называли Толиком, как молодого, а мужику и тогда уже полтинник был, если не больше.
Флюс
Хороший специалист без придури – вроде как и не совсем хороший. Философы давно сказали, что у каждого специалиста должен быть свой флюс. Встречал я мужиков, которые крепко знали дело, а флюса не имели… и никакого им почета, никакого уважения. Начальство, разумеется, на них ездило, но настоящей народной любви не наблюдалось. Народу в тонкостях ремесла разобраться нелегко, попробуй высмотри эти тонкости, а флюс – он сразу в глаза бросается.
Был такой турбинист Гуменюк. Рядом с Михалычем его, конечно, никто не ставил. Работал мужик нормально, что положено – делал. Однако авторитетом не пользовался. Собственную правоту каждый раз доказывать приходилось, даже своим слесарям. Характер от такой жизни не улучшается. И потому, если было что выпить, собутыльника находил, а вот опохмелиться… не приносили.
Так и тянулось, пока не случился скандал. Пускал Гуменюк на гидролизном заводе турбину. Жил в общаге для молодых специалистов и малосемейных работников. Производство химическое – молодые специалисты в основном женского пола. Ну и забрел к одной Наташе из центральной лаборатории. Не красавица, но лет на двадцать моложе Гуменюка, года еще после института не отработала. В зачуханном полупьяном городишке и поговорить-то не с кем, а тут ведущий инженер из краевого центра, слово «пардон» знает. Он под мухой, она под газом. Он – мужчина, она – женщина. Без разговора не разойтись. А о чем может разговаривать стареющий кобель? О своих достижениях: о том, как его ценят на службе, о зарплате, о благоустроенной квартире в центре города – чем еще охмурять провинциальную простушку. На одиночество поплакался. Посочувствовал ей, вынужденной гробить молодость в такой дыре. Предложил перебраться к нему. Короче, соловей кукушку заманил в избушку. Ему понравилось, а ей – не очень. На следующий вечер дверь была заперта, и Наташа в ответ на его заговорщицкий стук с базарной откровенностью отослала его к жене в город Канск. Недооценил. Перенадеялся на женскую легковерность. А Наташа успела днем перетолковать с комендантшей и заглянуть в его паспорт. Узнала, что у женишка и супруга имеется, и двое детишек большеньких, и прописан он вовсе не в краевом центре, а в Канске. Одно захолустье на другое менять – только время терять.
Гуменюк в дверь колотится, просит, чтобы впустила на минуточку, обещает все объяснить. На что надеется – непонятно, козырей на руках никаких, все карты засвечены – тридцать три процента алиментов и койка в общаге: таких королей даже шестерками бьют, не говоря уже про валетов. Дверь на замке. Соблазнитель не отступается. Ну и довел девицу, выдала мужику, что он, ко всему прочему, и в постели ничего не стоит. Удар ниже пояса. Не каждый такое без наркоза выдержит. Плюнул Гуменюк на дверь и побежал к себе в номер заливать рану. А спирт – лекарство коварное. Боль сначала вроде бы и замолкает, но если передозируешь – оживает снова и набирает бешеную силу. А как найти точную дозу, если перед тобой целая канистра бесплатного спирта? Он, разумеется, усугубил и, уже ничего не соображая, отправился на новый приступ. Колотил руками и ногами. Соседей переполошил. Пускаться в переговоры с разъяренным командированным никто не отважился. Вызвали милиционера. Гуменюк сержантские погоны увидел и сразу в позу – понимают ли, с кем имеют дело? Да он!.. Да у него!.. Потребовал, чтобы к телефону допустили. Мужик представительный, наглый. Сержантик, чтобы не усложнять службу, на всякий противопожарный разрешил позвонить. Гуменюк набрал номер директора и предъявил ультиматум. Стрезва такое не придумаешь, а тут, под строгим взглядом милиционера, отступать было некуда, вот он и выдал – если эту тра-та-та не выгоните с работы, турбоагрегат останется разобранным!
И как вы думаете, чем ответил директор?
Уволил Наташу.
Да не пугайтесь – обошлось без тяжело пострадавших. Забавнее того – все оказались в плюсах. Директор избавился от не очень ценного работника. Наташа на два года раньше срока возвратилась в родной город Калинин. Гуменюк выкрутился из щекотливой ситуации.
Такие истории на месте не залеживаются. Подробности дошли до конторы.
Как встретили?
Да по-разному: одни посмеивались, другие морщились – не совладал с бабой и побежал жаловаться директору, не самый мужской поступок. Но кто-то и восторгался – сумел себя поставить, оценили как специалиста. Короче, прославился. Хотя запашок у славы не совсем чистый.
Кстати, о запахах. Есть такая красивая сильная птица – гуменник, проще говоря – дикий гусь. Гуменюк утверждал, что его фамилия оттуда и произросла. Может быть, и так, но на русский слух Гуменюк – он и есть Гуменюк, и ничего с этим не поделаешь. Хотя наверняка можно найти какие-то книги и все доказать.
В другой конторе поговорили бы и забыли, но среди наладчиков турбин, где каждый второй считает себя великим специалистом или хочет им стать, – там свои расценки. Шепотки о неудачном кобеляже понемногу стихли, стерлись, зато в полный голос зазвучало, что специалист поставил директору условия, и тот никуда не делся. Чем дурнее и наглее ультиматум, тем выше цена специалиста.
Я вроде говорил, что наружность у Гуменюка была очень даже солидная, так что слава пришлась к лицу, словно все время при нем находилась. Принял почетное место как должное. Давно ли вроде сидел и помалкивал в тряпочку, а тут заговорил, и все слушают. Заговариваться начал, чушь пороть – никто не возражает. Капризничает – терпят. Ну а дальше, как в песне – под солнцем родины мы крепнем год от года. Чем старее турбины, тем ценнее турбинисты. Но не будем превращать пьянку в планерку. Постараюсь ближе к сути.
Пришел вызов из Забайкалья. Должен был лететь кто-то другой, но Гуменюку захотелось омулька. И ему уступили. Кто-то обиделся, начальство завиляло… в общем, некрасиво получилось. Да не зря говорят, что бог шельму метит. По дороге забарахлила погода. Сухим слякоть не переждешь. Гуменюк начал в аэропорту, в гостинице продолжил. При большой массе да с хорошим разгоном остановиться непросто. Самомнение крепчает, а тормоза слабеют. День пьет, два пьет… А турбина стоит. Лампочки по вечерам еле теплятся. Местные чины телеграфируют в контору. Им отвечают, что специалиста давно отправили. Звонят в гостиницу. Там подтверждают, что прибыл, заодно и подробности пребывания доносят. И тогда директор лично отправляет посыльную с запиской: «Товарищ Гуменюк, комбинат на грани остановки, убедительно прошу приступить к ремонту агрегата». Посыльная прискакала в гостиницу, нашла нужный номер, но вместо великого специалиста, от которого зависит работа всего комбината, увидела пьяного мужика в семейных трусах. При нем и человек был, надо же кому-то о подвигах вещать, слушатель при запое – важнее гонца. Увидел Гуменюк красивую молодую буряточку, глазенки загорелись. Велика у пьяного потребность донжуанова. Человеку приказывает собираться и бежать за шампанским, а сам к посыльной, тянется мягкие места потрогать. Девчонка его по рукам. После выяснилось, что она племянница директора. Да хоть бы и дочка уборщицы – зачем ей замшелый пень нужен, она еще в том возрасте, когда о принцах грезят. Из объятий вывернулась и записку на стол. Гуменюк, опять же при человеке, при зрителе, так сказать, глянул в бумажку и размашистым почерком наложил резолюцию: видал я, дескать, тебя вместе с твоим комбинатом. Расписался и дату поставил – все, как положено в деловой переписке.
Будь директор подурнее, отправил бы в гостиницу наряд милиции, чтобы сопроводить остряка на пятнадцать суток, а этот, хитрец, приглушив уязвленное самолюбие, ради пользы дела положил записку в карман и с утра пораньше, в промежуток между старыми дрожжами и новой рюмкой, позвонил Гуменюку в номер и доходчиво объяснил, что, если через час не приступит к работе, копия записки отправится в партийную организацию, а вторая копия – в местные компетентные органы. Сказал и повесил трубку.
Через сорок минут Гуменюк был у него в кабинете. Побриться успел, галстук на шею повесил – замаскировался, называется. А директор ему:
– Я вас, кажется, к себе не вызывал?! Если не ошибаюсь, ваше рабочее место в турбинном цехе.
Гуменюк объясняться, а тот поднял трубку и велел секретарше пригласить следующего. Пришлось отступать. Попробовал вечером переговорить – даже в кабинет не пустили, зря только в приемной унижался. Занервничал герой. Чтобы записку назад заполучить, на все согласен. Если не принимают извинения, надо задобрить директора ударным трудом. Но не так-то просто. Без шефа, конечно, турбину не отремонтируешь, но и без слесарей не обойтись. А те все разнюхали. Узнали, почему он икру мечет. Скажи им кто-то другой, что шеф по пьяному случаю наложил резолюцию на директорскую записку и теперь его надо спасать, они бы сутками из цеха не выходили. Но шеф решил спасать себя сам и перестарался: перед чужими пресмыкается, на своих орет – кому такое понравится. И ради чего, собственно? Ради того, чтобы спастись от выговора по партийной линии. Такими заботами работягу на трудовые подвиги не вдохновишь, даже если спирту выпишешь.
А директор и не собирался отсылать эту записку. Никакого собрания, никакого выговора – все обошлось. Только слава рухнула. Начальство не тронуло, да не все от него зависит. У народа свои выговоры и свои премии. Был авторитет – и не стало. А поплясать на обломках желающие всегда найдутся.
Отвыкать больнее, чем привыкать. С полгода, наверное, помаялся бедняга и уволился.
Но не потерялся. Лет через пять разговорился я с парнем из Хабаровска, и тот стал хвастаться своим шефом. Такой, мол, лихой мужик, директора перед ним на цыпочках ходят: один хозяйку гостиницы по его требованию уволил, другой племянницу ему каждую ночь присылал, чтобы турбину вовремя пустил, а еще был случай, когда шеф загулял с молодой секретаршей, директор прислал ему записку, а тот поперек записки красным карандашом послал директора вместе с комбинатом…
Не Гуменюк ли фамилия твоего шефа, спрашиваю. У парня аж челюсть отвисла – откуда, мол, знаешь. Хотел ему подробности уточнить, да не люблю за глаза наговаривать.
Борман
О кошаре хочу рассказать.
В каких только общагах не довелось обитать: и в бетонных коробках, и в деревянных ульях, одни чем-то зацепились в памяти, другие напрочь выветрились, а эта въелась, вся перед глазами, во всей своей полуподвальной красе.
Вросший в землю по самые окна длинный барак с двускатной крышей. Правда, крыша высокая, на чердаке, при желании, могли бы еще ряд комнатушек нагородить. Над кошарой высокий чердак, а под ней глубоченный подвал, от пола до потолка метра два, если не больше. И все эти хоромы – в тридцати шагах от тюремной ограды. Анатолий Степанович уверен был, что подвал соединен с тюрьмой подземным ходом и в лихие годины там расстреливали. В свое время в этой тюрьме знаменитые люди сиживали. Сам Иосиф Виссарионович побывал в ней на пересылке и артист Жженов отметился. Обитатели кошары, садясь в такси, не упускали случая ошарашить невинной просьбой: «До тюрьмы, командир, добросишь?» Таксисты народ тертый, их трудно удивить, а пассажиры, случалось, паниковали. И знаменитая присказка «Живу возле тюрьмы, скоро буду сидеть возле дома» – была, разумеется, в ходу. Сам, грешный, пользовался и другие обитатели не брезговали. А народу через кошару прошло очень много и весьма примечательного. Я спрашивал Анатолия Степановича, почему общагу кошарой обозвали, а у него на каждый случай своя теория. Он басню Крылова напомнил: «Волк, думая попасть в овчарню, попал на псарню», и у нас, мол, похожая ситуация – прикидываемся овечками, а на самом деле псы, бездомные и одичавшие. А те, кто попроще, уверены были, что наша приземистая общага напоминает скотный двор, потому и прозвали ее кошарой. Обитали в ней наладчики и монтажники. Комнаты поуже занимала интеллигенция, а работягам достались два здоровенных номера с койками в три ряда. Но теснота на нервы не давила. Густо было только на Новый год, когда все из командировок слетались. А между праздниками случалось, что некоторые комнаты неделями пустовали.
Заселял меня Анатолий Степанович. Он, собственно, и в трест меня завербовал, и, как человек, привыкший доводить дело до конца, представил комендантше.
Примечательная, между прочим, бабенка. Под настроение позволяла себе уединиться с кем-нибудь в пустующей комнате и делала это легко, без нервных последствий, душераздирающих сцен и выяснения отношений. Память после свиданий оставалась, но зыбкая, как сладкий сон. Знавал я женщин легкого поведения с очень тяжелым характером, а у этой и характер был воздушный, и к делу относилась играючи, и все ладилось. Понимала, что мужики устали после долгой командировки, и закрывала глаза на некоторые вольности. И вахтерш набрала безобидных. Документов с гостей не требовали: кто приходит, когда уходит – вроде как и не замечали. И, кстати сказать, ни воровства, ни крупных драк в кошаре не было. Милиция, может быть, и не подозревала о существовании этой общаги.
В комнате Анатолия Степановича свободных мест не было, поселили меня с монтажниками, но отметить новоселье сели у него. Я собрался бежать в лавку, но он притормозил. Выглянул в коридор и крикнул: «Борман!» Не успел присесть, а в комнате возник белобрысый мужичок и остановился у порога. Анатолий Степанович молча протянул деньги, а тот, ни слова не сказав, толкнул задницей дверь и растворился. Я вроде и понимаю, о чем речь, вернее, о чем молчание, но все равно как-то непривычно, слишком отработанная процедура. Анатолий Степанович поясняет:
– Через двадцать минут будет подано. Никчемное вроде создание, работать не умеет и не хочет, уволили за прогулы, а из кошары не гонят. Не можем без него. Особенно незаменим после семи. Социально полезным людям не продают, а ему – пожалуйста. И ночью может добыть, причем гораздо дешевле, чем у таксистов. Только ждать приходится подольше. Подозреваю, что источник в районе базара, но свою коммерческую тайну Борман не открывает. Имеет право. Ночью зовут от безвыходности, а днем из пижонства. При этом себе забирает только мелочь. Принесет, например, бутылку за три шестьдесят две, а ты дал пятерку – рубль отдаст. Ну если, конечно, гусарский жест позволишь – не настаивает. И обязательно поблагодарит. Так что можешь пользоваться услугами. Он никому не отказывает: ни прорабам, ни шеф-инженерам, ни слесарям – должность его не смущает.
Вводный инструктаж выслушал, перекурили, и гонец подоспел. Прошел к столу, вытащил бутылку из внутреннего кармана куртки, крутанул ее в воздухе, бутылка сделала сальто и улеглась в ладони так, что ее донышко оказалось на уровне мизинца, и мягко водрузилась на центр стола. Борман сдернул пробку. Плеснул в стакан граммов пятьдесят. Выпил. Пожелал приятного аппетита. И ушел.
Анатолий Степанович ухмыляется, доволен представлением.
Я спросил:
– Почему Борман?
– Понятия не имею, – говорит. – Может, чуточку похож на Бормана из «Семнадцати мгновений», но глаза выдают, что бабушка с хакасом согрешила. Кто-то ляпнул сдуру, вот и прилипло. Правильнее было бы назвать не Борманом, а Барменом, но логика у кличек не всегда прямолинейна. Разве что у обидных прозвищ, а его жалко обижать. Я специально умолчал о подробностях его возвращения с добычей, чтобы ты мог насладиться представлением.
– Он что, всегда так? – спрашиваю.
– Четко по регламенту: принес, плеснул себе на донышко и ушел. Никогда не лезет в чужие разговоры. Я предлагал ему выучить стихотворение, коротенькое, но в тему, есть у Василия Федорова подходящее, про опохмелку, выписал ему на бумажку, он выучил, но к столу не подает, говорит, что стесняется, а мне кажется, что из гордости, не хочет пользоваться подсказкой, может, и авторское самолюбие разыгралось, сам же номер придумал – чувства макси, средства мини, остальное перебор.
Мне показалось, что Анатолий Степанович слишком усложняет, но насчет перебора спросил. Если с утра начинать, то к вечеру и набраться можно?
Успокоил.
– Редкая разновидность алкоголика, никогда не бывает пьяным. Ни разу не подвел. Если девушку привожу, я иногда специально его вызываю. На некоторых производит полезное для меня впечатление.
Потом, когда уже допивали, рассказал, как проверку на выносливость устроил. Привел интеллигентную даму, очень раскованную и рискованную. Выпивки не хватило. Позвал Бормана. Пока тот ходил, рассказал гостье о его стойкости. Дамочка засомневалась и предложила устроить экзамен. Вытащили из шкафа одежду, затолкали ее под кровать. Как только Борман постучался, Анатолий Степанович залез в шкаф, дамочка прикрыла за ним дверцы и стул приставила, чтобы они нечаянно не распахнулись. Замаскировала и пошла впускать Бормана. Одета была в мужскую рубашку на голое тело. Ноги длинные, грудь высокая. Рубашка не застегнута, просто запахнулась и полу рукой придерживает. Мужичонка прошел к столу. Она объясняет, что хозяин вышел в душ, вернется минут через двадцать. Говорит с придыханием и как бы нечаянно поднимает руку. Рубашка распахивается и перед робким взором открывается красивая порнография с налитой грудью и курчавым треугольником. Как раз в тот момент, когда Борман принимал свои заслуженные пятьдесят граммов. Дверцы у шкафа веселая подружка закрыла плотно, видеть эту картинку Анатолий Степанович не мог, но слышал, как бедный Борман поперхнулся водкой.
А искусительница шепчет: «Не уходи, он еще долго мыться будет».
Закашлялся, зажал рот ладошкой и в бегство. Устоял или испугался потерять место? Скорее второе. А красавица в распахнутой рубашке долго еще стояла перед глазами, это уж наверняка.
Говорили, что и он приводил каких-то бабенок, но очень редко. А ночевал постоянно в кошаре, свободная койка всегда находилась.
Старенькие вахтерши его ценили и подкармливали. Мог подменить и на час, и на четыре, а потребуется, и на ночь. Да и мужики не обижали. Случалось, подвыпившая компания зазывала присоединиться к застолью – отказывался. Держал дистанцию.
Потом исчез. Зимой. Время, не самое удобное для бичевских кочевий. Правда, перед этим его обидел турбинист Гуменюк. Выпивал с какой-то теткой. Послал Бормана за добавкой. Тот исполнил все, как по инструкции: принес, поставил, выпил свою дозу и направился к двери. А Гуменюк вдогонку: «А ну-ка вернись, возьми стакан и вымой после себя».
Молча взял стакан, сходил на кухню, вымыл.
Утром Гуменюку подлечиться надо. Без опохмелки он не мог. Крикнул Бормана. Дал на бутылку. А тот ушел и не вернулся. Гуменюк бегает по общаге, заглядывает в комнаты, изуродовать грозится. Добрался до монтажников, а те всей бригадой возвращение из Якутии празднуют, второй день гуляют. Тоже Бормана откомандировали, а им на опохмелку и пяти бутылок недостаточно. Гуменюк сразу рассудил: дескать, набил, бичара, карман и в бега ударился. Мужики урезонить пытаются, рублевками большая куча, а пересчитать – и полсотни не наберется, на такие деньги далеко не убежишь. Гадают, что же могло случиться, уж не попал ли куда. Гуменюк сдуру рассказал, как заставил Бормана мыть стакан. Чистоплотность его монтажники поняли по-своему и чуть не вломили, еле ноги унес. А Бормана ждали, ждали и почти собрались догонять, да не знали, в какую сторону отправиться.
А где-то через год Анатолий Степанович встретил его в Ачинске, возле гастронома. Выпивку для кого-то брал. На работе, можно сказать, застал. Окликнул. Расспросил. И все прояснилось. Борман сбегать не хотел, просто возвращался с водкой, поскользнулся и так неудачно шмякнул сумкой об лед, что все бутылки вдребезги. А появляться перед похмельными монтажниками с пустыми руками и без денег не отважился.
Правда или нет? Не знаю.
Есть подозрение, что встречи не было, Анатолий Степанович сам придумал ее.
Инженер Клиндухов
Был анекдот про три степени деградации инженера. Первая – когда он забывает высшую математику, вторая – когда забывает, как считать на логарифмической линейке, и третья – когда начинает носить ромб. Валера Клиндухов ходил с ромбом. Не мне судить о высшей математике, но в деле своем он разбирался, ни напарники, ни заказчики не жаловались. Может, потому, что на объекте появлялся в спецовке, а ромб красовался на парадном костюме? Хотя и без него выглядел очень представительно: высокий брюнет с глубокими залысинами, в очках и при галстуке. И заикался очень интеллигентно. Не помню, говорил или нет, если повторяюсь – извините, но заметил я одну весьма неожиданную особенность: заики ухитряются уболтать женщину намного быстрее завзятых краснобаев.
Не обращали внимания?
А вы понаблюдайте при случае.
В тресте он появился задолго до меня. И прославился, пока еще в молодых специалистах числился. Послали его с кем-то пускать шагающий экскаватор. Парни грамотные, самоуверенные. Каждый предлагает свою схему. Заспорили, к общему знаменателю прийти не могут. В разгар баталии Клиндухов возьми и заяви:
– А ч-ч-чего м-мы сп-порим? У к-кого аг-греат б-больше, т-тот и нач-чальник.
Как словом, так и делом, приспустил брюки и продемонстрировал свое внушительное мужское достоинство. Может, и не было такого, но байка прижилась. Напарник тот давно уволился. Опровергать некому. Сам Клиндухов предпочитал рассказывать о своих любовных подвигах, а о производственных помалкивал, считал это само собой разумеющимся.
Кстати, клиндух, если кто не знает, – это дикий голубь. Так что Валера – человек с пернатой фамилией, как мой знаменитый прапрапрадед Лука. В свои семейные легенды я его не посвящал, все равно бы не поверил. О том, что Мудищев родился Орловым, он не подозревал. Но тем не менее кое-какие хитрости Луки усвоил и при знакомстве с женщинами частенько представлялся Голубевым. С одними ради конспирации, с другими – чтобы романтического тумана подпустить. Да и звучит приятнее, более располагает к сближению. Птица мира и любви.
Но голубь – прирученная птица, а клиндух – дикая.
Жить в общаге ему не нравилось. Очередь на квартиру длиннущая. Сидеть сорок лет, чтобы высидеть сорок реп, у него терпенья не хватало, поэтому Валера искал себе благоустроенную невесту. Везде искал: на улицах, в цехах, в ресторанах, даже в театр музыкальной комедии ходил. Уверял, что в драмтеатре и ТЮЗе интересующих его женщин не бывает. Драматические театралки сами ищут мужей с квартирами, а в музкомедии дамочки намного ухоженнее и телом богаче. Искал не покладая рук, ног и всего прочего, но выбрать не мог, всегда находился какой-нибудь изъян.
– Представ-вляешь, – говорит, – ш-шик-карная д-д-дама, д-двух-хком-мнат-тная кварт-тира в-возле в-вокзала, а с-сануз-зел сов-вмещенный.
У другой претендентки сортир с ванной раздельные, а квартира в Черемушках, у третьей – на первом этаже, холодная и паркет скрипучий, у четвертой – к площади не придерешься, а телевизор – черно-белый. Весь в раздумьях, весь в терзаниях. Пока мается, дамы других кандидатов заводят. Он пятую находит, потом – десятую и так далее.
В нашем тресте одиноких женщин тоже хватало. Но они Клиндухова всерьез не воспринимали. Слишком хорошо знали. А после истории со стенгазетой при воспоминании о нем крутили пальцем у виска.
Седьмого ноября и Первого мая нас, как и положено, выводили на демонстрацию, а праздники рангом пониже обходились стенгазетой. Но тоже в обязательном порядке. Начальство назначает ответственного, ответственный ищет исполнителей. Всю эту братию вроде как и выбирают, но из определенного контингента, из желающих быть поближе к начальству.
На меня не давили: рисовать не умею, пишу с ошибками, большим уважением к начальникам не заражен. Не беспокоят, я и доволен.
Валера Клиндухов умел рисовать, стишок мог сочинить и сам напрашивался в редколлегию, но не брали – хлопотно с ним. Тогда он решил выпустить свою стенгазету и повесить ее не в общаге, а в тресте на видном месте, чтобы весь коллектив порадовался. В отличие от редактора, который сооружал ее наспех в предпраздничные дни, Клиндухов творил не торопясь. Два листа ватмана в командировку взял, побоялся, что на руднике может не оказаться, и коробку цветных карандашей купил. Так получилось, что мы оказались на одном объекте. И Анатолий Степанович в той же гостинице проживал. Валера увидел его и очень обрадовался. Из меня в его художествах помощник никудышный, а с Анатолием Степановичем всегда можно посоветоваться и дельную подсказку получить.
Расписываем воскресную «пулю». Валера заглядывает.
– Рифмы придумал, – говорит, – а стихотворение к ним не складывается. Вот послушайте: Снегурочка, дурочка, постель, канитель.
У нас игра хоть и полкопейки за вист, но проигрывать никому не охота. Сидим, варианты считаем, а он с ерундой пристает. Кто-то психанул, послал его, куда Макар телят не гонял. Валера в недоумении – преферанс для него баловство, а вдохновение штука хрупкая. Смотрит на Анатолия Степановича, не уходит. Тому деваться некуда, советует:
– Зачем балластом отвлекать. Краткость сестра таланта. Пусть будет, как родилось. Только местами переставь. Сначала постель, канитель, а потом Снегурочка, дурочка.
По лицу видно, что не понравилось, но поблагодарил, а минут через пятнадцать возвращается и читает новое:
– Прекрасная Снегурка, точеная фигурка. А у снежной бабы талия, как у жабы.
Мы хвалим, чтобы отстал и не мешал играть. Только ему наши похвалы, как пятые углы. Он в поиске. Его совсем другой азарт гонит.
Со Снегурочкой разобрался, принялся сочинять новогодние пожелания для каждого отдела. Которое киповцам я даже запомнил: «Надо экстренно повсюду автоматику внедрять, чтоб давление вручную женщинам не поднимать». С намеком якобы. И турбинистам – с намеком, и химикам, и своим электрикам что-то про возбудитель завернул. Все его намеки в одном направлении, но это уж у кого чего болит…
Деда Мороза нарисовал похожим на управляющего трестом. Не фоторобот получился, но узнать можно: очки, лысина – не перепутаешь. У Снегурочки родинка на щеке, как у кассирши, и в руках пачка денег. Остальных женщин расположил пирамидой в виде елки. Все в купальниках. На вершине пирамиды начальница химлаборатории. Узнать трудно, но если мензурка на голове, значит, химичка. Бухгалтерша счетами интересное место прикрывает.
Всю командировку трудился. Ни в кино, ни по бабам. Дорисовал, раскрасил. Упаковал в «Советский спорт», а чтобы не помялась, – видели, как шину на сломанную руку накладывают, – так и он: соорудил каркас из реек и обмотал изолентой.
Из командировки вернулись тридцатого, а тридцать первого Клиндухов приехал на работу раньше всех и вывесил свое творение рядом с доской объявлений. Мимо не пройдешь. Народ толпится, гогочет, комментирует. Женщины подходить стесняются, но откуда-то знают, кто и в каком виде там нарисован. Главбухша – дама суровая, с юмором у нее тяжеловато, прибежала к Валериному начальнику и пригрозила написать заявление в профком. Тот выслушал, насупил брови и пообещал загнать негодника на самый далекий объект, куда-нибудь в Заполярье, где нет ни женщин, ни вина. С вином он, конечно, загнул, потому что в те годы таких объектов не существовало. А сам герой то и дело выглядывал в коридор полюбоваться благодарными читателями. Смотрел издалека, подойти скромность не позволяла.
Газета провисела до обеда и пропала. Пошли узнать у секретарши. Та объявила, что начальник приказал снять. Против лома нет приема.
Те, кто припоздал, довольствуются пересказом. Возмущаются: с каких, мол, пирогов, стенная печать цензуре не подлежит.
А день-то предпраздничный. Народ соленые огурчики из сумок достает, сальцо режет, апельсины чистит. В отделах выпивать нельзя, застукать могут, поэтому у каждой группы свой бункер: кто в электролаборатории, кто в гараже, кто в слесарке… Я тоже собрался, но вспомнил, что фотографию на новое удостоверение забыл отдать. Захожу к секретарше, а ее нет. Их компашка обычно у кладовщицы праздники отмечала. Иду на склад. Дверь не заперта. Захожу, а там весь женский цветник газету изучает, и пока меня не увидели, никто не возмущался. А потом уже, конечно, в позу встали – как ему не стыдно, безобразие, пошлость и так далее.
Я тут об очереди заикнулся. Длинная, чего уж там говорить, однако не безнадежная. Те, которые вместе с Валеркой молодыми специалистами пришли, все-таки получили свои каморки. Высидели. Это не в магазине, когда можно встать, дождаться, когда за тобой займут, и убежать по своим делам, а потом вернуться, когда перед тобой пара человек осталась. Здесь после возвращения занимаешь заново в самом хвосте. А Клиндухов убегал каждые два-три года. Союзные республики завоевывал. В Прибалтике поработал, в Молдавии, в Средней Азии. На Кавказ не стремился – тамошние нравы не располагали к поискам. Но родной трест не забывал. К Дню энергетика и к Восьмому марта обязательно присылал открытку. Один раз из Крыма отправил одновременно десяток телеграмм. Одну, как всегда, в бухгалтерию треста, остальные на домашние адреса старым работникам, с кем начинал. Всем одинаковые четыре слова: «Снялся кино скоро увидите». Думали, шутит. Оказалось, взаправду. Ребята видели. Он там командированного сыграл. Снимали в гостиничном номере. Мужик, в семейных трусах по колено, просыпается, пошатываясь подходит к стулу, на котором висит пиджак, ищет в карманах бумажник и не находит. Возвращается к койке, загибает матрац, обрадованно хватает бумажник, заглядывает в него и болезненно кривится. Лицо крупным планом показали. Наш человек, безо всякого грима, ни с кем не спутаешь. Лицо несчастное, убитое горем. Сразу видно, что содержимое бумажника сильно расстроило. Сел на кровать, переживает, что слишком много пропил. Из-под длинных трусов тонкие волосатые ноги торчат. Носки на полу валяются, и галстук рядом с ними. Помните, пластиковые галстучки были, на резинке, чтобы не завязывать, – именно такой. Посидел, помотал головой, потом достал из портфеля кипятильник, налил в кружку воды из мутного графина, а перед тем, как включить кипятильник, подложил под кружку папку со схемами.
Правдоподобно получилось, может, даже и лучше, чем у настоящего актера. А почему бы и нет? Сам себя изображал. Мужикам нашим особенно понравилось, как он бумажник из-под тюфяка доставал и папку под кружку подкладывал. Это чтобы белого круга от горячей кружки на тумбочке не осталось. Портфель, между прочим, тот же, с которым у нас ходил, здоровенный, разношенный, в него семнадцать бутылок пива умещалось. И пиджак с ромбом тоже его. Кстати, в кино попал уже второй ромб. Первый у него украли. В поезде свинтили. Полгода парень переживал. Потом купил. Два литра водки не пожалел.
В бегах он долго не задерживался. Год, от силы полтора погастролирует – и возвращается. Первый раз приняли без разговоров. Готовые специалисты на дороге не валяются. Во второй раз на его поздравление с Днем энергетика начальник отдела сам отправил телеграмму и предложил вернуться – работы навалилось много, а опытных электриков не хватало. Даже подъемные заплатили. А на третий раз, когда возвратился после актерского дебюта, начальник решил покуражиться и заявил, что может принять только старшим техником. Поставил на одну доску с зелеными пацанами. Обидно, конечно, получить щелчок по носу, когда тебе давно за тридцатник перевалило. С другой стороны, сам виноват. Да и деваться некуда. Согласился.
И вот едет он с этим самым начальником на ТЭЦ. На трамвае телепаются. А езды больше часа. Клиндухов смотрит в окно и не на каждый дом, конечно, но довольно-таки часто показывает пальцем и объявляет:
– В этом им-м-мел, н-на п-пятом эт-таже… в этом н-на т-т-третьем…
Начальник посмеивается. Верить не обязательно, однако хоть какое-то развлечение. Полдороги проехали, Валера больше десятка домов пометил.
– В этом н-на ч-чет-тверт-том.
Начальник хвать его за руку.
– А в каком подъезде?
– В п-первом.
– А как зовут?
– Р-рита.
– Маргарита, значит? – переспросил начальник. – Из первого подъезда?
И тут Клиндухов понял, что сболтнул лишнего.
И по заячьему следу на медведя нарываются.
Но все обошлось без мордобоя. После переговоров на ТЭЦ начальник пригласил его в пивную и поделился человеческой драмой. Дружок у него встретил первую любовь. В молодости добивался, но безрезультатно. Женщина была постарше, смотрела на него свысока. Поиграла с месяц и посоветовала забыть. Деваться некуда, мальчик смирился, но не забыл. Неразделенная любовь способна гору своротить. В большие начальники выбился, на черной «Волге» разъезжал. Женился, двух сыновей родил. И вдруг встретились. Матерый мужик и стареющая красотка. Думал, что перегорело, ан нет. Воспылали чувства. Да так безудержно, что пламя на семейный дом перекинулось. А там двое сыновей: младшему три года, старшему – восемь. И жена симпатичная, верная, умная… Но мужик без тормозов. Собрался уходить. Лучший друг пытался образумить. Упрямого учить – что по лесу с бороной ездить. И вдруг нечаянная новость.
Он прямо при Клиндухове позвонил по автомату влюбленному товарищу, позвал в пивную и пообещал сообщить кое-что интересное.
Выяснять отношения с горячечным соперником Валера не хотел. Да и не соперничал он. Не в его привычках. Стал придумывать, как слинять. Начальник его тоже не мальчик, сообразил, что очная ставка может плохо кончиться, сам посоветовал не дразнить быка.
Потом поделился подробностями, куда кривая повернула, чем сердце успокоилось.
– Я, – говорит, – так ему и сформулировал: ты собираешься детей бросить ради бабенки, которую даже Клиндухов имел.
О Валере высказался в пренебрежительном тоне исключительно ради благородного дела, чтобы сильнее зацепить. Влюбленный прямо из пивной поехал выяснять отношения в злополучный первый подъезд. Выложил все, что узнал. А она ему заявляет: ничего, мол, с этим инженером не было, у него, дескать, не встал. Герой звонит своему доброжелателю и радостно передает, что Клиндухов обыкновенное трепло, ничего у них не было, потому что инженер оказался недееспособен. Но тут уже задели честь мундира. Валерин начальник такого стерпеть не мог. Высказал, без оглядки на старую дружбу:
– Во-первых, если до этого дошло, то поздно заявлять, что ничего не было. А во-вторых, не мог инженер Клиндухов оконфузиться, его дееспособность сомнению не подлежит, если потребуется, можно полгорода свидетельниц найти.
Виноватого бог помилует, а правого царь пожалует.
Поблагодарил он Валеру за благое дело и доблестный труд на ниве сохранения чужих семей и пошел к управляющему трестом выбивать в штатном расписании достойную должность для ценного специалиста. И выбил. В старших техниках Клиндухов и трех месяцев не просидел.
Правда, через год снова уехал.
Недавно встретил его. Стоит в спецовке на голое тело. Без ромба и без галстука.
– Ничего не понимаю, – говорит, – странный народ эти бабы. Давать – дают, а замуж не хотят.
Диссидент Лямкин
Анатолий Степанович навестил родное Забайкалье, а возвратился в дурном настроении. Я уже говорил, что дикие степи, где золото роют в горах, очень богаты народишком с кудрявыми биографиями. Вот и схлестнулся наш интеллигент с племянником Литвинова. Парень ссылку отбывал в Усуглях. Я, грешным делом, не только о племяннике, но и о дядюшке не слыхивал. Но Анатолий Степанович объяснил, что был такой малоизвестный революционер и знаменитый дипломат, ну а племяш задиссидентствовал и загремел кандалами. Про кандалы он, конечно, для красного словца брякнул. На вольное поселение выслали. С каждым может случиться. От тюрьмы да от сумы… Но вел себя опальный родственник дипломата, на взгляд Анатолия Степановича, не очень достойно. Гонору много, а толку никакого. От работы отлынивал, да и к делу не приспособлен. Сам Анатолий Степанович нежными чувствами к советской власти тоже не отличался, перефотографированного Солженицына читал. Только разговоры разговорами, а дело делом. Власть можно и не любить, но люди, которые тебя окружают, в заскоках властей не виноваты. Если один сачканул от работы, значит, добавил ее другому. А тот ему ничем не обязан. Но племянничку почему-то казалось, что серый сибирский народец только и ждал, когда благородный гость его осчастливит. Увидел Анатолий Степанович, как с его земляками через губу разговаривают, и разочаровался в новых декабристах. Бледновато племяш Литвинова выглядел на фоне Волконского, не говоря уже про Лунина. Не тянут советские барчуки против настоящего дворянства. И круг их узок, и страшно далеки они от народа. Намного дальше, чем декабристы. Может быть, дворянство и обращалось с народом, как со скотом, но скотом своим. А для этих народ – колхозный скот.
Не знаю, чем на самом деле рассердил московский племяш нашего Анатолия Степановича, может, просто бабу не поделили, но дыма без огня, сами знаете. Не будет же он наговаривать на хорошего человека, да еще и пострадавшего от властей. Не в его привычках лежачих добивать.
Тем более что подобный экземпляр в нашей общаге обитал, через комнату от меня. Не совсем такой же, местного разлива, но тоже диссидент. Чувствительный мужичонка. Во всем ущемление прав подозревал и постоянно стращал, что будет жаловаться в свободную западную прессу. И тоже благородных кровей. Якобы из… Слово-то заковыристое, без разбега не выговоришь. Сейчас… Из остзейских баронов. Если какие буквы переставил, извините. Дед его носил фамилию Лемке, а в Лямкина превратился отец, когда немцев из Поволжья в Сибирь переселяли. Дело понятное. Незавидная ситуация. Особого геройства от спецпереселенца грех требовать. Если, конечно, Лямкин не выдумал себе знатного дедушку. Очень уж не подходил он под арийские стандарты. И волосенки вокруг лысины не блондинистые, и росточком – метр с шапкой, а немцы, да еще и бароны, вроде как покрупнее должны быть. Но миниатюрность свою Лямкин объяснял голодным детством. Обижаться на власть у него были причины. А у кого их не было? Все зависит от человека. Одни свыкаются и не обращают внимания, а из иных обида во все щели брызжет. Дотронуться страшно. Того же Лямкина послушать, у него и в лесу волки, и зимой холодно, и летом жарко, а все по одной причине, во всем кремлевские куранты виноваты. Но теща для него, пожалуй, даже хуже советской власти была. Всю жизнь мужичку исковеркала. Разбила дружную семью, и пришлось солидному человеку вместе с нами в кошаре обитать. Правда, задерживаться в такой ночлежке он не собирался. Пребывал в постоянном поиске. Только искал как-то не по-мужицки.
Стоит разговориться, и начинает жаловаться на баб, что они сплошные дуры. Видят же, как свободный мужчина мается от одиночества, и ни одна не догадается предложить себя. Если сами не хотят устроить собственное счастье, так чего их жалеть. Кто им мешает выбрать подходящий момент и без лишних глаз и ушей предложить познакомиться поближе. Он ведь не алкаш какой-нибудь, и деньги у него водятся, и к семейным отношениям готов. Он ждет не дождется, а они кобенятся.
– Тогда почему сам не подойдешь и не предложишь? – спрашиваю.
– Что я, дурак? – говорит. – Я предложу, а она, корова, возьмет да и откажет. Лишний удар по самолюбию мне ни к чему.
– Может, им тоже не хочется удар по самолюбию получить, – говорю ему, – потому и не подходят.
Посмотрел на меня как на недоразвитого:
– Я-то не откажу.
С одними самолюбие сберег, с другими – потратил, а самолюбия не убыло, это не деньги.
Кстати, о деньгах. Работал он в отделе по технике безопасности. Зарплата небольшая и приработков никаких. Но это на мой взгляд. Один мимо пройдет, а другой найдет. Командировки у них не частые, но случались. Надо же проверки на участках проводить. Народ в отделе в основном пожилой или женский. Мотаться по вокзалам и гостиницам без удобств желающих немного. А он всегда готов. С удовольствием даже. У него на участках свои резоны. Только не надо думать, что Лямкин любил потешиться инспекторской властью. Может, в глубине души и пряталось желание, но прорабы на участках – народ тертый, на них где сядешь, там и слезешь, если не слетишь. Он высмотрел другой интерес. Командировки-то у нас в основном по медвежьим углам, рудники да леспромхозы. А там снабжение намного лучше. Это в нормальное время купить, что вошь убить, а продать, что блоху поймать, только у нас все наоборот. Эпоха развитого дефицита, как называл ее Анатолий Степанович. В красноярских магазинах шаром покати. На базах, разумеется, все было, но дорога к этим базам в большом городе слишком извилистая и долгая. И к поводырям не подступишься. А на том же руднике если не энергетик, то механик может запросто позвонить или свести с нужным человеком.
Из командировок Лямкин возвращался с полными баулами. Косметику хватал, хрусталь, импортные тряпки, а если не везло, то и консервами затаривался. Тащил все, что на барахолке спрос имело. Впрочем, не знаю, ходил ли он туда. На барахолке ведь и замести могли. А вот в тресте постоянно бегал по отделам с пакетами в руках. Впаривал своим, нисколько не стесняясь. На работе безопаснее и личное время тратить не надо – научная организация труда.
Самым добычливым местом для барыг в те годы была Тува.
И вот сидим мы в Ак-Довураке. Неделю уже как приезд отметили, с окрестностями ознакомились, благо в степи ничего волнующего душу не встретилось, все силы тратим на доблестный труд. И тут заявляется Лямкин. В руке маленький портфельчик для документации, а за спиною абалаковский рюкзак, большой, но тощий. Сели вечером поужинать. У него единственный вопрос – где поблизости магазины и что в них? Из вредности докладываем, что пива в поселке нет, а гастроном рядышком. Понимает, догадливый. Но гордый. Если нам неинтересно про барахло, то ему неинтересно про пьянку и футбол, а про рыбалку тем паче. Но остается политика. И бабы, конечно, куда мы без баб?
На другой день возвращаемся в гостиницу, видим, что рюкзачишко у него пополнел, и настроение приподнялось, и местные порядки не так уж плохи, а главный механик вообще душевнейший человек – машину ему пообещал, по ближайшим деревням прокатиться.
С машиной что-то не срослось. Экскурсию перенесли на день. Но видно, что съездили небесполезно: рюкзак битком и сумка рядышком, вместительная, но еще не полная. Сумку, скорее всего, в рюкзаке привез, готовился. И не прогадал. Только радости почему-то не заметно, задумчивый какой-то. Но улов обмыть предложил, чтобы удачу не спугнуть. Выставил бутылку спирта, три банки мясных консервов открыл. Спирт, естественно, на работе добыл, угостили по случаю завершения проверки, а консервы магазинные, в деревне купил, в свободной продаже были, и недорогие. Нам предлагает взять у него по госцене. В городе тушенка по великому блату. Почему бы и не взять. До конца командировки почти месяц. Благодарим парня. Он машет рукой: не стоит, мол, благодарности, всегда рад помочь, с собой хотел увезти, да не подрассчитал, заехали в последний магазин, увидел там дубленку, а денег не хватает.
– Обидно, хоть вешайся, – говорит. – Всю жизнь мечтал, а тут вот она, протяни руку и забирай. Ни клянчить не надо, ни юлить, ни унижаться, отслюни паршивые рубли, и она твоя.
Так не надо было перед этим жадничать, говорим, и на рюкзак показываем.
– Если бы знал! – И со слезою в голосе добавляет: – Мне рассказывали, что в Туве нет советской власти, райское место, но я не предполагал, что увижу здесь дубленки в свободной продаже.
Разжалобил. Отдали ему деньги за ящик тушенки. И еще три сотни выпросил. Клялся, что вышлет сразу, как приедет в город. Телеграфом отправит.






