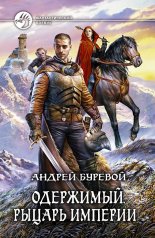Ведущий в погибель Попова Надежда

– Благодарю за заботу, – откликнулся он, – однако кость не закроется быстрее, чем ей полагается природой, рану ваш эскулап зашил, а количества крови в моем организме он мне не пополнит – разве что напоит собственной… Будьте любезны разбудить меня через час, Келлер. Это все, что мне нужно.
Раймунд фон Зиккинген опаздывал – вот уж с четверть часа Курт сидел в трактире, который оруженосец упомянутого рыцаря поименовал громким словом «гостиница», за столом в полутемной шумной комнате, каковая была названа трапезным залом. «Лиса и Гусь» оказался постоялым двором средней руки, куда более привычным Курту, нежели занятые нынешним утром покои или снимаемая прежде чуть менее роскошная комната; разумеется, здесь можно было нарваться на грубость со стороны разносчиков или равнодушие хозяина, кто-то из толпящихся постояльцев и посетителей мог наступить на ногу, не заметив этого, однако, в отличие от упомянутых заведений, здесь самым ходовым питьем было не вино, а пиво – на удивление пристойное и даже не пованивающее бочковой плесенью. Сидеть за столом просто так было нельзя, и майстер инквизитор неторопливо вкушал простой, без изысков, кусок жареной говядины, запивая все же не пивом, а, по совету лекаря, красным вином, вся дешевизна которого здесь ощущалась не только на вкус, но и на вид и запах.
Два соседа, оказавшиеся за одним столом с новоявившимся, дожевав свои порции торопливо и молча, испарились, и сейчас Курт пребывал в полном одиночестве, выделяясь из пестрой галдящей толпы, оккупировавшей прочие столы. Не заметить его или спутать с другим было нельзя – Знак, снова вывешенный поверх, сиял на ползала, однако Раймунда фон Зиккингена все не было.
Тот появился, когда Курт уже твердо решил, доев, покинуть трактир. Присев напротив, кряжистый, плотно сбитый воин аккуратно установил шлем подле себя, пригладив густо седеющие волосы, и уверенно предположил:
– Курт Гессе, инквизитор первого ранга. Ведете расследование касательно стрига в Ульме.
– Доброго дня, – пожелал он в ответ. – Вы задержались.
– Простите, – отозвался фон Зиккинген просто. – Не смог подойти раньше. Доброго дня, майстер инквизитор.
– Итак, – подбодрил Курт, когда в едва начавшейся беседе наметилось долгое затишье, – я есть я, и я действительно веду расследование. Собственно, оно почти закончено – стриг арестован.
– «Арестован»… – повторил тевтонец с невеселой усмешкой. – Как-то даже странно и непривычно слышать это обыденное слово в применении к такому существу… «Схвачен» – было бы как-то ближе к истине.
– Согласен. Протокольные тонкости, что поделать.
– Вам не терпится спросить, для чего я позвал вас на встречу, майстер инквизитор, – кивнул фон Зиккинген, оглядевшись вокруг, и чуть понизил голос: – С вашего позволения, я закончу обмен любезностями и перейду к делу, не стану отнимать ваше время понапрасну.
– Не буду возражать, – согласился Курт, и тот вздохнул, явно пытаясь произнести приготовленную заблаговременно речь, но не зная, с чего начать.
– Я хотел рассказать вам одну историю, – пояснил тевтонец, – а также задать один вопрос, на который вы, надеюсь, в благодарность ответите.
Рыцарь умолк в ожидании, и Курт тоже заговорил не сразу, глядя в тарелку с недоеденным обедом и пытаясь решить для себя, какое поведение надлежит избрать.
Ссорить Конгрегацию в собственном лице с тевтонским орденом было бы крупной ошибкой, а именно это и произойдет, если сейчас, как обычно, ответить, что информация, связанная с расследованием, разглашению не подлежит, а сам Раймунд фон Зиккинген обязан сообщить Святой Инквизиции все известные ему сведения. Эти угрюмые ребята Императору не подчинялись, владели собственными немалыми территориями, подмяв под себя всю Пруссию, вели собственные малые войны, заключали собственные договоры и, что немаловажно, занимали срединную позицию в споре германского трона и понтификата. По дошедшим до конгрегатского руководства слухам, когда авиньонский Папа впрямую призвал Верховного магистра в союзники, тот ответствовал, что орден оберегает христиан от язычников, и не более, и в политику вмешиваться не будет, в откровенной и прямолинейной манере заявив: «Тамплиеры впутались – и где они теперь?»…
Орденские рыцари строго блюли устав, граничащий с почти монашеским существованием, не влезая в околопрестольные экономические перипетии, наверняка помня все тех же тамплиеров, каковых слишком большое участие в мирских делах до добра не довело. Было время, когда орден начал хиреть, вовсе превращаясь в военизированный монастырь, однако в один прекрасный день им был заключен договор с польским королем, осаждаемым дикими языческими племенами, и эта возможность пустить кровь себе и другим явно пошла тевтонцам на пользу.
Кое-кто из этих одолеваемых религиозным рвением вояк открыто поддерживал Папу в Риме, кто-то столь же гласно заявлял о своих симпатиях Императору, однако, пока Верховный магистр блюл нейтралитет, все это оставалось не более чем личными предпочтениями каждого, не имеющими силы и значения, как, к примеру, белый или сизый цвет исподнего, нравящийся тому или другому. К какой из упомянутых сторон принадлежит его нынешний собеседник, Курт еще не определил; по поведению тевтонца сказать было ничего нельзя – даже обуреваемый жгучей ненавистью к Конгрегации, он не станет проявлять своей антипатии, затевать распрю или прочим способом вносить раздор в этот и без того грешный мир…
– Что ж, откровенно, – ответил Курт, наконец. – И дабы не вселять в вас ложных надежд, господин фон Зиккинген, быть может, начнем именно с вопроса? Сами понимаете, не мне выбирать, о чем я могу говорить, а о чем должен умалчивать.
– Хорошо; даже лучше, – согласился тевтонец, как ему показалось, с облегчением. – Вопрос, майстер инквизитор, такой: среди тех, с кем вам пришлось столкнуться в этом деле, не было ли… существа… со следующими приметами. Выше вас, быть может, на ладонь, темный блондин, даже, наверное, ближе к пепельному; глаза, соответственно, серые…
Глаза…
Его прежний цвет глаз теперь было уже не различить – сейчас радужка была льдистой, почти прозрачной. Однако, чем дольше Курт слушал, тем четче вырисовывался навсегда теперь запомнившийся образ того, кто держал его за горло в полутемном коридоре замка фон Люфтенхаймера и кто теперь стоял прикованным к стене в магистратском узилище…
– Вы опустили глаза и задумались, – оборвав сам себя, заметил тевтонец со вздохом. – Это значит – вы его видели… Скажите, сейчас он убит или ему удалось уйти?
– Ответить на ваш вопрос, – снова помедлив, отозвался Курт осторожно, – я пока не смогу. Поймите меня сами, господин фон Зиккинген, это дело не назовешь заурядным, и любая мелочь может иметь значение без преувеличений судьбоносное. Боюсь, вначале я попрошу вас таки рассказать историю, которую рассказать собирались.
– Понимаю, – легко согласился рыцарь, – я иного и не ждал. Однако вам придется набраться терпения, майстер инквизитор – история долгая и поначалу могущая показаться вам не имеющей к делу касательства.
– Слушать все, что мне рассказывают, – моя работа. Я готов выслушивать столько, сколько придется, хоть вечер и ночь напролет, если это важно, а я не думаю, что вы пригласили меня сюда ради семейных воспоминаний.
– В некотором роде так оно и есть, – чуть улыбнулся фон Зиккинген и посерьезнев, докончил: – И касается также дел нашего ордена, посему я был бы весьма признателен, майстер инквизитор, если вы не станете разглашать полученные сведения без крайней к тому нужды.
– Если это не будет крайне необходимо, – согласился Курт.
– Благодарю вас, – с достоинством кивнул рыцарь и, усевшись удобнее, повторил: – История долгая. И давняя. Она началась, когда наш орден держал границу меж нашими владениями и территорией соседних языческих племен. Жемайтские лесные племена, майстер инквизитор; вам и не вообразить, что там скрываются за чудовища. Человеческие жертвы их богам – это лишь часть того, что можно рассказать о них; часть – но часть немалая. Многие поедают своих пленников – судя по всему, не оттого, что таково их постоянное питание, а из соображений ритуальных. Мы видели, как сердце вырвали и стали есть прямо на поле боя, мы находили человеческие останки в их лагерях – недвусмысленного вида… Охрана границ была действием явно недостаточным, и мы продвигались вглубь, выбивая язычников из их поселений; если всего лишь отбросить их, они переводят дух, зализывают раны и бьют с новой силой, бьют с жестокостью, свойственной даже не всем идолопоклонникам, и жизнь всех, обитающих поблизости от рубежа, посему была просто невозможной. Я не стану похваляться, не стану говорить, что мы не несли потерь – все же лес, скалы, а то и болота, укрытая и чужая местность, которую мало захватить, – на ней надо ведь еще и закрепиться; однако мы продвигались. А однажды наткнулись на очередное племя – немногочисленное в сравнении с другими, не обученное; какая у них может быть выучка, сами согласитесь… Мы не разбили их сразу лишь потому, что не могли выследить место их обитания. Кругом были болота, в которых тропки меняются каждые полгода, и даже местные проводники не желали туда соваться. К тому же, это племя даже среди все тех же местных почиталось совершенно диким, и любому чужаку нечего было и надеяться возвратиться живым и целым из его владений. Мы били их, они отступали, после являлись снова, мы отбивались… Это продолжалось довольно долго. И вот однажды ситуация резко переломилась. Они стали… – на мгновение фон Зиккинген замялся, подбирая точное слово, и неуверенно договорил: – Не знаю, как и выразиться… Словно их подменили. Словно это были не какие-то лесные дикари, а – настоящая армия. Маленькая, плохо вооруженная, но армия. Со своей тактикой – весьма удачной, с использованием особенностей местности, собственных возможностей; возникало чувство, что ими руководит во всякую минуту боя единый разум. Словно некий полководец раздает им указания. Они наступали, точно по команде, и отступали, как будто получив на то приказ; причем не бежали – они отступали, слаженно и четко, перегруппировывались и нападали вновь или уходили так, что мы не могли их преследовать… И при том они стали втрое бешеней. Их надо было изрубить в куски, прежде чем они умирали или хотя бы прекращали сопротивление; стрелы, как то было прежде, их уже не брали – в ежах меньше игл, чем было в тех, кто, наконец, падал. Да, у дикарей слабая чувствительность к боли не редкость, они и прежде поражали и стойкостью, и мужеством, прости Господи, но такое – было слишком даже для них. Словом – вы меня понимаете, майстер инквизитор?
– Вполне, – коротко отозвался Курт, и тевтонец кивнул, продолжив:
– И вот, когда наша первая… не стану скрывать – растерянность… несколько сгладилась, когда мы попытались противопоставить их внезапному ратному таланту собственный – тогда мы увидели, чей именно разум повелевает ими. Мы видели человека, стоящего в отдалении, не принимавшего участия в бою, и ясно было, что он отдает приказы прочим. Но самое страшное заключалось в том, что эти прочие не могли его слышать. Его не могли ни увидеть, ни услышать хоть слово из его уст те, кто был в десятках шагах от него, окруженные криками, лязгом, шумом битвы; это было просто невозможно, но это было. Все повиновались его приказам, точно эти приказы произносились подле них.
– Малефик, – не предположил – констатировал Курт, и фон Зиккинген усмехнулся:
– «Малефик»… Знаете, майстер инквизитор, в этом слове есть что-то близкое, душевное… домашнее, что ли… Проще: колдун. Демон в человечьем обличье. Нечисть, способная напрямую внушить мысль человеческому разуму и (как знать), быть может, читать и наши мысли также, видеть заранее, где мы нанесем удар или развернемся. Мало того, отступив, через несколько дней дикари напали на наш форпост. Бывало, что и прежде особенно самонадеянные предпринимали подобные попытки, бывало, что доставляли при этом много неприятностей, однако потери не бывали большими. Но в ту ночь посланный на вылазку отряд полег целиком, и крепость едва выстояла – нас было немного. А их снова возглавлял тот человек. Мы попытались уничтожить его. Был приказ: игнорируя прочих, добраться до него, но – получившие этот приказ исполнить его не сумели. Они погибли еще до того, как приблизились к этому чудовищу, погибли не от стрел или их ножей, а просто умерли – умерли на месте.
– Но их атаку вы отбили.
– Отбили, но… Отряд, покинувший стены, погиб без остатка, а один из братьев исчез. Мы не нашли его тела на поле боя. Мы не могли их преследовать, мы не знали, где их обиталище, и… и смирились со смертью нашего брата. Это было больно и…
– …противно, – докончил Курт тихо, когда тевтонец замялся, и тот, бросив на него короткий взгляд исподлобья, болезненно поморщился.
– Да, – согласился фон Зиккинген. – Но сделать мы тогда не могли ничего. Мы обратились за помощью, снарядили местных, положив на это немало сил, уговоров, денег, посулов, да и что греха таить, угроз… И довольно нескоро мы все-таки нашли их лагерь. Они жили в скалах, в пещерах, одевались в шкуры и ели на земле, их женщины были равны мужчинам в свирепости, их дети… Впрочем, это не имеет отношения к теме, – оборвал сам себя рыцарь, повстречавшись с собеседником взглядом. – Главное состоит в том, что в их логово мы вошли легко, не применив и пятой доли собранных нами сил. Мы не обнаружили среди останков и костей тела нашего брата, не нашли пустого доспеха, но не нашли его и живым. И жреца, того колдуна, что командовал ими – там тоже не было. Мы допросили оставшихся в живых дикарей, и они рассказали, что захваченного человека тот увел в свою пещеру, и больше его не видели, а две ночи назад оба исчезли.
– Вы выяснили, что за сила стояла за их жрецом?
– О, да. Мы выяснили… Наберетесь терпения еще на одну историю, майстер инквизитор?
– Я весь внимание, – кивнул Курт, и рыцарь склонил голову в ответ:
– Тогда слушайте. Их жрецы готовили себе преемников, избирая тех, кто имеет склонность… способность к их бесовскому поприщу. «Кого слышат боги». Кто умеет достучаться до Дьявола. Это чудовище с юности подавало большие надежды, но тогдашний жрец имел своего любимца и потому не желал передавать ему своего места, и все уже склонялись к мысли, что в посвящении ему откажут. Как я думаю теперь, жрец тот просто испугался, когда увидел, что юнец сильней его самого… Бог знает, что на самом деле… Финалом в обучении и моментом посвящения в это дьявольское звание была традиция, заведенная еще во времена, которых никто уже не помнит. Претендент должен был отправиться в отдаленные от стойбища места, на некую скалу (где, бывало, исчезали не в меру усердные охотники и где, по их суевериям, жили то ли духи, то ли боги) и провести там ночь. Судя по услышанному далее, прежние жрецы мошенничали в этом вопросе – бродили где-то по окрестностям, а поутру являлись домой. А тот – тот исполнил обычай в точности. Вот только он возвратился не утром – он пришел однажды ночью примерно «через оборот луны». Первым делом он убил вождя, потом порвал жрецов – в буквальном смысле – и, разумеется, своего конкурента по обучению. И возглавил племя сам. Все это время он являлся перед людьми лишь по ночам или в погоду, когда туман прятал солнце, скрытый этой их шкурой – знаете, с головой зверя, которая надевается на собственную голову, как капюшон…
– Стриг.
– На той скале, – кивнул тевтонец, – обитали они. «In petris manet et in praeruptis silicibus commoratur atque inaccessis rupibus, inde contemplatur escam et de longe oculi eius prospiciunt, pulli eius lambent sanguinem et ubicumque cadaver fuerit statim adest»[212]… Таковы были их «боги». И претендент на звание жреца, подчинившийся традиции, и в самом деле мог получить от них силу – сами знаете, какого свойства.
– Если возвращался живым.
– Верно. Я не знаю, как эти твари избирали достойного, по их меркам, кто мог войти в их дьявольское сообщество, но этого – они таковым сочли.
– И это безошибочно? Воистину гнездо стригов?
– Обиров, – поправил рыцарь, пояснив в ответ на вопросительный взгляд: – Так я привык их звать.
– Предчувствую еще одну историю, – улыбнулся Курт, и тевтонец повел печами:
– Такова наша жизнь – одна история тянет за собою другую и далее… Вам наскучило?
– Господь с вами, господин фон Зиккинген, мне давно не доводилось выслушивать столь занимательных повествований. Прошу вас, продолжайте.
– Это слово вошло в мой обиход от родича, оставившего подробные записи об одном происшествии – тот также состоял в ордене, и на его долю выпало участвовать в бою с монголами при Лигнице. Случилось так, что он был в малом разъезде в предгорьях Паннонии[213]. Тогда еще орден не получил нынешнего опыта в ведении боя, каков он в обычае язычников, тогда еще трудно было совладать с конными стрелками, с небольшими отрядами, нападающими исподтишка… Словом, не орденский разъезд преследовал монголов, а, как ни скверно это признавать, наоборот. Преследование продолжалось по лесу и протянулось до темноты. Драться среди деревьев монголы не привыкли или не любили, да и отдых был нужен всем; сложилось так, что братья ордена и язычники заняли позиции неподалеку друг от друга, не нападая, но и не позволяя противнику уйти, и устроились на ночевку. Когда же спустилась глубокая ночь, на орденский лагерь напали. Невиданные существа с пылающими глазами, бледные, как призраки; так же, как призраки, они появлялись и исчезали – нежданно и невидно. Сколько их было, никто не заметил, но успели уловить, что были они почти голые и без какого-либо оружия; однако двое братьев, не сумев оказать никакого сопротивления, были утащены в темноту. Прочие лишь слышали крики… А потом крики стали слышны и со стороны монгольского лагеря. До той минуты кое-кто из молодежи выказывал уверенность в том, что это именно они устроили этот ночной налет, но старики сказали сразу – нет. Дикари, но это – не в их повадках. И оказались правы. Спустя некоторое время монголы вышли из своего укрытия, попросившись под защиту братьев; наверное, они полагали, что рыцари в броне будут более надежным укрытием от тех тварей. Однако плохо пришлось всем. Твари нападали всю ночь, но вместе от них удалось отбиться – как выяснилось, они не любят света, не любят огня, и факелы в паре с мечами могли их отгонять. Утром орденский разъезд и отряд язычников разошлись подобру, дав клятву избегать друг друга в бою. Не знаю, была ли эта клятва исполнена… Одного (всего одного!) в ту ночь удалось убить. Когда пришло утро, стало различимо, каковы эти создания на вид. Голые, лысые, белые, точно те черви, что живут в глубоких кавернах, не видя солнца… «Обиры» – так называли их карпатские обитатели, когда мой родич, возвратившись из разъезда, попытался выяснить у местных, что это ему довелось повстречать. Так и я привык называть их. И когда мы услышали рассказ жемайтских дикарей, те из нас, кто читали записи или слышали эту историю в пересказе, тотчас поняли, в чем дело. Мы решили уничтожить богопротивных тварей. Мы знали, что они боятся света, что на солнце их тела разлагаются и обугливаются, и было утро, когда мы подошли к тому утесу…
– И у вас получилось? – с нескрываемым удивлением спросил Курт; рыцарь качнул головой:
– Нет. Когда мы пришли, они были уже мертвы. Их было с десяток, тощих, как скелеты, и таких же лысых, голых и бледных – и все они были убиты. Я достаточно видел в своей жизни, чтобы утверждать с достоверностью: убиты они были голыми руками… Видимо, получив от них свое посвящение, жрец вернулся и сокрушил своих богов. Не могу сказать, почему, но это и не самое важное. Важно – что существо, причинившее нам столько напастей, покинуло свое родное племя, покинуло родные места; он ушел, исчез, а с ним вместе исчез без следа и наш брат. Мы так и не нашли ни его тела, ни хоть останков, ничего. Лишь его распятие было совершенно случайным образом обнаружено на полу пещеры этого жреца в куче отбросов. Мы пытались узнавать у всех и всё, что только было возможным, искали, спрашивали, выведывали…
– Сдается мне, господин фон Зиккинген, – предположил Курт, – я понимаю, к чему была эта история. Полагаете, что стриг, с которым мне пришлось иметь дело в Ульме, – ваш жемайтский жрец… Тогда он сильно изменился. Стриг, которого мне довелось увидеть, весьма сносно говорил на благородном немецком, да и выглядел вполне пристойно.
– С тех дней минуло два десятка лет, майстер инквизитор. Даже простому смертному за такое время стыдно было бы не перемениться и не вжиться в новый мир, не научиться новому.
– И, – предположил Курт, – как я понимаю, все эти годы орден не переставал искать его.
– Его, – кивнул фон Зиккинген. – И нашего пропавшего брата. Со временем мы сумели узнать что-то… – на миг он запнулся, вздохнув, и договорил с усилием: – что-то невероятное и ужасное. Прошло уж более десяти лет, когда след привел нас в один из небольших городков у границы с Польшей, и на наши расспросы, на описание нашего исчезнувшего брата нам сказали – да, мы видели такого человека. И он не был старше, не выглядел взрослей описанного нами, он был таким же, как много лет назад. Прошло еще десять лет, а мы, когда удавалось напасть на след, то и дело обрывавшийся, слышали все то же – описание нашего брата по ордену и заверения в том, что он молод и здоров, как прежде.
– Надо полагать, сюда вас тоже вывел этот самый след?
– Да, майстер инквизитор. Когда до нас дошел слух о стриге в Ульме, я был послан сюда, чтобы узнать, имеем ли мы дело со старым знакомым. У нас было его описание, описание нашего брата, которого он привлек к себе…
– И вы ни словом не обмолвились нам, – с осторожной укоризной заметил Курт. – За все двадцать лет.
Фон Зиккинген вздохнул, тяжело упершись локтями в столешницу, и с видимым недовольством поджал губы, бросив на собеседника взгляд, граничащий почти со снисходительностью.
– Поймите меня правильно, майстер инквизитор, – не сразу ответил тевтонец, – когда началась эта история, Конгрегация пребывала… не в лучшем виде. Это первое. Даже когда усилиями многих достойных людей она приобрела достойный вид, даже и сейчас – мы не были уверены в том, что у вас хватит…
– …ума, – подсказал Курт; тот едва заметно улыбнулся:
– …опыта. Что хватит опыта, дабы должным образом отнестись к происходящему. Откровенно говоря, когда я услышал этим утром, что в замок, наводненный обирами, сумели пройти и выжить, и даже отбить пленницу лишь вы и один из местных щеголей – я не поверил. Однако же, довольно посмотреть на ваше лицо и бинты, которые вы пытаетесь скрыть под одеждой, чтобы понять: вы действительно побывали в бою. Но не знаю, является ли правдой и все прочее, мною слышанное, хотя кое-кто из местных солдат и утверждает, что видел обира лично…
– Они его видели, – подтвердил Курт. – Но ведь главное не в этом, господин фон Зиккинген, верно? Главное, что в эту историю оказался втянут один из вас. Вот почему мы до сих пор не знаем ничего. Вы прослышали, что в городе инквизитор, и решили просто дождаться результатов моего дознания. Хотя, если б вы взяли на себя труд раскрыть полученную вами информацию, как это облегчило бы мне работу, скольких смертей, быть может, удалось бы избежать. Одно лишь описание могло в корне изменить ситуацию.
– Я не могу высказать вам собственного мнения по этому поводу, майстер инквизитор. Не я решил так. Но не могу не согласиться с вами так же, как не могу не поддержать мнение капитула: это личное дело ордена. Мы не подданные геманского Императора, пусть большинство из нас и немцы, и орден в обиходе именуем Немецким; мы не подлежим имперскому суду, а также образованиям, Императором созданным, а (не станем прикидываться друг перед другом) нынешняя Конгрегация – его детище. Это было нашим делом. Один из нас… один из нас оставил орден, свое служение, всю свою жизнь – и ушел с тварью. Стал одним из них. Это позорнейшая страница в орденской летописи.
Тевтонец умолк, опустив голову и глядя в стол, и Курт тоже не говорил ни слова, решая важную задачу, в которой надлежало постановить, следует ли раскрывать нежданному свидетелю одну из тайн следствия.
– Ответьте на один вопрос, – заговорил он, наконец. – Этот член вашего ордена, пропавший вместе со стригом – как его звали?
– Конрад фон Нейшлиц.
– Сходится, – вздохнул Курт, и рыцарь непонимающе свел брови. – Не винитесь, господин фон Зиккинген. Если верить тому, что мне удалось услышать, – таким, каков он есть, ваш собрат по ордену стал не по своей воле. Однако время его изменило, и не думаю, что теперь он придает значение собственным мыслям и словам в бытность свою человеком; от него прежнего, каким вы его знали, уже мало что осталось – имя и, быть может, память.
– Так, стало быть, вы все же видели его.
– Не просто видел. Сейчас он пребывает в одной из камер местной магистратской тюрьмы.
Рыцарь замер, снова умолкнув, глядя на собеседника пристально и чуть растерянно, и Курт, так и не услышав ни слова, предложил:
– Хотите увидеть его?
– А… – заговорил фон Зиккинген, наконец, утратив некоторую долю своей невозмутимости, – допустимо ли это?
– Думаю, да, – кивнул Курт. – Вообще говоря, я в этом городе фактически в вашем положении – решаю мало и просто сижу на месте в ожидании решения тех, кто надо мной, однако это – вполне укладывается в интересы дела. Думаю, принять такое решение я могу. Говоря протокольно, вы свидетель, очная ставка с которым поможет установить личность арестованного… Если, разумеется, вам самому хочется это делать. Наверняка вам будет тяжело, если вы правы, и он тот, о ком мы думаем.
– Тяжело, – согласился фон Зиккинген тихо. – Но от моего желания здесь мало что зависит. Я должен убедиться всеми доступными способами, что не ошибся, и дело закончено. Или – что не закончено. И если вы в самом деле можете допустить меня в камеру с заключенным, майстер инквизитор, я буду вам крайне признателен.
– Когда? – уточнил Курт, и тевтонец пожал плечами:
– Когда вам будет удобно. Я здесь в непреходящей праздности и готов в любую минуту.
– В таком случае, смогу препроводить вас, как только закончу с обедом, – подвел итог Курт и, помедлив, предложил: – Не присоединитесь?
– Благодарю, – возразил рыцарь серьезно. – Время ужина еще не настало, а обеденное давно отошло; чревоугодие же не в правилах ордена.
– Кхм… – проронил Курт, ощутив себя отчего-то неловко, словно на столе перед ним высилась гора непотребной снеди, и фон Зиккинген улыбнулся:
– Не воспримите это как намек, майстер инквизитор. Я не имел никакой задней мысли. Вам-то уж в любом случае подкрепиться не помешает; молодому организму нужны силы, а вы еще и с ранением.
– Быть может, хоть выпьете со мной? – кисло поинтересовался Курт. – В честь успеха завершенного дела. Даже если это и не ваш стриг, думаю, уничтожение любого гнезда вещь неплохая.
– Разве что чуть, – согласился тот, подумав, и, взмахом руки подозвав разносчицу, вздохнул: – Это событие, вы правы, и впрямь стоит того, чтобы его отметить… Воды, – коротко попросил рыцарь усталую неулыбчивую девицу, и та молча отошла, одарив постояльца нелюбезным взглядом. – Меня здесь не сильно жалуют, – пояснил фон Зиккинген с короткой улыбкой, когда та со стуком установила на стол узкогорлый кувшин и пустой стакан. – Не приношу особенного дохода.
– Разве устав запрещает? – усомнился Курт, и тот пожал плечами:
– Устав – нет, здравый смысл – да. На голодный-то желудок; в моем возрасте к чему мне еще и язва?.. Что ж, за ваш успех, майстер инквизитор, – провозгласил тевтонец, взявши свой стакан с вином, щедро разбавленным водой. – Наверняка он дался вам нелегко.
– Честно признаться – по большей части Господней милостью, – согласился он, и тот кивнул:
– Разумеется. Что еще противопоставить подобному исчадию?
К примеру, другое исчадие Господней милостью, мысленно отозвался Курт и отодвинул недоеденное блюдо. Аппетит ушел, изгнанный нетерпением и желанием как можно скорее проверить новые сведения; вот теперь, если они верны, допрос птенца должен пройти куда проще.
– Идемте, – предложил он, поднимаясь. – Завершим дело до темноты; я, откровенно говоря, пока не рискую отпирать дверь этой камеры ночью.
Идея отпереть дверь вообще Келлеру была не по душе – это он продемонстрировал всем лицом, даже не пытаясь скрывать неприязни к добровольному свидетелю; рыцарь же поглядывал на служителя Конгрегации безучастно, не выказывая никаких чувств. Оттащив шарфюрера в сторонку, Курт повторил вслух собственные мысли относительно важности опознания арестованного, и тот лишь хмуро вскинул руки: «Вы главный. Но когда у нас на глазах сожрут тевтона, отвечать за это буду не я, идет?».
От двери, открывшейся перед рыцарем, он, однако, не отошел, оставшись стоять чуть в стороне. Фон Зиккинген переступил порог медленно, не сразу подняв глаза, и остановился, молча глядя на того, кто стоял у стены напротив, скованный толстой цепью.
– И что это должно означать?
От охрипшего голоса, прозвучавшего чуть раздраженно и устало, тевтонец вздрогнул, на миг обернувшись на Курта, и тихо выговорил:
– Это он.
– Я тебя знаю? – уточнил птенец, распрямившись, и рыцарь вздохнул:
– Думаю, уже нет. Я знаю тебя. Наверное, я забыл бы твое лицо и твое имя, как забыл имена многих, с кем доводилось ходить в бой, если б ты не исчез в ту ночь от стен нашей крепости…
– А, – широко и демонстративно улыбнулся Конрад, и фон Зиккинген затаил дыхание, сместив взгляд к блеснувшим в дрожащем факельном свете клыкам. – Вот оно что. Даже не знаю, стоит ли полагать себя польщенным тем, как долго меня помнят старые друзья.
– Но помнишь ли ты старых друзей?
– Да, – погасив улыбку, ответил птенец коротко. – Они были убиты прошлой ночью.
– Ты погубил свою душу, брат… – начал тевтонец, и тот поморщился, оборвав:
– Избавь меня, будь добр. Проповедей за свою жизнь я наслушался довольно. И, кстати, дабы не осталось недопонимания: жизнью этой я доволен. Ни тебе, ни этому сопляку со Знаком не понять того, о чем беретесь судить. Если ты явился лишь для того, чтобы меня опознать, ты свою миссию исполнил. Это я. Если же ради того, чтобы призвать меня к покаянию – не трать слов понапрасну.
– Это он, – повторил фон Зиккинген и, помедлив, вышел из камеры, коротко бросив: – Мне больше нечего здесь делать.
– Ну, – продолжил Конрад, когда дверь затворилась за спиной уходящего, – и для чего ты привел его сюда? Только для того, чтобы узнать, кем я был когда-то? Мог бы просто спросить. Я сам сказал бы.
– Конрад фон Нейшлиц… – проговорил Курт медленно. – Посвященный рыцарь ордена тевтонского дома Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме на побегушках у лесного дикаря. Вот уж не думал, что доведется такое увидеть.
– Ждешь, что я оскорблюсь? Что стану спорить? Скажу, что у этого лесного дикаря мозгов больше, чем у всех вас, вместе взятых? Ты это и сам понимаешь, потому и пытаешься вывести меня из себя – чтобы я взбесился и тем потешил твою душу. Чтобы ощутить себя на высоте. Почувствовать хозяином положения… Не усердствуй. Просто наберись терпения. Мы оба знаем, когда я начну терять выдержку: пройдет неделя – и мне станет скверно. А уж ты постараешься, чтобы твое дознание не завершилось прежде, чем меня начнет ломать, верно?
– Верно, – подтвердил Курт, – постараюсь. Только я не стану ждать неделю; думаю, мы несколько ускорим процесс, и уже через день-другой я приду к тебе побеседовать. Знаешь, я бы на твоем месте припомнил пару молитв. Кстати, вы кому-нибудь молитесь, к примеру, перед едой?.. могу одолжить четки.
– И кстати, о четках, – кивнул птенец с улыбкой. – Поубавь гонор, паренек. Без них ты ничто. Ты имел бы право высмеивать меня или Арвида, потешаться над моим поражением, говорить, что угодно – если бы сумел одолеть хоть кого-то из нас сам. Но ты не смог бы. Подумай над этим.
– Однако они при мне, – пожал плечами Курт, разворачиваясь к двери. – И ты тоже. Подумай над этим.
Фон Зиккингена, выйдя в коридор, он обнаружил чуть поодаль, стоящего у стены неподвижно и прямо, как оградный столб; тевтонец смотрел перед собой, не обращая внимания на глядящего на него в упор шарфюрера.
– Я вижу, разговор у них как-то не сложился, – заметил Келлер, кивнув на неподвижного рыцаря; Курт развел руками:
– Не нашли общих тем… Разочарованы тем, что увидели? – спросил Курт тихо, приблизясь к рыцарю, и тот неопределенно повел головой:
– Скорее – тем, что услышал. Хотя, разумеется, иного я и не ждал, но все равно больно, когда один из тех, кто… – фон Зиккинген неловко кашлянул, запнувшись, и вздохнул: – И еще – не сказать, чтобы все эти годы я лишь об этом и думал, лишь тем и занимался, но эти поиски отняли столько сил, времени, мыслей, чувств… что сейчас ощущается какая-то даже пустота.
– Это мне знакомо, – понимающе согласился Курт. – Но у меня начнется новый поиск… А что теперь вы?
– У меня поиск – вся моя жизнь, – кивнул рыцарь, встряхнувшись. – Теперь я должен доложить обо всем увиденном…
– …позже, – докончил за тевтонца Курт. – Поймите меня и вы, господин фон Зиккинген: если я отпущу вас сейчас, меня пустят на колбасу. Через несколько дней сюда прибудут люди, которым о нашем с вами разговоре я не рассказать не могу, и которые захотят с вами поговорить лично.
– Я понимаю, – с явным неудовольствием вздохнул рыцарь. – Я останусь в Ульме столько, сколько будет нужно; в любом случае, я не уехал бы прежде дня казни. Ведь она будет?
– Будет, но – стоит ли вам ее видеть? Ведь вы понимаете сами: поскольку он единственный, захваченный живым, отдуваться за всех придется ему. Не думаю, что предстоящее зрелище будет приятно кому-то из его близких.
– Я должен убедиться, что все кончено, – возразил фон Зиккинген твердо. – И это – не наш брат. Наш брат умер где-то в жемайтских лесах, а вместо него возродилось это сатанинское создание с его памятью. Сейчас я в этом убедился.
– Думать так всего проще – избавляет от душевных мук, – заметил шарфюрер, когда прямая спина тевтонца скрылась за дверью, и Курт обернулся.
– Вас мама в детстве не учила, что подслушивать разговоры следователя со свидетелем нехорошо? – осведомился он укоризненно, и Келлер пожал плечами:
– Моя мама учила меня подслушивать все, что плохо слышно, подсматривать все, что плохо видно, брать то, что лежит плохо, и складывать это хорошо – то есть, в нашем доме. Нас у нее было четверо, и благочестие не стояло на первом месте в моем воспитании… Уверены, что он не удерет из города?
– Уверен. Одно дело игнорировать Инквизицию, совсем другое – напрямую противиться… А теперь к делу. Дабы разговор с нашим птенчиком сложился у меня, сделайте мне одолжение: отберите пару ребят, чтобы вошли со мной в камеру. Думаю, опасаться нечего, но – так, на всякий случай.
– Начнете допрос?
– Не совсем. Сейчас он полон самолюбования и упрямства, это мне не на руку. Его надлежит привести в должную кондицию, и тогда уже он будет куда словоохотливей. Полагаю, гордыня, как и большинство подобных болезней, лечится небольшим кровопусканием.
– Не станет ли он в голодном виде опаснее?
– Всенепременно станет, – согласился Курт, – ну, так на то вы и здесь, верно?
Глава 31
Прежде, завершая дознание, Курт погружался в рутину; уходила прочь бессонница, одолевающая во дни размышлений и возведения всевозможных версий, и время начинало течь медленно и порою нудно. Результаты расследования предавались в руки вышестоящих, а ему самому доставалась в лучшем случае бумажная работа, скучная, унылая, не требующая особенных затрат ни сил, ни нервов. Сейчас все было иначе. Начальство существовало где-то в необозримой дали, а подчиненных критически недоставало; вопросов, требующих разрешения, наваливалось все больше с каждой минутой, мест, в которых надо было побывать, причем одновременно, меньше не становилось, и дел, которые надо было переделать немедленно, было невпроворот.
Ближе к вечеру к зданию ратуши явилась многолюдная делегация от лица местного церковноначалия, предложившая братьям инквизиторам любую помощь, какая будет потребна, от жилых мест до ежедневно поставляемого пропитания славным Христовым воинам. Приветствие собратьев было принято, потенциальная жилплощадь принята во внимание, прочие же предложения непреклонно отринуты. Разумеется, вряд ли представители рата или местных церковных властей станут вот так, открыто травить служителей Конгрегации, однако любые поставки пищи со стороны были просто недопустимы, и еще утром фон Вегерхоф клятвенно заверил, что его личные люди, проверенные не раз и не десять, возьмут окормление зондергруппы на себя.
Следующим утром Курт выехал за пределы города чуть свет, почти беспрерывным галопом домчав до замка наместника. Допрос челяди прошел быстро: устрашенная то ли встрепанным видом майстера инквизитора, то ли произошедшими событиями, прислуга говорила охотно, откровенно и искренне, не сказав, однако, ничего такого, чего сам Курт не знал бы или не предполагал. Вся дворня, привезенная фон Люфтенхаймером с собою и знавшая его далеко не первый год, не сумела не заметить перемен в поведении хозяина и его дочери; кое-кто слишком сообразительный и не в меру образованный уже догадался и об истинном положении вещей. Напрямую все же в известность поставлен никто не был, и обвинить их в предательстве веры и рода человеческого было нельзя, однако вся челядь и далее была оставлена фактически под арестом, разделенная по комнатам и лишенная возможности как сплетничать друг с другом, так и выносить грязное фогтово белье на люди.
Нескольким оставшимся в замке бойцам зондергруппы было велено явиться в Ульм следующим утром, привезя с собой наглухо заколоченный гроб, пропитанный всеми возможными благовониями, какие только можно будет отыскать в замковой часовне. Слух о том, что давно убитую дочь ландсфогта привезут для перезахоронения в Ульм, наверняка уже пошел тотчас же после того, как, возвратившись в город, Курт переговорил с местным священником, и все, что оставалось самому наместнику, это взять себя в руки настолько, чтобы выстоять заупокойное богослужение и церемонию погребения с приличествующим случаю видом.
Фон Люфтенхаймер держался неплохо, хотя нельзя было не увидеть, что относительное спокойствие дается ему нелегко. Фогт все еще пребывал в одной из комнат ратуши, не выказывая даже на словах желания покинуть ее и отделаться от общества двух бойцов, следящих за каждым его движением; однажды упомянутые бойцы пришлись как нельзя кстати, когда фон Люфтенхаймер, впав в буйство, вздумал бросаться мебелью в стены и собою – на пол. Будучи скручен по рукам и ногам, он утихомирился лишь через час, когда явившийся по срочному вызову майстер инквизитор повторил уже привычную процедуру с водой и четками. Идея Причастия по долгом размышлении была отринута как средство чрезвычайное и неведомо как могущее сказаться на претерпевающем терзания организме наместника.
С той минуты было решено поить фогта освященной водой регулярно, что дало весьма заметные результаты – всего за сутки фон Люфтенхаймер несколько оживился, словно воспрял, и однажды даже случилось увидеть подобие улыбки на его лице. Бойцы зондергруппы, однако, в своих отчетах за дежурство подле спящего наместника продолжали упоминать о том, что ночами тот скрежещет зубами и вскрикивает, поминая имя погибшего мастера, неясно, правда, с какими именно эмоциями.
В часы бодрствования, тем не менее, фогт пребывал в относительном благополучии, выдержав даже длительный разговор со священником, в коем выразил непременное желание похоронить свою трагически погибшую дочь на кладбище Ульма. Замок вместе с его землей как res fiscales< type="note" href="#n_214" id="link_n_214">[214] не мог служить вечным прибежищем, ибо было бы по меньшей мере странно, случись какая перестановка во властных кругах, оставлять будущему владельцу вместе с яблонями и кладовыми тела бывших хозяев. Пуститься же в продолжительное путешествие по германским землям, дабы захоронить погибшую во владениях семьи, есть труд тяжкий и опасный, взваливать который, учитывая обстоятельства, господин наместник ни на кого не пожелал. Вообще говоря, отделаться от фальшивого тела таким образом было бы выходом наилучшим – это избавило бы от необходимости терять время в церкви, платить гробовщикам и выводить все еще не совсем здравого фогта в толпу, однако мысль отнять от себя хотя бы одного бойца зондергруппы Курту приходилась не по душе. Даже если занятый одним из наемников гроб попросту спалить где-нибудь далеко за стенами, увезшим его бойцам в городе все равно нельзя будет появиться. Вверить же его заботам людей со стороны, пусть даже тысячу раз идеальной прислуге фон Вегерхофа, было опасно: поручиться за то, что те из любопытства не сковырнут крышку, не мог никто.
Когда до церемонии оставались считанные минуты, на сцене явился забытый уж было персонаж – Эрих фон Эбенхольц, прослышавший о смерти своей несостоявшейся возлюбленной и о грядущей каре одного из ее убийц. Наместник, вопреки опасениям, разговор с убитым горем юным рыцарем выдержал на высший балл, убедив его в том, что открытие заколоченной крышки излишне, ибо Хелена была убита и варварски закопана тварями не одну неделю назад, и являть глазам то, что от нее осталось, есть надругательство над собственными чувствами и благопристойностью. Избавиться от скорбящего обожателя оказалось нелегко, и Курт вздохнул с немалым облегчением, когда за спиной фогта вновь закрылась дверь его временной благоустроенной тюрьмы.
Следующим утром, явившись в ратушу, Курт был встречен шарфюрером, с мрачным удовлетворением сообщившим, что минувшей ночью птенец впервые не сдержался, когда в камеру вошли бойцы, дабы, как всегда, проверить состояние оков. Конрад пытался вырваться из цепей, ссаживая кожу на руках и приходя в еще большую ярость от запаха собственной же крови, и пытался ухватить близстоящего; вообще же его состояние перешагнуло пределы самообладания, и, если господину следователю интересно знать мнение скромного солдата, сейчас самое время для подробной беседы с заключенным, пока еще голод не вытравил из него остатки разума.
– Пошлите кого-нибудь в дом барона фон Вегерхофа, – распорядился Курт, сквозь маленькое окошко в двери камеры оценив ситуацию. – Пусть прибудет немедленно. Я объясню, как проехать.
– Я все понимаю, – поморщился шарфюрер, – ценный агент, судя по всему, однако допускать его к допросу… Что происходит, Гессе?
– Задайте этот вопрос вышестоящим, когда они прибудут, – порекомендовал он дружелюбно. – Я же вам ничего сказать не могу. И, кстати: когда допрос начнется, ваши парни пускай подождут за дверью.
– А вовсе из города нам не убраться?.. Чем нам так ценен этот сноб? Почему у него такой допуск?
– Если я вам скажу, Келлер, – серьезно ответил Курт, – мне придется вас убить.
– Сдается мне, это того стоит, – буркнул шарфюрер, отходя. – Ждите. Через полчаса привезу вам вашего хлыща.
Хлыщ явился лишь спустя час, подчеркнуто безмятежный и при этом невыносимо учтивый; Келлер, отправившийся добывать ценного агента лично, шагал чуть позади, недовольно супясь и явно с великим трудом удерживая рвущиеся на язык слова нелестного свойства.
– Тебя за смертью посылать, – заметил Курт укоризненно, и фон Вегерхоф коротко усмехнулся:
– Учту.
– Ты что же – с вещами? – Он кивнул на внушительную клеть в руке стрига, в которой под темным покрывалом что-то шебуршалось и царапалось. – Намерен поселиться в соседней камере?
– Отказался идти сюда, – хмуро отрапортовал Келлер, – и потащил меня на торжище. Купил зайца. Надеюсь, мысли, возникшие у меня по поводу употребления сей Божьей твари, ошибочны.
– А что вы предлагаете посулить вашему пленнику за интересный рассказ, майстер… как вас…
– Шарфюрер!
– Comme vous voudrez[215], – отмахнулся фон Вегерхоф равнодушно, не глядя на зеленеющего служителя. – Разумеется, можно скормить ему одного из арестованных. Если этот вариант вам более по душе…
– Моя работа убивать этих тварей, – сухо заметил Келлер. – А я вынужден выслушивать такое. Гессе, вы впрямь намерены подкармливать выродка? Понимаю – девка, но…
– В этом вопросе предлагаю согласиться с бароном, – пожал плечами Курт; фон Вегерхоф, не дожидаясь продолжения, зашагал по лестнице вниз, к камерам, и шарфюрер убежденно предположил, понизив голос:
– Так стало быть, парень эксперт по стригам. Тогда почему его не знаю я?
– Будь на моем месте Хауэр, он сказал бы – «значит, не положено», – отозвался Курт, ступая следом. – Но я скажу – «спросите у начальства»… Прежде, чем войдем, – удержал фон Вегерхофа он, оглянувшись на оставшегося позади Келлера, – краткая вводная лекция. Совершенно неожиданным образом мне подвернулся свидетель славных дел нашего покойного мастера. Думаю, тебе полезно будет это знать.
Историю Арвида стриг выслушивал, шагая все медленней, и совершенно остановился поодаль от камеры с заключенным, молча глядя в пол перед собою.
– Это многое объясняет, – произнес он, наконец, нескоро, и Курт недоуменно свел брови:
– В самом деле? К примеру, что?
– К примеру – то, что я сумел одолеть его. Подумай – ему даже и от рождения всего-то лет сорок с небольшим. А для меня больше времени минуло только со дня обращения, я вдвое его старше. Будь он хотя бы моим ровесником – вообрази, какой степени силы он бы достиг. Боюсь, тогда я так легко не отделался бы.
– Молодой, да ранний, – пожал плечами Курт, и стриг мимолетно усмехнулся:
– Возможно. Но это в любом случае повод задуматься.
– О чем?
– О себе, – пожал плечами фон Вегерхоф. – Обо всем. О том, что он же и говорил; как ни крути, а каждое его слово было справедливым, не находишь?
– О том, что из меня выйдет отпадный кровосос?
– Выйдет неплохой, – согласно кивнул стриг, и Курт проглотил ухмылку. – Но в данный момент меня волнует вопрос – какой получится из меня самого… Еn voil suffit[216], – сам себя оборвал тот. – Если я не ошибаюсь, сейчас ты был намерен допросить другого стрига – того, что в камере.
– Уверен, что тебе стоит там быть?
– Не уверен, что тебе стоит, – отозвался фон Вегерхоф, – но ничего не поделаешь… Насколько он вменяем?
– Пытался тяпнуть охранника, но от того, чтобы тянуться к собственным рукам, еще далек. Сейчас уже не буянит; возможно, выдохся.
– Это временно, – возразил стриг, вновь зашагав вперед. – Запомни главное, Гессе: даже сейчас он прекрасно понимает, что его ждет в конце концов. Не пытайся обещать то, чего не можешь дать; он не дурак. Много ты из него выпустил?
– Думаю, не меньше, чем я сам потерял той ночью.
– Хорошо, – коротко отозвался фон Вегерхоф, чуть замедлившись шагах в десяти от ряда камер. – Теперь тихо.
Курт кивнул, умолкнув, и дверь темной каморы закрылась за их спинами.
Конрад не стоял – почти висел в браслетах, в алом свете факела в руке фон Вегерхофа похожий на древнее привидение, за свои прижизненные грехи приговоренное к обитанию в фамильном замковом подвале. Три дня, минувшие с момента примененной Куртом экзекуции, почти высушили и без того не слишком упитанного птенца, выкрасив его в синюшно-белый цвет и сделав похожим на скелет, затянутый в сухой тонкий пергамент, и лишь глаза на заострившемся лице горели по-прежнему ожесточенно.
– Ну, вот и пришло твое время, да? – сквозь сжатые губы выговорил Конрад и запнулся, вцепившись взглядом в клеть в руке стрига.
– Я вижу, ты уже все понял, – кивнул Курт, остановившись у стены напротив, подле узкого окна, нарочно по случаю забранного толстой ставней. – Мне надо, чтобы ты дожил до появления моего начальства, а после этого – до того момента, как я вывезу ебя на площадь. Посему можешь даже не сомневаться: ответив на все мои вопросы, ты получишь те несколько глотков, что погасят твою жажду. Придется поплеваться шерстью, но я полагаю, что с этим маленьким неудобством ты смиришься.
– А почему, ты думаешь, мне есть что тебе сказать?
– Ты его первенец, – тихо откликнулся фон Вегерхоф, аккуратно поставив клеть на пол. – У него не было от тебя тайн. Или было мало. Даже если ты и не знаешь чего-то наверняка, даже если Арвид и не рассказывал всего – кое-что, хоть что-то, тебе все же известно. Или ты догадываешься.
– Не представляю, что вы хотите услышать, – возразил Конрад, складывая слова с видимым усилием. – Расположение других гнезд мне не известно – Арвид не слишком любит… любил шумные компании. Все, кого нам доводилось повстречать за эти годы, считанные единицы…
– Подозреваю, что в живых их уже нет, – предположил Курт, когда тот замялся. – Верно?
– Радовался бы, – неискренне улыбнулся птенец. – Тебе меньше работы.
– Да я на седьмом небе, – согласился он. – Однако говорить мы будем не об этом. Я, конечно, не отказался бы узнать и о безвестных гнездах и кланах, однако получить сведения о том, что их просто больше нет, тоже неплохо… Для начала я хочу восстановить некоторые пробелы в известной мне истории. Что случилось в ту ночь, когда ты был пленен Арвидом?
– Не помню.
Мгновение он стоял неподвижно, и, вздохнув с показательной усталостью, рывком распахнул ставню, бросив на птенца яркую полосу света. Конрад зажмурился, отвернувшись и зашипев, рванулся прочь, натянув цепь, как струну, и Курт вновь закрыл окно.
– Чтоб не тратить слов, – пояснил он, глядя на обвисшего в оковах стрига. – Так будет всякий раз, когда я услышу неправду… Сегодня пятница, Конрад. Тринадцатое. Символично, верно? Для тебя лично более невезучий день придумать сложно, поверь.
– Это не может не остаться в памяти, – произнес фон Вегерхоф по-прежнему чуть слышно и неспешно. – Последняя ночь перед смертью, последние часы перед тем, как перемениться навсегда… Это запоминается. Это помнят все, сколько бы лет им ни было, а ты был обращен не столь уж давно.
– И это мое личное дело, – через силу вымолвил Конрад, – мое и мастера.
– Твоего мастера больше нет, – пожал плечами Курт. – Зато есть я и без минут полдень за этим окном. Весна в этом году приятная, солнечная… Я жду ответа.
– Для чего тебе? Чем будет полезно? Что даст?
– Ничего. Но мне отчет писать… Итак?
– Не помню, – повторил птенец, напрягшись, когда на ставню легла рука. – Никогда не стремился сохранить эти воспоминания. Ни к чему.
– По какой причине Арвид выбрал обращение? Насколько мне известно, его сородичи обыкновенно пускали пленников на вырезку.
– По той же, по какой не был убит в ту ночь ты. Хотя я предупреждал его, что это кончится плохо… Если б он послушал меня, сейчас я не слушал бы тебя. Сейчас ты слушал бы его.
– Давай-ка не будем проповедовать друг другу прелести жизни на стороне каждого из нас – все равно не сойдемся, – поморщился Курт. – Прими как факт: убедить меня в том, что я много потерял, – идея гнилая на корню. Итак, почувствовав в тебе большой potential, он создал своего первого птенца… Почему он ушел?
– Он впервые увидел чужаков, – пояснил фон Вегерхоф, когда тот не ответил. – Ведь так? Его поразили эти люди в броне, которую не берут ножи, этот размах… В сравнении с тем, что, думаю, ты рассказал о мире за пределами его леса, все, виденное прежде, показалось ему неважным и мелким…
– Как, кстати, тебе это удалось? – поинтересовался Курт, не увидев и не услышав возражений. – Полагаю, в те дни он по-немецки не говорил, что понятно, да и ты на языке дикарей, думаю, был ни в зуб ногой. Как вы общались?
– Ему не надо было знать языка, – все так же вместо птенца продолжил фон Вегерхоф. – Арвид увидел все сам – просто заглянув в мысли и чувства своего пленника. Ведь за каждым произносимым им словом стоял свой образ. Верно?.. А поскольку он был любознательным и неглупым, незнакомое и чуждое не уничтожил сразу, предпочтя вначале узнать.
– К чему задавать мне вопросы… – выговорил птенец, прикрыв глаза и с хрипом переведя дыхание. – Вы сами все знаете лучше меня. Даже обо мне. Даже то, чего я не знаю.
– Хохмач, да?.. В чем дело? Так стыдишься самой мысли о том, что твой мастер когда-то молился пню?
– Ты молишься мертвому еврею, – покривил губы Конрад. – Чем лучше.
– Этот мертвый еврей, позволь напомнить, неслабо вмазал тебе в ту ночь, так что на твоем месте я бы не слишком хорохорился.