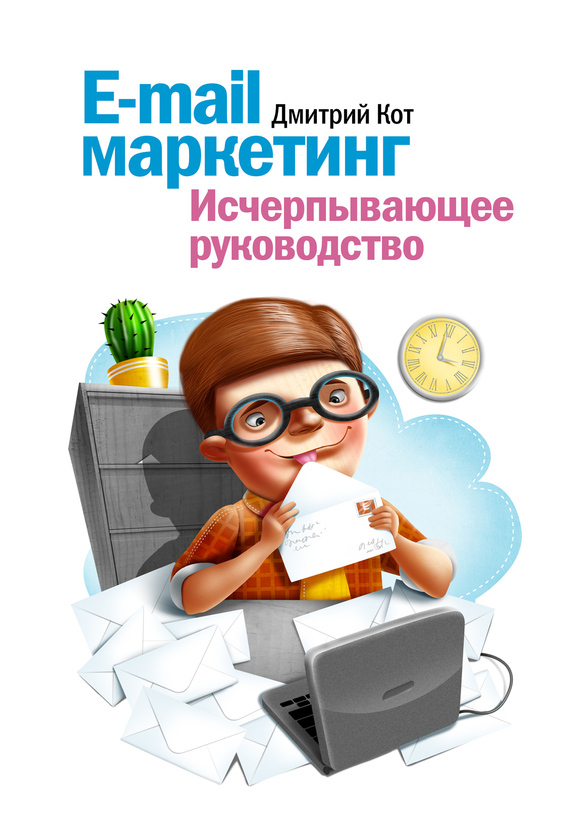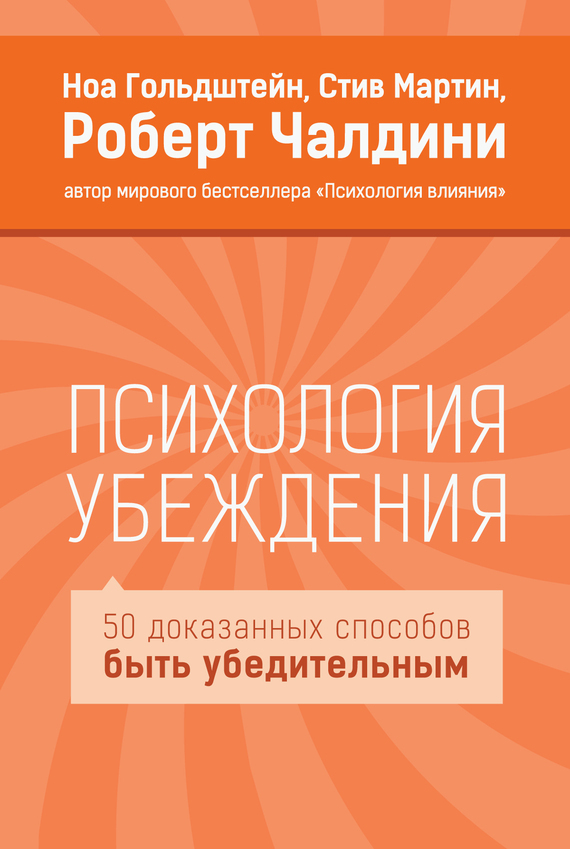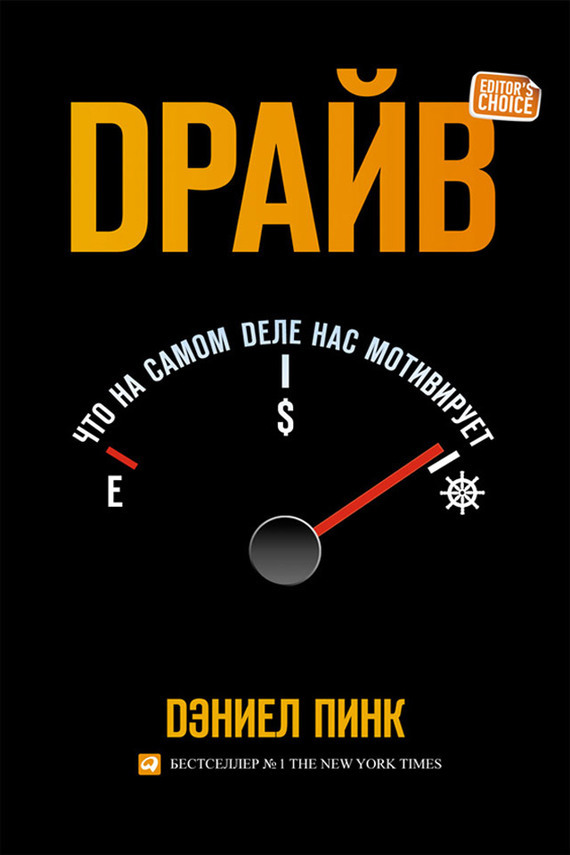Тюрьма и воля Ходорковский Михаил

Меня переводят в санчасть, где я несколько дней жестко расплачиваюсь со своим организмом (точнее — он со мной).
Выход в лагерь. Опять ШИЗО, опять суд, опять отмена.
Новое обвинение, этап в Читу. Начальник оперотдела лично тащит все мои вещи в машину. Приносит даже матрас и одеяло. «Только не возвращайтесь!» Прощаемся более чем любезно.
ГУЛАГ или уже не ГУЛАГ?
Изменилась ли гулаговская система. И да и нет. Разумеется, общие изменения огромны. Во-первых, никого не морят голодом. Отдельные прецеденты бывали и бывают, есть даже целые «голодные зоны», но это, скорее, нераспорядительность конкретного начальника колонии, воровство, а не продуманная государственная политика, как было при Сталине.
Во-вторых, нет убивающе тяжелого рабского труда. Скорее, в «зонах» вообще нет работы. Люди дуреют, звереют, теряют социальные навыки (те, у кого они были). Однако за безработицу сегодня никого не наказывают, а вот за смерти и побеги — очень. Поэтому работы просто нет или она не носит разумно-созидательного характера.
В-третьих, просто так убить заключенного нельзя. Такой факт потребует огромного числа бумаг. Бить, мучить — можно, а вот убивать действительно запрещено. Запрет, конечно, как и любой другой, нарушается, но это иная ситуация, чем когда такое право было дано.
В-четвертых, условия проживания хоть и тяжелые, но не убивающе тяжелые. Например, зимой в бараках отрицательных температур стараются не допускать, дают воду, пусть и холодную, сравнительно регулярно позволяют мыться, стирать вещи.
Понимаю, смешно и грустно слушать, но именно такие «мелочи» дают или отнимают право на жизнь.
Теперь о сходстве с ГУЛАГом.
Заключенный — не совсем человек, скорее скотина, чья ценность для «хозяина» существенно выросла по сравнению с первой половиной прошлого века. То есть убивать нельзя, но бить — можно и нужно. Морить голодом нельзя, но и думать о качестве питания необязательно.
Мораль по отношению к заключенному вообще понятие несущественное: врать, разводить, стравливать друг с другом, выказывать пренебрежение — можно и нужно.
Хотя здесь, как и во всем, есть исключения. Есть служащие, которые никогда «не позволят себе», и есть заключенные, которые не позволят «по отношению к себе». Но так было и в ГУЛАГе. Конечно, тогда для заключенного ставка была — жизнь, а теперь — здоровье и возможность досрочного освобождения.
К слову, о здоровье. Здоровье в нашей стране вообще ценность «второго ряда», а качество его охраны и на свободе оставляет желать лучшего. Что происходит в «зоне» — можете себе представить, и будете правы.
Хотя мне лично повезло. Причем повезло уже дважды. Первый раз — когда меня резали[11]: попался военный хирург с твердой рукой. Второй раз, наоборот, зашивали. На счастье, тот, кто числился стоматологом, оказался лицевым хирургом, и теперь благодаря ему шрам на лице мало заметен.
Низкий ему поклон. Но это, скорее, исключения. Гораздо более частыми являются случаи, подобные тому, свидетелем которых мне довелось быть.
Одного знакомого мне заключенного жестоко избили. Он попал в медсанчасть, которая была «через забор» от нашего барака, и, поскольку забор из колючей проволоки позволял переговариваться, я к вечеру поинтересовался, как его дела. Мне прокричали, что он плох и, видимо, помрет, поскольку после некоторого улучшения опять лежит, редко приходя в сознание. Фельдшер же, оказав первую помощь, больше не подходит.
Я попросил передать администрации, что, если он помрет, я молчать не буду. Через час из города пришел врач. Телефон в медсанчасти не работал, поэтому весь лагерь наблюдал, как сначала врач бегом бежит в дежурную часть, а потом (единственный раз за все время) на территорию заезжает «скорая помощь».
Парня спасли. У него был разрыв селезенки, и к моменту попадания на стол хирурга он потерял более двух литров крови от внутреннего кровотечения.
В общем, болеть в нынешней зоне, как и в ГУЛАГе, категорически не рекомендуется. Но и выйти отсюда, сохранив здоровье, — малореально.
Можно ли изменить ФСИН без изменения общей ситуации в стране?
Не знаю, но пытаться можно и нужно.
Надо помнить, что в сегодняшнем ГУЛАГе присутствуют разные типы людей.
Во-первых, и это самое печальное, невиновные. Эту долю можно определить, зная общее число оправдательных приговоров нашего «басманного правосудия» (0,8 %) и сравнив ее с тем количеством следственного брака, который признается таковым судами присяжных у нас (20 %) и судами стран Европы, где качество работы правоохранительной системы вряд ли, скажем мягко, уступает нашему (15–30 %).
Если даже учесть, что часть реальных преступлений попросту не доказана, то и в этом случае каждый пятый-седьмой заключенный невиновен, а это 150 000 человек, 150 000 судеб, семей, потерянное ими здоровье, невосполнимые годы жизни…
Во-вторых, та группа преступников, которых общество готово в конце концов простить и в социальной адаптации которых оно заинтересовано.
Численность этой группы зависит от общего состояния морали, гуманизма в стране, но и сегодня она составляет большую часть. «Воровайки», «жулики», хулиганы, даже «бытовые» убийцы сегодня нашим, в целом жестоким, обществом не рассматриваются как потерянные навсегда.
И если в первом случае речь идет скорее о судебной системе, то вторая группа — несомненная прямая задача ФСИН.
Проблема усугубляется тем, что значительная часть законченных приходит, не обладая необходимыми социальными навыками, у остальных зона разрушает имеющиеся.
Во-первых, людям необходима работа. Причем работа, которая позволит им и сохранить привычку к ежедневному труду, и помочь своим семьям, оставшимся без кормильца (огромная проблема, дополнительно разрушающая семьи, порождающая беспризорность и новую преступность), заплатить по искам, а также работа, которая позволит, выйдя на свободу, иметь честный кусок хлеба, а не кидаться опять за помощью к «старой профессии».
Понятно, задача непростая, особенно в наше «рыночное» время, но вполне решаемая. А главное — заслуживающая самого пристального внимания. Ведь именно здесь «зарыты» 50 % рецидивов, то есть сотни тысяч и миллионы новых преступлений, наносящих огромный ущерб тому же самому обществу.
Скупой платит дважды, и хорошо, если только дважды.
Аналогично надо посмотреть и на другие проблемы: одежда, встречи с семьей, режим, образование.
Что для нас важнее: создать дополнительные условия «наказывания» помимо лишения самого дорогого — свободы — либо вернуть людей к нормальной жизни? И не платить потом дважды, трижды за то, что этого не сделали?
Психология тюремщиков способна дать только первое. Если обществу нужно второе, тогда решать эти вопросы должны совсем другие люди, не связанные с тюремным ведомством.
А ФСИН должна исполнять порученное, пусть даже если это и осложняет персоналу жизнь. Но ведь каждый из нас на своем рабочем месте делает то, что нужно заказчику, а не то, что сделать проще. Хотя и хотелось бы.
К слову, это еще одна причина, по которой ФСИН, если мы действительно хотим что-то изменить, не должна играть в изменениях роль «первой скрипки».
Наконец, существует проблема людей, которых общество не готово простить никогда.
Здесь тоже надо учитывать несколько составляющих. Первая и главная — «судебные ошибки». Их чудовищно много, и, что тоже важно, в смерти человека, облыжно обвиненного в непрощаемом преступлении, часто заинтересованы те, кто хотел бы «спрятать в воду» концы своих преступлений, своего корыстного интереса, своей преступно плохой работы.
Вторая составляющая — изменение, гуманизация самого общества. Готовность простить тех, кто раскаялся, кого мы не готовы были простить раньше.
Третья — как мы считаем достойным для себя поступать с теми, кого мы не готовы простить?
Увы, но ответ на все эти вопросы может быть дан только общий, поскольку «окончательное знание истины» человеку недоступно. Думаю, отношение к непрощаемым преступникам, наличие неустранимого сомнения в вине каждого из них, внутренняя готовность простить раскаявшегося не только показатель уровня общества, но и образец желаемых этических норм, к чему мы все должны стремиться.
Именно такой подход и люди, готовые к такому подходу, способны подсказать правильный ответ.
Надо заметить еще один крайне важный факт. Адаптация к свободе после пяти лет «зоны» трудна, после 10 — в большинстве случаев невозможна. Человеческая психика коверкается в большинстве случаев необратимо. Это к вопросу, что мы, общество, хотим от тюрьмы.
Адаптация к несвободе
Уезжая, знаю: «зона» — это не страшно. Там живут обычные люди, и твое место в том мире зависит от тебя. Причем от воли больше, чем от силы. Бояться нельзя. Результат — мерзкая, грязная жизнь, которая хуже смерти. А смерть… Что смерть? Риск невелик: две-три на тысячи заключенных в год. И потом, это быстро, а посему — не страшно.
Преимущества «зоны» — солнце и свидания. Свидание в «зоне» — это три дня, раз в квартал, в помещении по типу провинциальной гостинички. Мама, жена, дочь, которых можно потрогать, обнять. Время пролетает как мгновение.
Вообще тюрьма, несомненно, разрушает семьи. Регулярно приезжают к одному из 20. Жены уходят, дети забывают. За пять лет человек, как правило, теряет социальные корни. За воротами его ждет пустыня, поэтому так многочисленны возвраты. Кто и зачем создал и поддерживает именно такую систему — понять не могу. Возможно, не со зла, а по традиции. Но последствия у этой традиции жуткие. Целый слой выброшенных людей. Миллионы разрушенных семей и судеб.
Главное, что альтернатива существует и варианты всем известны, а ограничения на семейное общение очевидно избыточны. Но пока все остается как есть.
В то же время проблема собственно противоположного пола хотя и существует, но наряду с прочими. Причем в большей степени для заключенных чуть старше 20 и моложе 35 лет. Те, кто еще моложе, приходят обычно из колонии для несовершеннолетних и не обладают опытом регулярной сексуальной жизни. Те, кто старше, возможно, в результате стрессовой ситуации, не ощущают этот вопрос как критический. В общем, о нем можно спокойно говорить.
Семья — иное. Здесь буквально минное поле, любые движения на котором чреваты жесточайшими конфликтами, депрессиями и даже самоубийствами.
В целом навязчивые мысли, воспоминания — депрессия, свойственная достаточно большой части людей, — меня не коснулись. Могу вспомнить буквально несколько ночей, когда я не спал.
Конечно, особенно в первый тюремный год, когда каждый день по нескольким каналам телевидения и радио рассказывали, как громят компанию, было весьма неприятно. Пропаганда давила на психику. Но я достаточно хорошо контролирую свое сознание. Например, начинаю составлять в уме письмо, или строить дом, или обставлять какое-нибудь помещение.
Потом выяснил для себя, что мне легче всего дать выход нервам, переложив мысли на бумагу. Начал писать тексты выступлений, писем, жалоб, но не статей. То, где «даешь выход», не годится, чтобы читали другие. Потом перечитываешь — неадекватно. Зато появляется привычка класть мысли на бумагу. За восемь лет научился. Пусть не так здорово, как профессионалы, но для меня и это — достижение. Я ведь в школе просил любимых девочек писать за меня сочинения. Сам не хотел и не умел.
Возвращаясь к мыслям, расскажу об удивительном случае в колонии. Вообще-то я всегда был достаточно спокоен за свою семью. Во-первых, они у меня молодцы. Во-вторых, я знал, что всегда получу информацию и смогу обратиться за помощью.
Вдруг, что называется, «пробило». Не могу ни о чем больше думать, целый день в голове жена. Ей плохо. Ну полная чушь. Тем не менее ощущение настолько острое, что делаю запись в дневнике (единственную такого рода) и на следующий день связываюсь с адвокатом. Нет, вроде все в порядке. Ну у меня «отхлынуло». Тем не менее, когда на свидание приезжает жена, спрашиваю. Оказывается, ее прихватило. Температура под 40° целый день. Больше у меня такого не случалось, но теперь я во многое готов верить.
Тюрьма и воля
Тюрьма является как бы увеличительным стеклом для наблюдения за общественными процессами.
Когда в стране резко снижался уровень жизни, то через некоторое время в тюрьме питались травой в буквальном смысле этого слова. Последний раз, по рассказам, такое случалось в 1999–2000 годах. Счет дистрофикам, как рассказывают, шел на десятки и сотни.
Я этого, к счастью, не застал, но был поражен наличием полностью безграмотных молодых людей. То есть вообще не умеющих в свои 20 с хвостиком лет ни читать, ни писать.
Я был свидетелем смены «контингента» в Матросской Тишине, когда на место маньяков и уличных преступников в массовом порядке стали поступать люди, у которых рейдеры в погонах отнимали собственность.
Я наблюдал, как, отдав собственность, они выходили со сроками и без.
Я видел, как в тюрьму пошли правоохранители и их подручные из числа «коммерсантов», пострадавшие в ходе междоусобных войн ведомств, как с недоверием восприняли медведевские инициативы и как стали спустя некоторое время благодаря им выходить на свободу, возвращать свое добро. Пусть пока частично.
Нет, в тюрьме, несмотря на все ограничения, многое хорошо заметно из того, что происходит на воле.
Человек в тюрьме, несомненно, меняется. Тюрьма сходна с инвалидностью, когда одни, неработающие, системы восприятия восполняются обострением других. Взамен сократившемуся количеству внешних раздражителей приходит большая чувствительность к остающимся.
Те, кто долго находится в тюрьме, любят смотреть мультфильмы, острее реагируют на события во внешнем мире, гораздо тоньше ощущают окружающих. Выходившие после долгой отсидки на волю рассказывают, что первые несколько месяцев читают людей как открытую книгу. Потом «сверхвосприимчивость» проходит.
Несомненно, тюрьма меняет и этические нормы. Особенно в молодых, не устоявшихся головах. Если на свободе 95 % людей в обычной жизни вранье считают чем-то не очень хорошим, а жестокость не относят к норме, то в тюрьме все не так.
Врать нельзя «своим», красть нельзя у «своих». Жестокость — норма. Причем такие правила навязываются не только (а может, и не столько) преступным сообществом. Это правила, по которым живут «сотрудничающие с администрацией» и сама «администрация». «Зона» — большая деревня. Здесь все, всё и про всех знают. Да никто особо ничего и не скрывает: «опера» всех «разводят» и подставляют, все и всё воруют, в ШИЗО бьют (впрочем, не только в ШИЗО), услуги покупают и т. д. Может, только торговля наркотиками идет сравнительно негласно. Хотя и про наркотики в общем все известно. Я лично, например, только в «зоне» увидел гашиш в брусках, «пятаки», «химки», марихуану, которую в сезон курили почти все. Странный, сладковатый дымок. Очень характерный…
Вообще-то смешно. Приехав в «зону», я сначала не мог понять: люди ведут себя как пьяные, а запаха нет. Потом понял…
Человек или человек-компьютер
Меня лично тюрьма тоже, несомненно, изменила, несмотря на то, что я сюда попал, будучи уже взрослым и устоявшимся человеком. Наиболее сильной переоценке подверглось понимание важности отношений с близкими людьми, семьей. Да и понимание мира стало несколько другим. Думаю, по моим статьям это заметно. Хотя точнее всех эти изменения оценит моя жена, когда мы наконец опять встретимся.
Происходят ли в тюрьме вспышки злости, отчаяния, можно ли себя контролировать? Да, да и да. И отчаянье бывало, и злость. Мне помогает выплескивание подобных эмоций на бумагу. Собственно, и в обычной жизни себя приходилось «очень контролировать».
Окружающие считают меня безэмоциональным. Человеком-компьютером. Возможно, где-то это и так. Порог эмоционального возбуждения у меня действительно необычно высок. Чтобы разозлить, надо чтобы произошло что-то поистине необычное.
Вообще, конечно, хотя все понимаешь, сначала очень задевает явная несправедливость происходящего даже в мелочах.
Первое судебное заседание в Басманном суде было для меня шоком. Тебя попросту не слышат. Эй, погодите, а обосновать? Может, вы все придумали? Почему ваше слово дороже моего? Почему из-за вашей паранойи я должен сидеть в тюрьме?
Твои вопросы никому не интересны. Как и пустая бумажка закона.
Думаете, не накатывает? Накатывает. Просто с какого-то момента начинаешь понимать: попал в плен к инопланетянам. Они — не враги, не фашисты, просто «чужие», с похожей внешностью. Говорить с ними не о чем. И успокаиваешься.
Со временем я стал воспринимать тюрьму, суды, следователей как явления природы, которые можно изучать, но на которые не нужно эмоционально реагировать.
Эмоционально здесь самое тяжелое — неизвестность. Не того, что произойдет лично с тобой, а происходящее дома, с семьей, с друзьями. Причем иногда проходят дни и даже недели, прежде чем появляется ясность. Возможность что-то узнать, переспросить. Конечно, телефонов в тюрьме хватает, и для многих это спасение, но далеко не всем они доступны. Мне, например, нет.
Хотя и твою собственную судьбу держат в тайне даже по мелочи. Такое психологическое давление. Куда вызывают, зачем ведут — никто и никогда не скажет. «С вещами», «без вещей», «с документами», «без документов», «по сезону» (в смысле надеть верхнюю одежду).
Более того, если приходит следователь и приносит документ или документ приходит в тюрьму, а ты встречаешься с адвокатом, то документ тебе вручат обязательно «после». Цель понятна: чтобы не мог посоветоваться хотя бы еще несколько дней.
Унизительные обыски, которых бывало в Чите до шести в день, постепенно становятся безразличны. Плохо, конечно. Планка человеческого достоинства изменила свой уровень. Увы.
Тем не менее, если не хочешь опуститься, надо бороться в своей душе за каждую бытовую мелочь. Регулярная зарядка, чистота, ежедневная работа, вежливость в общении с любыми людьми — вроде все просто и естественно, но не тогда, когда из года в год тебя пытаются сломать «безнадегой», забвением, размывающими тюремными традициями.
Тюремное общество
Тюрьма способствует длинным разговорам на самые разные темы. Важен образовательный уровень сокамерников.
Консультации «по делу» в тюрьме достаточно обычны, поскольку «свой» адвокат не слишком частое явление, а адвокаты «по назначению» редко относятся к работе с душой. Вообще хороший адвокат — большая удача.
Такие «профессиональные» консультации не очень сложны, как это ни смешно. Большая часть судей знает УК, УПК и пару решений пленумов Верховного суда — «О судебном приговоре» и «О назначении наказания». Да и то знают плоховато. Поэтому предсказать их возможные ошибки — дело несложное и практически безошибочное. Как и найти огрехи в приговоре, позволяющие обоснованно составить кассационную жалобу.
Скажу с полной ответственностью: в «своем» экономическом составе я разобрался очень глубоко, до уровня монографий и текущих научных дискуссий. С практической точки зрения — бессмысленное занятие. Этот уровень и для прокуроров, и для районного суда не интересен. Даже в «надзоре» таких специалистов — считанные единицы, но и они никогда без команды «сверху» не будут смотреть на «дело» столь глубоко. То есть все пойдет по накатанным рельсам, даже если рельсы давно признаны наукой ведущими в пропасть.
Под «пропастью» я понимаю системное противоречие между гражданской и уголовной правоприменительной практикой.
В общем, не забираясь «в дебри», в двух случаях из трех в любом приговоре есть за что зацепиться, чтобы потребовать пересмотра.
Реально кассационная инстанция пересматривает одно из 10 дел, надзорная — гораздо реже.
Спустя очень короткое время легко понимаешь, где правда, а где вранье. Думаю, для большинства профессиональных судей это тоже не секрет. Просто замечать невыгодно.
Скажу откровенно: читать многие дела противно, от других — ощущение какого-то сюрреализма, то есть того, что люди живут в какой-то иной реальности.
Как вам, например, двухлетнее содержание русского человека в рабстве чеченской семьей, живущей в русской деревне? А это факт. И человек, которого осудили, в целом мне его подтвердил.
Конечно, попадаются очень интересные люди, с которыми можно поговорить о многом, даже о нефти и политике. Несмотря на иногда глубокое расхождение взглядов. Например, из известных — Владимир Квачков. Хотя здесь немало менее известных, но весьма серьезных и образованных людей.
Тюрьма меняет, или это возраст…
Что касается собственных ощущений… Тюрьма способствует и «самокопанию», и более глубокому анализу внешней действительности. Темп жизни замедляется. Очень любопытный парадокс: каждый день тянется медленно, а недели, месяцы и годы пролетают быстро.
Я замечал: для меня на свободе час — это было много, здесь — мгновение, стоит только поглубже уйти в свои мысли. Зато качество концентрации — абсолютное. Сокамерники не мешают, в уши затычки — и космос…
Относительно прочих изменений — не знаю даже, о чем говорить. Видимо, поскольку попал в тюрьму после 40, то как человек уже сложился.
Бытовые проблемы для меня не в новинку: в первые 30 лет жизни и стирал, и убирался, и горячая вода далеко не всегда была. Да и питание. Конечно, тюрьма — не дом, но родные заботятся, что-то передают, что разрешено. Нормально.
Наверное, единственная бытовая проблема, которая мешает, — отсутствие компьютера, доступа к информации. Пусть не оперативной, но даже справочной. Книг же в камеру много не возьмешь. Здесь помощь адвокатов — бесценна.
У меня всегда было полезное умение, здорово помогающее в тюрьме, — концентрироваться на задаче и отсекать все ненужные мысли. Такая «управляемая депрессия». Я полный рабочий день, восемь часов, дисциплинированно думаю об одной или нескольких «производственных» задачах. Делаю небольшие перерывы — для отдыха размышляю о чем-то приятном. Например, медленно, с удовольствием «обставляю» комнату мебелью и техникой.
После «рабочего дня» либо отключаю голову с помощью книжной или телевизионной жвачки, либо представляю семью, друзей. Вспоминаю, мечтаю. Повторю — это старая привычка, старое умение, оказавшееся полезным в тюрьме.
Что же касается отношения к людям… Жена считает, что я стал мягче, «человечнее». Не замечаю. Ядовит, но не особенно злопамятен, как и раньше.
Самое сложное для меня — было и остается — «выпустить эмоции наружу». Воспитан в представлении, что мужчине недостойно быть слишком эмоциональным. Подшучивать — да, иногда даже весьма едко. В том числе над собой, а особенно над власть предержащими. Но никогда не показывать реального отношения, реальных эмоций. Несложно, особенно потому, что сильных эмоций за пределами моей семьи, друзей у меня почти не бывает. Эмоционально отношусь к детям. Может, к близким и друзьям чуть более сентиментален. Как здесь отличишь последствия тюрьмы от возрастных изменений?
Ни прокуроры, ни Путин с Сечиным сильных эмоций не вызывают. Как осенний дождик: неприятное явление природы, не более того.
Глава 2
Атака
Наталия Геворкян
Мастера дзюдо и карате утверждают, что один человек способен победить 20. Допустим, напало 20 человек — один против 20, то есть имеется 21 сабля и они могут занимать энное количество положений в пространстве, пересекаясь и прочее. Так вот, если теперь представить себе взмахи сабель и расчертить их определенную диаграмму, то естественно, что существует такое единственное положение, в котором может быть произведено единственное движение, способное парировать удары всех 20 сабель. Следовательно, мастером можно назвать того, кто, не рассуждая, приостановил действие всех спонтанно вторгающихся факторов и прочертил своей рукой одну-единственную необходимую траекторию. Это так называемое адекватное безошибочное действие.
Мераб Мамардашвили
У Михаила Ходорковского был шанс бежать за границу даже из Нижнего Новгорода. Подъехавшая из Москвы охрана ЮКОСа привезла, по одним данным, информацию, что готовится его арест, по другим — просто ксерокопию ордера на арест. В аэропорту Нижнего есть международный терминал. Туда летает, например, Lufthanza. Ходорковский передвигался по стране на арендованном самолете. При желании он мог попытаться улететь тем или иным способом…
Нижний был очередным пунктом его турне по России перед вылетом в Иркутск и дальше — в Эвенкию. Формально Ходорковский объяснял в российских регионах стратегию развития бизнеса, смысл слияния ЮКОСа и «Сибнефти» (окончательное соглашение о создании компании «ЮКОС-Сибнефть» было подписано 14 мая 2003 года).
Уверена, что в тот вечер, 24 октября 2003 года, в Нижнем он не вспоминал о диалоге с Путиным 19 февраля того же года, когда, как считается, Ходорковский подписал себе приговор. К моменту ареста он уже все проанализировал, понимал, что и почему происходит и что произойдет дальше. Ну или ему казалось, что понимал.
Я же все время мысленно возвращаюсь к той встрече, впервые очевидно обнаружившей напряжение между двумя лидерами — страны и бизнеса. В тот день Путин, продолжая ельцинскую традицию, пригласил к себе в Кремль «крупняк» российского бизнеса. Поговорить.
Ходорковский говорил о том, что, по данным российских предпринимателей, на коррупцию в 2002 году было потрачено $30 млрд, что составляет порядка 10–12 % ВВП. Он критиковал неравные правила игры для государственных и частных компаний, намекнул на коррупцию в сделке по покупке государственной компанией «Роснефть» компании «Северная нефть», за которую заплатили баснословную сумму — $600 млн. Путин жестко парировал, что некоторые компании имеют свои «сверхзапасы» и еще вопрос, как они их получили, намекая, видимо, на сомнительную приватизацию 1990-х. Напомнил, что у ЮКОСа были проблемы с налогами и «да, вы их решаете, но ведь почему-то они возникли…»[12]. И еще президенту не понравились планы ЮКОСа строить нефтяную трубу в Китай (по предварительным оценкам, стоимостью порядка $3 млрд частных инвестиций). Без одобрения Кремля такие планы в России не реализуются. У Кремля же были свои трубы и свои приоритеты, в данном случае — труба на Находку, стоимостью 10 млрд бюджетных денег. Как рассказывает Виктор Геращенко, Путин сказал «нет», «и тут бы Ходорковскому промолчать, но он возьми и скажи: „Владимир Владимирович, вы не понимаете важности выстраивания отношений с Китаем…“»[13].
Впрочем, Ходорковский говорит, что такого не было.
О чем думал Путин, слушая Ходорковского?
Начинался третий год его правления. Путин был еще не так уверен в себе, как во время второго срока или во время «третьего» — премьерского. Среднегодовая цена за баррель нефти все еще была ниже $30. Он уже практически взял под контроль основные телеканалы страны, отжал из страны двух серьезных противников — магнатов Бориса Березового и Владимира Гусинского, последнего предварительно недолго подержали в тюрьме. Но Путин все еще боялся олигархов. Друзья президента еще не отформатировали под себя госкорпорацию, в которую впоследствии превратят Россию. Еще ни один из бизнесменов публично не заявил, что готов отдать государству свой бизнес по первому требованию. Еще предстояло найти идею, на которой Путин войдет во второй срок.
О чем думал 51-летний бывший подполковник КГБ, бывший чиновник питерской мэрии, бывший чиновник Кремля и бывший шеф ФСБ с президентской зарплатой на тот момент 63 000 рублей, глядя в хитрые глаза бизнесмена, в миллиарды раз богаче его, который говорит главному чиновнику страны, что он не разбирается в экономике и геополитике, что вся его «вертикаль власти» — просто коррумпированные халявщики, вооруженные печатями?
Мне кажется, он думал примерно так: «Вот этот очкарик, похожий на отличника, любящий диаграммы и графики… Сорока ведь еще нет, а уже восемь ярдов состояние, если верить Forbes. Да даже если половина. Его ЮКОС стал круче нашего Газпрома. Куда там „Роснефти“, так нет же, еще наезжает… Все норовит захапать…
А цены на нефть растут. Вон, на днях на Лондонской бирже перепрыгнули тридцатку. Американцы войдут в Ирак, старина Буш не остановится. И цены взлетят! И еще миллиарды парню в карман… Смотри, как разговорился. Остальные поосторожнее будут. А этот… И смотрится неплохо… Некоторым дано… Все при нем. И главное — навсегда: и эти бабки, и эта компания, и эта внешность, и самоуверенность. Хозяин… А тут — четыре года, ну восемь, а потом что? А этому уже, собственно, ничего не нужно. У него все есть. Поэтому и не боится, считает себя крутым.
Компанию делает прозрачной, иностранцы ему руку пожимают, забыв про русский бандитский капитализм… Хочет быть белым и пушистым. Благотворительность развел. В политику лезет, хотя я предупреждал… Все рассчитал… А аппетит растет… Что он там про трубу на Китай? Наглый! Думает, что всех купит, если что. А ведь и купятся… Я-то знаю. И он знает, что я знаю.
Честные тут ко мне пришли… Интересно, когда эти ребята в последний раз жили на зарплату? Долго говорит, один за всех. Ну, посмотрим, придет время, будут ли все за одного… Олигархи… А государство — это я. И поэтому они все ко мне приходят и заискивающе хихикают, и ломают себе голову, о чем бы таком важном для государства со мной поговорить. О государстве теперь радеют. Чиновники им не нравятся… А сами полстраны задарма получили. Ох, ребята, поговорить бы с вами в другом месте…»
Есть железное правило, которому в России учат с детства. Если на тебя нападают несколько человек и драка неминуема, то бери за горло самого сильного. Если повезет вывести из игры лидера, то шанс уцелеть и отбиться выше. Ни Путин, ни Ходорковский не росли в тепличных условиях. Думаю, они оба прекрасно знали это правило. Путин с олигархами ельцинского разлива и через два года во власти чувствовал себя слабым питерским пацаном перед крепкой московской шайкой. Но за питерским пацаном на сей раз была вся государственная машина. А за олигархами — капиталы и их компании, которыми абсолютное большинство из присутствовавших не готовы были рисковать. В их силе была их слабость. Путин взвесил: беспроигрышная ситуация. Вышибать надо этого очкарика с компанией номер один в стране, которого, в отличие от всех остальных, представили просто по имени, как звезду, которому «шайка» доверила говорить. Остальные построятся сами. Соединение опыта дворового детства, школы КГБ со школой дзюдо подсказывало: пора бить.
Ходорковского арестовали ранним утром 25 октября во время дозаправки арендованного им самолета в Новосибирске.
На этот момент у ЮКОСа уже были заложники в тюрьме. 19 июня посадили начальника отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. 2 июля арестовали совладельца компании Платона Лебедева. Под подпиской о невыезде с начала октября был еще один акционер — Василий Шахновский. 4 июля в прокуратуре допросили двух крупнейших совладельцев ЮКОСа — Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина. Каждую неделю Генпрокуратура проводила обыски и выемки, которые явно носили устрашающий характер. «Что они делают?» — спросила я одного из коллег, имевшего источники в правоохранительных органах. «То же, что в Чечне, — ответил он. — Наносят точечные удары, нейтрализуют лидеров».
Да и сам характер ареста Ходорковского напоминал захват террориста. Самолет отогнали на запасную стоянку, к нему подъехали два автобуса. Из них вышли специально обученные ребята из ФСБ.
МБХ: Никакой информации о моем аресте, которую можно было бы назвать «конкретной», мне никто не предоставлял. Да и не интересовался я такой информацией. Ситуация была очевидной: все на грани. Те, кто хотел мне помочь, делали что могли. Противники — тоже. Если вы представляете процедуру принятия решений в Кремле, то она предусматривает повороты в любой момент.
В этой ситуации вызов на допрос в Генеральную прокуратуру был очевидным «последним звонком». Хотя уровень риска адекватно воспринимался уже на этапе последней поездки за рубеж, где я попрощался с друзьями.
Совершенно непонятно, зачем было гнать «группу захвата» ночью из Москвы в Новосибирск — почти четыре часа лета. Если решение было принято, то почему было не арестовать Ходорковского прямо в Нижнем Новгороде, который всего в часе лета?
МБХ: Да потому же, почему и все остальное, — параноидальная боязнь. В Нижнем — слет правозащитников. «А вдруг…»
Я ожидал менее «эффектных» ходов — обычного ареста во время допроса в Генеральной прокуратуре.
Если бы вы видели снайперов на крыше суда в Чите в 2007 году, то многое вам стало бы ясно сразу.
Мне потом говорили, что они решили: я лечу в Эвенкию, чтобы получить сенаторскую неприкосновенность, но думаю, что это только попытка поиска объяснений. То, что в сенаторы идет Шахновский, а не я, и то, что необходимо получать подтверждение палаты, они не знать не могли.
Я отлично помню тот период. Было ощущение, что Ходорковскому все время сигналят — уезжай… А он не реагирует. Вполне возможно, что утечки информации о возможном аресте были сознательными. С другой стороны, Ходорковский, конечно, взвешивал, что может произойти, если он решит уехать. Например, арестуют все равно и представят преступником, который пытался бежать из страны. Более чем возможный вариант.
МБХ: Версия «последнего предупреждения» может рассматриваться наряду с другими, типа версии о провокации, но мне не интересно гадать об их мотивах.
Я спал спокойно, даже в самолете, и потом, в тюрьме. Семье не говорил ничего о возможном аресте. Зачем? Практическую подготовку я выполнил. Будет — значит будет. Чего нервы трепать?
Наш Ту-134 приземлился на плановую дозаправку. Его оцепили сотрудники ФСБ. В самолет зашла «группа в гражданском», которая вежливо попросила меня пройти с ними. Дали собраться и проводили в «свой» самолет — Ил-86.
Никаких ужасов. На пути в Москву не беспокоили, я читал. Прилетели, усадили в микроавтобус и с кучей сопровождения — в здание на Техническом. Там сотрудники ФСБ «передали» меня прокурорским.
Знакомые из спецслужб рассказывали, что в самолете, доставившем Ходорковского в Москву, был крупный чин из руководства силовиков. Возможно, опасались, что бойцы перестараются. А может быть, уровень арестанта предполагал присутствие кого-то из больших начальников. Также возможно, большому начальнику было поручено переговорить с задержанным без протокола. И такой разговор, говорят, состоялся. Те, кто о нем знает, уверяют меня, что Ходорковский ни разу никому его не комментировал. Партнеры Ходорковского предполагают, что в Москву бизнесмена доставил генерал Владимир Проничев, возглавивший в 2003 году Пограничную службу ФСБ. Сам Ходорковский это отрицает.
Личный адвокат Ходорковского Антон Дрель: Мы виделись накануне его отъезда. Ходорковский вытащил меня к себе домой, в Жуковку. Кстати, я был у него дома тогда в первый раз.
И история наших отношений была недолгой. Я не собирался работать с Ходорковским. Много разных мифов было вокруг группы — про агрессивность, жадность, что не могут довести до конца ни одного проекта, что их будут мочить, потому что они поддерживали коммунистов на выборах, что у них страшенная служба безопасности. В общем, великий и ужасный Ходорковский. А потом Вася Алексанян меня уговорил встретиться, сказал, что Ходорковский ищет личного адвоката. Мы встретились в феврале 2000 года. Он поздоровался с полупоклоном — уважительно, без всякого высокомерия. Попросил рассказать о себе: армия, учеба, работа. Я рассказал, честно сказал, что у меня были проекты с другими олигархами, в том числе с Романом Абрамовичем. Он все выслушал и предложил мне самому сформулировать условия, на которых я согласился бы работать. Ну вот, оказалось, что есть миф о Ходорковском, а есть Ходорковский.
Я приехал к нему. Мне не показалось, что он внутренне готовился к аресту. Сказал: «Вероятность моего ареста сейчас 90 %, но не 100. Для 100 % нужна санкция…» Как же он его назвал? Не могу вспомнить. Все называют Путина по-разному. Питерские говорят «директор», приближенные к власти бизнесмены — «начальник»… Ну, в общем, санкция Путина.
Мне кажется, он ожидал, что Путин скажет ему сам, лично: вали отсюда или арестуем. Мне рассказывали тогда, что он пытался встретиться с Путиным после ареста Платона в июле 2003-го. Просил Патрушева помочь, директора ФСБ. Патрушев тогда был достаточно нейтрален. Патрушев предложил ему встретиться с генпрокурором Устиновым, но Ходорковский отказался. Устинов же предлагал «договориться». А Ходорковский «не договаривался».
Ходорковский не хочет комментировать свою встречу с Патрушевым, и, таким образом, вышесказанное остается лишь версией. Претензия, назовем это так, генерального прокурора Устинова оценивалась в $280 млн, которые группа Ходорковского якобы должна была доплатить по своим инвестиционным обязательствам перед предприятием «Апатит». Именно такая сумма ущерба фигурировала в официальных материалах прокурорской проверки по результатам приватизации «Апатита».
Такое предложение не было беспрецедентным. В 2000 году с аналогичными претензиями «наезжали» на владельцев крупнейших российских компаний: Вагита Алекперова, Владимира Потанина… Летом того года глава «Интерроса» Потанин, например, получил письмо заместителя генпрокурора Юрия Бирюкова, в котором утверждалось, что в 1995 году ОНЭКСИМбанк недоплатил $140 млн за 38 % акций «Норильского никеля». Этот ущерб предлагалось «незамедлительно возместить», и тогда, обещал Бирюков, к Потанину «не будут в дальнейшем предъявляться требования в судебном порядке». Судя по тому, что они и не предъявлялись, Потанин нашел способ договориться с государством. Ходорковский — нет.
Антон Дрель: Последней точкой своей предстоящей поездки Ходорковский назвал Эвенкию, куда он собрался лететь вместо Василия Шахновского (которого выдвинули в Совет Федерации от Эвенкии).
В пять утра 25 октября позвонил охранник Ходорковского. Рассказал про арест. Я позвонил Владимиру Дубову, одному из акционеров Группы МЕНАТЕП и в то время депутату Думы. А в 10.30 раздался звонок с мобильного Ходорковского. Он уже был в Москве… Я приехал в прокуратуру. Ходорковский сидел подчеркнуто расслабленно. Напротив сидел следователь Радмир Хатыпов (потом его за что-то уволили или принудили написать заявление по собственному желанию), и они говорили «за жизнь». И Ходорковский курил одну за другой…
Никогда не видела Ходорковского курящим. Друзья говорят, что иногда, когда выпивал, мог стрельнуть у кого-нибудь сигарету. А выпивал, когда не собирался больше в этот день работать. Грамм 50 виски. С удовольствием. Но, видимо, не часто. Соседи по «Яблоневому саду», поселку в Жуковке, где жили акционеры компании, рассказывают, что работал он все время. И если вечером кто-то выходил просто прогуляться или выгулять собаку и встречал Ходорковского, то по его сдержанному «добрый вечер» понимал, что у него там, в голове, крутится какая-то мысль, которую он не хотел бы потерять, отвлекшись на светский разговор. В его кабинете допоздна горел свет. Или работал, или читал.
В последний раз Ходорковский был дома 19 октября. И если бы вышел погулять, то мог встретить разве что двух из остававшихся на свободе и в стране партнеров — Василия Шахновского и Владимира Дубова. За эти последние месяцы перед арестом «Яблоневый сад» заметно «поредел».
Поездка Ходорковского по стране стартовала 20 октября 2003 года: Липецк, Воронеж, Белгород, Тамбов, Саратов, Нижний Новгород… Предполагалось, что он будет в дороге две недели.
Тема его бесед и лекций была вроде бы чисто экономической, но, дослушав Ходорковского до конца, внимательный студент, или бизнесмен, или просто слушатель, или телезритель обнаруживал не только экономическую, но и политическую стратегию, которую предлагал Ходорковский в интересах развития страны. Он утверждал, что для движения вперед нужны: 1) воспроизведение высокоинтеллектуальных людей, то есть образование; 2) возможность для этих людей эффективно работать в России, то есть интеграция России в мировую экономику; 3) желание этих людей жить в России, то есть развитие гражданского общества в стране.
Что делал Ходорковский с точки зрения Кремля? Ездил с предвыборной программой. В полном соответствии с теорией заговора олигархов, которую под заказ путинских силовиков или по собственной инициативе подробно изложил в опубликованном в мае 2003 года докладе политолог Станислав Белковский. По этой теории олигархи готовились изменить Конституцию и трансформировать Россию из президентской в президентско-парламентскую республику, которую возглавит, конечно же, идеолог этого заговора Михаил Ходорковский. Мне очевидно, что этот документ задевал все чувствительные струны президента Путина: профессиональную подозрительность, злопамятность, зависть, неуверенность в себе, чтобы не сказать трусость.
Авторы доклада отлично выбрали время для его публикации — буквально через две недели после официального объявления о слиянии ЮКОСа и «Сибнефти», в результате которого новая компания становилась лидером на российском энергетическом рынке. Плюс одновременно шли переговоры о слиянии ЮКОССибнефть с компанией Chevron с сохранением за россиянами 30 % (самый крупный пакет) объединенной компании. Слияние с западным гигантом уже гарантировало компании первое место в мире по запасам нефти, второе — по добыче и скачок в первую мировую пятерку по капитализации. А впереди, в декабре, были парламентские выборы и формирование новой Государственной думы, на которую, как утверждалось в докладе, у самого богатого человека в стране были свои виды.
С учетом всех этих реальных и выдуманных обстоятельств фигура Ходорковского раздувалась до уровня большой, очень большой опасности для неокрепшего еще президента. Ходорковский отлично понимал, как может разозлить недругов своей поездкой. Но, как говорят его коллеги, он считал, что к осени 2003 года политический маятник слишком качнулся в сторону силового крыла в окружении президента (заместитель руководителя администрации президента Игорь Сечин и питерская команда) в ущерб либеральному крылу, которое Ходорковский ассоциировал с руководителем администрации президента Александром Волошиным. Возможно, он наивно надеялся изменить ход истории. Или наивно надеялся на Волошина. А надеялся точно, потому что незадолго до ареста сказал мне, что сигналом реальной опасности может служить уход из администрации президента Александра Волошина. «Вот тогда точно все, безнадежно». Волошин ушел в отставку через неделю после ареста Ходорковского, так что сигнальная система дала сбой или сработала с точностью до наоборот. Случайно или нет.
Василий Шахновский сказал мне, что он пытался отговорить Ходорковского от этой поездки. Но его же не отговоришь…
МБХ: Затаиваться, плести какие-то заговоры, отсиживаться в кустах — наверное, это правильно, но я так жить не умею и не хочу. Первые «путинские» годы мне казалось, что он хотя и другой, чем Ельцин, но готов к открытой дискуссии и к восприятию чужого мнения. Поэтому я честно пытался помогать, открыто встав на сторону «несилового крыла».
Арест Платона показал: мы с Путиным из разных миров. Наверное, это надо было осознать раньше, но, пока тема не прошла через сердце, осознать не получилось.
Что оставалось? Мне объяснили, что это — заложник. Будут еще. Уезжать? Оттуда лаять на свою страну? Не мое. Тогда вперед, в политическую оппозицию. Открыто. В крайне слабой надежде, что поворот назад не будет столь крутым.
Говорил ли, советовался ли с коллегами? Несомненно. Своих предупредил о рисках, рекомендовал уехать. С политическими союзниками обсудил их возможные проблемы. Никто не заявил, что я его подставляю, не предложил иного, приемлемого пути.
Остальное было делом моих собственных убеждений.
После ареста многие говорили, что ЮКОС стал таким большим, что Ходорковский потерял ощущение реальности, почувствовал себя хозяином жизни, которому все позволено, неприкасаемым. И в этом, считают, была его ошибка. Ходорковский не соглашается.
МБХ: Неприкасаемым? После Гусинского? После Платона, наконец? Смешно. Скорее, я взвешивал, не убьют ли, но решил, что не станут.
Владимир Дубов, акционер Группы МЕНАТЕП, бывший депутат Государственной думы: Я был в Москве. Сначала мне позвонила наша диспетчер, которая управляла передвижением арендованного Ходорковским самолета. Она сказала, что наш самолет в Новосибирске отогнали на резервную полосу. Потом позвонил директор авиакомпании, у которой мы арендовали самолет. Потом перезвонила диспетчер и сказала, что ОМОН заблокировал самолет. Потом позвонил адвокат Антон Дрель: Ходорковский арестован.
Мы виделись с Мишей 19 октября в «Кораллово», был день рождения созданного им лицея. Я туда привез Починка (в то время министр труда и социального развития. — НГ). Починок тогда сказал, что не известно еще, что ему завтра скажет Путин по поводу этого его визита к вам. Но все же приехал. Еще не так сильно все боялись. Мы говорили с Мишей о возможном отъезде его личного помощника. Ходорковский считал, что ему необязательно уезжать. Мы уже знали, что парня поставили на прослушку, и он правда боялся. Ходорковский в результате согласился, и помощник улетел на Кипр, а оттуда в Лондон.
Мне кажется, что все это время, вплоть до ареста, у нас всех была какая-то надежда, что обойдется. Изнутри ситуация не казалась такой уж беспросветной: с нами общались министры и чиновники, приветливо встречались губернаторы. Правда, за два дня до ареста от Суркова окольными путями пришла информация, что губернаторам запретили с нами общаться. С другой стороны, за пару дней до отъезда в эту последнюю поездку к Ходорковскому заезжал Волошин, и расстались они вроде бы вполне оптимистично.
20 октября мы вместе улетели в Мордовию. Потом он полетел дальше. Мне показалось, что он не был уверен, что арест неминуем. Помню, я спросил его, каковы у нас шансы на позитивное разрешение всей этой ситуации. Он ответил: «15 %. Если будем работать как сумасшедшие, то эта вероятность удвоится». Напомнил русскую историю: что да, новгородцы изгнали князя (в 1136 году новгородцы изгнали князя Всеволода Мстиславовича. — НГ), но во всех остальных случаях государство побеждало.
Когда он уезжал в эту последнюю поездку, было понятно, что это опасная игра, но мы привыкли ему верить, а он говорил, что так надо. Он или не думал, что так все произойдет, или думал, но не хотел пугать. Вообще, в какой-то момент Ходорковский прекратил коллективные обсуждения ситуации, у каждого был свой сектор работы и общая трепология не приветствовалась. Может быть, поэтому я не вполне был готов к такому варианту событий — к его аресту.
На следующий день после ареста я встретился с Романом Абрамовичем, владельцем «Сибнефти». Он только прилетел из Лондона. Я поехал к нему. Хотел понять, как они в «Сибнефти» оценивают ситуацию, что это все такое и что они собираются делать. Напомню, что к этому моменту мы были практически одной компанией и у нас были общие интересы. Мы вместе вели переговоры о слиянии с Chevron. У меня не было никаких мыслей о возможной двойной игре со стороны Абрамовича. Плюс по условиям договора с «Сибнефтью» за разрыв сделки была предусмотрена неустойка в $1 млрд. Это серьезно.
К Абрамовичу тогда же приехал Леша Венедиктов. Он рассказывал о том, что происходит. Меня удивило: как будто отчитывался начальнику. Потом мы переговорили вдвоем. Абрамович сказал: «Я съезжу в Кремль. Разберусь». Он так и не отзвонил.
Логично предположить, что после ареста «группа в гражданском» пришла с обыском домой. Но нет. Никогда — ни до, ни во время, ни после ареста, ни по сей день — дома у Ходорковского не было ни одного обыска. Ощущение, что решение об аресте принималось в последний момент, как-то спонтанно, импульсивно даже. Ходорковский забыл при аресте в самолете портфель, который потом попросил адвоката забрать. О’кей, но если организуется целая операция с полетом через полстраны спецназа ФСБ и прочими признаками охоты на особо опасного преступника, то уж как-нибудь портфель с документами-то прихватите. Может быть, там важные доказательства его вины, в этом портфеле. Или такие доказательства могли оказаться у него дома. Теоретически. Какие-то записи или документы…
Сам факт, что Ходорковский, уезжая, оставил дома все так, как было, говорит, скорее, о том, что он до конца не верил в возможность ареста. Но он утверждает, что это не так.
МБХ: Я мало сомневался в реальной возможности ареста, однако мои представления о судебной системе были наивными. Имея опыт сотен арбитражных процессов, мне казалось, что я понимал возможную степень «прогиба» судей под влиянием «телефонного права».
Да, все, что можно истолковать в пользу «работодателя», все будет истолковано, но пойти прямо вразрез с законом? С таким я лично в арбитражных судах не сталкивался («дело ЮКОСа» было позже).
Поэтому мои предположения строились на возможности держать меня в тюрьме путем бесконечного следствия.
Мы предполагали и два года, и пять. Иллюзий повтора «дела Гусинского» не было. На нем власть слишком обожглась.
Команда для моей замены была подобрана и уже прошла стажировку (Стивен Тиди и Брюс Мизамор).
Вероятность отъема у нас ЮКОСа мы рассматривали как реальную, а вот разгром компании предвидеть не могли, поскольку он не ложился не только в рамки закона, но и в обычную логику прагматичного «государственника».
Однако привычка страховаться, к с частью, не подвела. После моего ареста дальнейшие шаги менеджмента были точными и соответствующими ситуации, тем более что международная практика существует.
Российские власти реализовали достаточно обычную для стран третьего мира модель. Реакция западных стран также была прогнозируемой и стандартной.
Единственный выбор возник у менеджмента после ареста всех счетов (в начале 2004 года) — останавливать производство или продолжать работу. Было принято решение не вовлекать в противостояние персонал компании, привязанный к своим «моногородам».
Вскоре после ареста Платона Лебедева я сделала интервью с Борисом Березовским, уже осевшим в Лондоне. Он предсказывал, что Ходорковского ждет аналогичная судьба, то есть политэмигранта (не угадал), и что компанию у него заберут (угадал). Ходорковский встретился со мной после этого интервью. Он был так зол, что говорил почти шепотом. По-моему, его бесила каждая фраза этого интервью. Я вспомнила рассказы его коллег: шеф всегда понижает голос, когда сердится.
— Неужели вы думаете, я отдам им компанию?
— Нет, не думаю. Я думаю, у вас ее заберут без спроса.
Сейчас Ходорковский говорит иначе.
МБХ: В то, что компанию могут забрать, я верил с того самого февральского заседания, где я выступил от РСПП с докладом о коррупции.
Может быть, и тогда, во время нашей встречи в центральном офисе ЮКОСа, он так думал, но вслух этого не произнес. Он на минуту задумался и сказал:
— Вы когда-то дали мне совет: не доверяйте Путину.
Действительно, после многочасового интервью с Путиным в феврале 2000 года и выхода книги «От первого лица»[14] мы встречались с Ходорковским и Невзлиным, и они расспрашивали о моих впечатлениях о Путине. Я, в частности, ответила, что никогда не принимала бы то, что он говорит, за чистую монету. Путин слишком хорошо владел профессиональной способностью располагать к себе собеседника и подстраиваться под то, что этот собеседник хотел услышать, чтобы ему можно было безоговорочно доверять.
Ходорковский продолжил:
— Я всегда помнил эти ваши слова. Но один раз забыл. Знаете почему? Потому что со мной говорил президент страны. И мне было сложно представить, что президент страны может вот так просто врать. Теперь я за это расплачиваюсь.
В комнату зашли люди, и я так и не успела спросить, в какой же момент он поверил Путину. Ответ на этот вопрос узнала много позже.
Василий Шахновский, акционер Группы МЕНАТЕП: Это была последняя личная встреча Ходорковского с Путиным. То ли 29, то ли 30 апреля 2003 года, точно дату не помню. Я могу рассказать лишь то, что мне рассказал Миша сразу после встречи.
Они встретились на даче Путина в Огарево. Встречу организовал Роман Абрамович, но он на ней не присутствовал. Процесс слияния ЮКОСа с «Сибнефтью» продолжался. Путин, естественно, был в курсе. Я, может быть, уже не вспомню все детали. Но, как мне помнится, сначала они разговаривали втроем: Путин, Швидлер и Ходорковский — руководители государства, «Сибнефти» и ЮКОСа. Речь шла о предстоящей сделке объединенной компании «ЮКОССибнефть» с Chevron. Переговоры с Chevron продвигались очень удачно. Обсуждались уже конкретные детали. Как ты понимаешь, такие серьезные сделки без согласования с Кремлем невозможны. Путину идея сделки понравилась, по крайней мере на словах он поддержал ЮКОС: «Действуйте. Тут все не так просто, разное про вас докладывают. Но я вас поддержу и в случае чего прикрою».
А потом Ходорковский и Путин остались вдвоем. И Путин сказал: «Прекратите финансировать коммунистов». Я тогда несколько удивился, когда об этом узнал, поскольку за несколько месяцев до этого, со слов Суркова, нам как раз было разрешено это делать. То есть мы эту тему с Кремлем согласовали. А может быть, Слава мне так сказал, а с Путиным не согласовал. Не думаю, что это был разговор в стиле «начальник-подчиненный», но слова Путина были восприняты Мишей как однозначное требование.
После встречи Ходорковский был спокоен, скорее, доволен разговором. И кстати, выполнил требование президента. Он перестал финансировать предвыборную кампанию коммунистов, но продолжал поддерживать либеральные партии — «Яблоко», СПС, ну и главную властную партию «Единая Россия!». Таковы парадоксы российской политики. Финансирование партии власти является, в сущности, обязательным атрибутом «неучастия» бизнеса в политике.
Путин, глядя в глаза Ходорковскому, сказал: «Действуйте, мне нравятся ваши планы». Но Путин не «прикрыл», как обещал, когда пришли за Платоном Лебедевым. И не «прикрыл», когда пришли за Ходорковским. Позднее стало понятно, что на момент последней встречи между бизнесменом и президентом работа спецслужб по ЮКОСу велась вовсю. Специальная группа была создана и начала «копать» под ЮКОС еще в конце 2002 года. Ее возглавил Юрий Заостровцев, в тот момент заместитель директора ФСБ, начальник департамента экономической безопасности. Заостровцев отличился в борьбе с двумя другими олигархами — Гусинским и Березовским. Первого российский президент считал врагом. Второго — другом, предавшим дружбу. Думаю, что в подоплеке «наезда» Путина на того или иного человека всегда есть скрытый или явный личный мотив. В случае с Ходорковским он был усилен стараниями друзей президента, у которых явно разыгрался аппетит. Сужу по результатам: основной актив ЮКОСа достался госкомпании «Роснефть», совет директоров которой возглавил все тот же Игорь Сечин. Они хотели ЮКОС, а для этого надо было убедить президента «убрать» Ходорковского.
МБХ: Полагаю, что изначально, во всяком случае у Путина, это была история про Ходорковского. Когда в головах его окружения возникла идея про ЮКОС — я не знаю. Думаю, скорее «до», чем «после».
Когда они ее сумели внедрить в голову Путина? Скорее «после», чем «до», иначе Абрамович не сунул бы голову в потенциальную петлю. Он ведь «выскочил» не без риска.
Но вообще-то интриги — это не мое. Могу ошибаться.