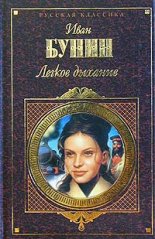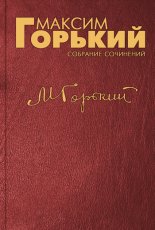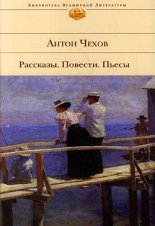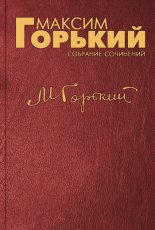Victory Park Никитин Алексей

2
Архив, конечно, не работал. Это обычное дело: если приходишь в какую-нибудь химчистку в среду, то узнаешь, что она работает по вторникам и четвергам, а если являешься во вторник, то оказывается, что рабочие дни – среда и пятница. В понедельник государственные учреждения лучше вообще обходить стороной. В понедельник служащие готовы сделать все, чтобы их тяжелый день стал твоим. Вот и архив был участником этого заговора бюрократов. Из расписания на двери следовало, что Ивана ждут завтра с десяти до двенадцати. А сегодня ему здесь делать нечего.
Он прошел насквозь небольшой сквер, разбитый перед старым корпусом «Химволокна», огляделся и решил идти в Очереты пешком. Погода была все еще солнечной, хотя первые тучи уже накрывали ДВРЗ и Харьковский массив. Багила рассчитывал, что на дорогу у него уйдет минут сорок. От силы – час. Но он ошибся. Пройдя метров двести, Багила увидел впереди Леню Бородавку. Леня шел забавной походкой маленького полного человека, выбрасывая ноги далеко вперед и размахивая руками у себя за спиной. Иван сбавил темп и двинулся следом за Леней. Так они шли довольно долго, пока Бородавка не свернул к небольшой платной автостоянке. Там он отыскал вишневую «шестерку», быстро протер лобовое стекло и уже собрался уезжать, но вдруг замер, опершись на открытую дверь машины. Наблюдая за ним, слегка озадаченный Багила попытался понять, почему Бородавка, так явно не склонный к пешим походам, не ставит машину на стоянке «Химволокна». Сложно ведь представить, что на эту прогулку по промзоне Леня решился ради поддержания физической формы. Между тем, Бородавка стоял возле заведенной машины, все стоял и не уезжал. Багила проследил за его взглядом и увидел на другой стороне улицы, в тени трех чахлых кустов сирени, Кинокефала и Прекрасную Пантеру. Сперва Иван не понял, что они делают здесь, между ДШК и «Химволокном», тоже ведь не лучшее место для романтических встреч, но тут же вспомнил, что Ирка, Прекрасная Пантера его бестиария, учится в здешней бурсе – швейном училище, ну а Кинокефал – Толик Руль, наверное, заехал за ней, чтобы отвезти домой. Или куда там он хотел ее отвезти?.. Раз Толик Руль здесь, то где-то за кустами должен стоять и его Чезет.
В профиль Толик здорово напоминал терьера – голова рыжая, прямоугольная, челюсть крепкая. Красоты в нем не было, и характером на дружелюбного терьера он не походил совсем. По наблюдениям Багилы, Толик был коварен и подловат. Но вот уже год как он выиграл кубок Украины по мотокроссу, стал звездой, и за то, чтобы вечером красиво подъехать к танцплощадке на Чезете с Рулем за рулем, парковые девчонки могли позволить ему многое. Вот и сейчас дела у него шли неплохо. Он что-то говорил Ирке на ухо, крепко обхватив ее, прижавшись сзади и положив ей на плечо свою рыжую собачью морду. Его руки в темно-коричневых перчатках на груди и на талии Ирки были видны издалека, и, похоже, это зрелище совсем не понравилось Лене Бородавке. Коротко ругнувшись, Леня сел в машину и, громко хлопнув дверью, начал выруливать к воротам. Не то услышав хлопок, не то закончив обсуждать непростые отношения, связывавшие их, Ирка дернула плечом, Толик Руль отпустил ее, вывел из-за кустов сирени красный Чезет, и через полминуты они умчались в сторону Комсомольского.
Оставшись один, Багила в очередной раз подумал, что Пеликану с Иркой не повезло. Впрочем, сам он, да и все их друзья предупреждали Пеликана, что будет именно так, а потом говорили ему, что их предсказания уже сбываются в полной мере и даже с перебором. Но для Пеликана эти слова ничего не значили…
А ведь есть же на Комсомольском девчонки, готовые появиться на пути Пеликана, когда он идет в парк или покупает квас возле «Алмаза». Вот как они узнают маршруты Пеликана? Наверное, инстинктивно, как птицы. Правда, Пеликан их не замечает. Зато замечает Багила.
3
Пеликан и Багила были знакомы с первого класса, их дружба началась с поисков партизанской землянки. Каждый школьник Комсомольского массива в те времена знал, что за болотом, в лесу, в самой глухой его части, куда аллеи парка не добрались и доберутся еще нескоро, со времен войны осталась партизанская землянка. Те, кто в ней был, говорили, что в землянке на стене висит карта подземных ходов, а под картой, на ящике с гранатами, сидит скелет немца в форме и в каске. Руки немца связаны цепью. Пеликану рассказали об этом знакомые третьеклассники и пообещали взять его с собой, когда в следующий раз отправятся за гранатами. Но время шло, а экспедиция все откладывалась. Потом полили дожди, началась зима, выпал снег, а весной было не до того. Следующей осенью Пеликан встретил бывших третьеклассников и спросил, когда ему все-таки покажут землянку, но они отвечали, что были там недавно и гранаты все уже забрали, так что смысла идти в землянку больше нет никакого. А если Пеликану очень нужно, то пусть отправляется сам, не такое уж это и сложное дело. Пеликан бы и пошел, но он не знал наверняка, где именно искать землянку, да и вообще он тогда ничего не знал ни про парк «Победа», ни про лес, ни про болото. Кроме разве что одного: болото до сих пор опасно, и каждый год там гибнут люди, вот, например, недавно одна девочка из сто восемьдесят третьей школы пошла после уроков не домой, а в парк и пропала. А потом ее портфель нашли возле болота.
Учителя пугали их умышленно и изощренно, наверное, они даже обменивались опытом – как пострашнее напугать учеников, чтобы те держались подальше от парка. Пеликан, разумеется, боялся, как и все, но с землянкой все же надо было разобраться раз и навсегда. Он вызвал на разговор Багилу – единственного очеретянца в их классе – и спросил, бывал ли тот в землянке. Багила тоже много о ней слышал, но не видел ни разу. Всю зиму Пеликан и Багила готовили предприятие, решая, как поступят со скелетом немца и с картой подземных ходов. Договорились, что карту возьмут с собой и потом первыми пройдут всеми ходами. Было даже как-то странно, что никто до сих пор этого не сделал. Дохлый немец их не интересовал.
Экспедицию сперва назначили на весну, но в апреле Пеликан заболел, и потом весь май его забирала из школы бабушка. Поэтому пришлось еще раз менять планы и сдвигать сроки. Опять на осень.
Наконец в середине сентября они объявили недельную готовность. Пеликан отвечал за фонарик и веревку, Багила обещал принести большой мешок и нож; два двухметровых шеста были спрятаны в траве недалеко от центральной аллеи. В субботу они встретились у входа в парк, напротив Дарницкого бульвара. Вместо учебников у Пеликана в ранце лежали резиновые сапоги. Багила пришел без портфеля, но с рюкзаком.
Маршрут поиска был придуман и нарисован ими давно, однако стоило свернуть с главной аллеи, как тут же оказалось, что следовать ему невозможно: то приходилось обходить густые и оттого непроходимые кустарники, то линия поиска вообще выходила за пределы парка. Тогда они пошли просто наугад, уже понимая, что вряд ли что-то найдут, разве что случайно, но и не желая сдаваться, едва начав поиски.
Когда добрались до болота, все стало и вовсе скучно: проходимые участки были исхожены, истоптаны, и незаметной землянки там, конечно, не было, а в непроходимых и заболоченных ее быть просто не могло. Кто станет рыть землянку в воде? Начинался дождь, уже хотелось есть и пора было расходиться по домам. Но бросить все вот так, без результатов, сдаться, признать, что экспедиция провалилась, и не добыть партизанский план подземных ходов они тоже не могли.
– Я все понял, – сказал Пеликан, когда они вышли к небольшой березовой роще. – Просто землянку уже засыпали. Нам надо искать засыпанную землянку. Ты ничего похожего не видел?
– Конечно, видел, – обрадовался Багила. – Было одно место, когда я даже подумал, что это похоже на засыпанную землянку.
– Надо вернуться и исследовать ее, – Пеликан решительно развернулся и пошел в сторону болота.
– Да? – неуверенно спросил его Багила. Ему уже не хотелось никуда возвращаться. – Ну хорошо.
Тут Пеликан неловко ступил на мгновенно размокшую под дождем тропинку, поскользнулся и сел в грязь.
– Слушай, – предложил Багила, глядя на мокрого и грязного Пеликана, – давай мы ее исследуем, когда дождя не будет. Мы ведь ее уже нашли, мы знаем, где она. А сейчас лучше пойдем ко мне. Тут недалеко.
Так Пеликан впервые попал в Очереты и познакомился с дедом Максимом. Старый появился, когда, отмытые и переодетые в сухое, они уже сидели за обеденным столом. Приятель внука был представлен деду по всем правилам.
– Пеликан – старая шляхетная фамилия, – вспомнил Максим Багила. – Так ты поляк?
– Нет, – удивился Пеликан. – Я не поляк, – он привык, что на его «птичью» фамилию все и всегда обращают внимание. Ему это даже нравилось. Только поляком его еще никто не называл. – Я русский Пеликан.
– Хорошо, – дед Максим спорить не стал, но ухмыльнулся широко и весело. – Никогда не видел русских пеликанов. Ты первый.[1]
4
Багила шел в Очереты самым коротким путем. Пройдя улицу Малышко до половины, сразу за хлебно-молочным магазином он свернул и дальше двинулся дворами напрямик, с тем чтобы выйти на улицу Юности уже за двести четвертой школой. Наверное, и в детские воспоминания он погрузился из-за того, что подошел к родной школе на опасно близкое расстояние. Либо это она нагоняла ностальгический туман, либо где-то неподалеку проходил Пеликан. У Багилы часто так бывало: стоило подумать о Пеликане, и он тут же откуда-то появлялся.
Глава шестая
Повестка в военкомат
1
Комсомольский массив – заповедные кошачьи места. Коты и люди обживали его одновременно. Аккуратно обходя котлованы будущих домов, коты прокладывали охотничьи тропы, щедро метили углы новостроек, первые саженцы кленов и каштанов, дремали на пологих ветвях невысоких старых сосен, сохранившихся кое-где во дворах. А когда вслед за деревьями выросли еще и кустарники, все эти спиреи Тунберга, белые снежноягодники и калины гордовины, когда сирень поднялась в два человеческих роста, превратив дворы в роскошные охотничьи угодья, когда наконец в палисадниках зацвели абрикосы и вишни, коты завладели этими землями окончательно и решили не делить их ни с кем.
Во дворах собаки котам не конкуренты и не соперники. Собака живет или с человеком, или с другими собаками – стаей. Одинокая собака, даже если ее любят дети всего дома, все равно долго не продержится – уйдет к своим. А собачьим стаям в городе не место, их либо отлавливают, либо вытесняют в лес. И если майским утром пройти весь Комсомольский массив насквозь – от трамвайной остановки «Улица Юности» до станции метро «Дарница» – причем идти не тротуарами основных магистралей, а дворами, мимо подъездов домов, старых мусорников, мимо детских садов и голубятен, внимательно считая при этом встречных котов и собак, то вряд ли за время пути удастся учесть больше дюжины собак. Зато котов встретится не меньше трех десятков.
Большинство городских собак нервны и взвинчены: одних держит в напряжении близость непредсказуемого хозяина, других беспокоят актуальные вопросы выживания хищника в условиях современного мегаполиса. Редко встретится пес, беззаботно спящий на солнце, отбросив хвост и вывалив язык. Коты же, если не заняты охотой и не добиваются внимания прекрасной дамы, – расслабленно медитируют на подоконниках первых этажей или на лавочках у подъездов. Они смотрят на нас лениво и свысока, потому что этот мир принадлежит им.
Насчитав восемнадцать котов на пути от парка до улицы Малышко, Пеликан подошел к дому букиниста Малевича. Девятнадцатый кот встретился уже у входа в подъезд. Двадцатый – пушистый сибирский гигант Ячмень – ждал его в квартире букиниста.
– Сегодня Ячмень порвал отечественную цензуру, – встретил Пеликана Виталий Петрович Малевич. – Я всегда подозревал в нем скрытого либерала.
– Извините, Виталий Петрович, – не верю. Призраки, привидения и отечественная цензура порваны быть не могут. При всем уважении к талантам Ячменя. Каждому пионеру известно, что их в природе нет, а цензуры у нас нет особенно.
– Разве я сказал, что он уничтожил несуществующую советскую цензуру, Пеликан? От его когтей пострадал сборник распоряжений по цензуре: три устава, циркуляры, постановления. С петровских времен и до царствования Александра II Освободителя.
– Не либералом он себя показал, Виталик, а обычным невоспитанным котом и стихийным анархистом, – донеслось из гостиной. – Либералы-то как раз пытались упорядочить дикую русскую цензуру. Подчинить ее хоть каким-то законам. Уж если совсем без нее не получалось. Эти прекрасные возвышенные люди верили, что Россия может жить по правилам.
В гостиной на журнальном столике уже стояла початая бутылка «Слънчева бряга» и два бокала с коньяком.
– Жорик, они ошибались. Россия не может жить по правилам. Ни по своим, ни по чьим бы то ни было. Никогда не жила и сейчас не станет. Мы все нарушаем их. Все. Вся страна. Каждый из нас, – Пеликан пожал руку высокому брюнету с породистым лицом, иссеченным резкими вертикальными морщинами. Глядя на него, можно было решить, что Жорик провел годы в экспедициях, на Крайнем Севере или в Сибири, что жизнь его была полна опасностей и лишений. На самом деле Жорик просто много и регулярно пил. Впрочем, опасностей в его жизни тоже хватало – Жорик зарабатывал торговлей самиздатом и книгами эмигрантских издательств. – Взять хотя бы нас с вами. Сию минуту я должен сдавать зачет по матфизике в двести восьмой аудитории физфака, Виталий Петрович – стоять у кульмана в мастерской на третьем этаже Киевпроекта, а ты, Жорик… даже не могу сказать, чем именно ты должен заниматься. Когда мы виделись в последний раз, ты числился инженером в автопарке и, кстати, обещал принести мне «Остров Крым».
– Если бы, Пеликан, я занимался тем, чем должен, то ты не напоминал бы сейчас об Аксенове. Ты просто зашел бы ко мне в магазин – у меня был бы небольшой книжный за Пассажем, на улице Заньковецкой, – и выбрал любое издание «Острова».
– А у тебя их было бы несколько, и все разные?
– Конечно! Было бы недорогое, в картонной обложке, издательства «Радянський письменник», еще одно такое же, но в мягком переплете, выпустила бы «Советская Россия». «Художественная литература» в серии «Библиотека классики» издала бы его как положено, в супере и с иллюстрациями. Ну а для ценителей вроде тебя я бы держал первое издание, «Ардис», 1981 год.
– Предлагаешь подождать до тех времен, когда ты откроешь свой магазин?
– Нет, только до тех, когда придет следующая партия книг из Штатов. Потому что поставку, на которую я рассчитывал и в которой был твой Аксенов, месяц назад задержали в Шереметьево. Тут ведь, Пеликан, момент тонкий – да, я нарушаю, их правила, но сами эти правила абсурдны и нелепы. В большинстве стран мира мое желание торговать книгами никого бы не удивило – открывай магазин, торгуй, плати налоги, и все дела. Но только не у нас. У нас я асоциальный тип и хожу под статьей, хотя по Конституции и у тебя, и у меня, и у любого есть право пользоваться достижениями культуры. Я уж не говорю о свободе слова, о ней я предпочитаю свободно молчать. Но я не всегда так покладист, и есть одно право, от которого я не откажусь ни за что. Это мое право на утреннюю чашку кофе с коньяком. Ради него я готов на время отказаться от всех своих конституционных прав. Но если из-за твоего прихода Виталик забудет о кофе, то я выйду на демонстрацию к Горисполкому и потребую немедленной свободы эмиграции для Леонарда Пелтиера.
– Идем на кухню, Пеликан, сварим кофе себе, а главное – Жорику. Иначе Валентин Арсентьевич Згурский будет втянут в международный конфликт. А кому это надо? Никому. – Малевич увлек Пеликана за собой. – Теперь рассказывай, почему ты здесь, а не сдаешь сессию.
– Хочу предложить вам одну книгу, Виталий Петрович. Мне срочно деньги понадобились. Сто сорок рублей.
– Ого. Это немало. Это половина моей зарплаты. Нет, срочно не получится, Пеликан. К концу недели в лучшем случае. Да и то… А что за книга?
– «Сады и парки» Курбатова. Санкт-Петербург. 1916 год.
– Ага, Курбатов. Получить за нее сто сорок, да еще и срочно… Даже не знаю, что тебе сказать.
– Сегодня нужны, Виталий Петрович. К шести часам вечера.
– Да это почти невозможно. Она и не стоит столько. То есть стоит, но для моего покупателя. А у тебя я ее только за сотню могу взять, не дороже. Да и то если книга в идеальном состоянии.
– Вот потому я и пришел именно к вам, – Пеликан решил, что время лести уже наступило. – Никто ведь другой не сможет ее так продать.
– Книга-то с собой?
– Я быстро принесу. Мне тут рядом, вы же знаете.
– Приноси, надо посмотреть на нее. Ко мне сегодня в обед заедет один человек. Ему про сады и парки сейчас интересно.
– Тогда я побежал?
– Да не спеши ты так. Идем кофе с Жориком выпьем.
Пока они мололи и варили кофе, в гостиную вышел весь пушистый и не желающий даже в мае линять Ячмень. Убедившись, что его давешняя атака на цензуру уже прощена и забыта, он уснул, устроившись под боком у Жорика.
– Тихо, не будите кота, – строго велел Жорик Малевичу и Пеликану. – Умом я хоть и не разделяю пристрастия Ячменя к экстремистским методам борьбы с цензурой, но сердцем все же с ним.
– Я знал, что твои слова в защиту цензурных уставов неискренни, – Пеликан передал Жорику его кофе. – Любая статья и любая книга рискуют оказаться под запретом там, где допустима хоть какая-то цензура. Вот, например, «Остров Крым»…
– Пеликан, я же попросил тебя, не приставай ко мне с Аксеновым. Когда будет, тогда будет. Сейчас у меня есть «Партократия» Авторханова и первый том «ГУЛАГа». Это все.
– Хорошие книги, – поднял бокал с коньяком Малевич. – Любую берешь в руки и знаешь, что от пяти до семи лет тебе, если что, обеспечены. Предлагаю выпить за наш уголовный кодекс – высшую и совершенную форму цензурного устава.
– Передайте Ячменю, когда проснется, слова моей поддержки, – Пеликан допил кофе и поднялся с дивана. – Я побежал за Курбатовым, Виталий Петрович. Буду через полчаса.
2
Пеликан и Малевич познакомились два года назад в букинистическом отделе писательского магазина «Сяйво». Они одновременно разглядели на самой верхней полке темно-коричневый корешок карманного географического атласа Маркса начала века и мгновенно в него вцепились. Для Пеликана это была невиданная книга сказочной красоты с гербами европейских держав, с изображением монет всех стран мира, включая экзотические эритрейские лиры и тунисские франки, с диковинной статистикой, наконец. Кто сейчас знает, что торговый флот Британии тех лет равнялся французскому, немецкому и российскому, взятым вместе? А Маркс знал.
Атлас стоил всего десять рублей, и Пеликан не мог выпустить его из рук, как ребенок не может отдать яркую елочную игрушку. Он ни за что не хотел упускать атлас. А у Малевича два таких же, только изданных несколькими годами раньше, уже стояли дома в шкафу, ждали покупателя. Конечно, он запросто мог попросить Жанну, которой всего год назад помог устроиться продавцом в «Сяйво», продать атлас ему, но делать этого не стал и уступил книгу нахальному десятикласснику. На этом он выиграл дважды, получив хоть и не очень состоятельного, но постоянного покупателя, а главное, у него появился новый друг. Малевич ввел Пеликана в узкий круг своих знакомых, назвать который узким можно было лишь потому, что существовал еще и широкий, а его границы вряд ли взялся бы очертить сам Виталий Петрович.
Болтаясь этим утром на колесе и разглядывая с его высоты аллеи парка, Пеликан вдруг вспомнил, что у него же есть Курбатов. А вспомнив о книге, тут же понял, что если Малевич ему поможет, то он сумеет достать деньги на подарок для Ирки. Ну а если не сможет Малевич, то, наверное, ему не поможет уже никто.
Полчаса Пеликану должно было хватить, чтобы сбегать домой и вернуться с книгой. Он жил неподалеку, в старой панельной пятиэтажке, одной из тех, с которых когда-то начинался Комсомольский массив. С его последнего, пятого, этажа, из-под вечно протекающей, кое-как залитой битумом плоской крыши, в первые годы были неплохо видны колокольни Лавры и Софии – весь киевский правый берег. Однажды Пеликан разглядел с балкона огромную летающую тарелку, севшую на строящийся Дом Торговли. Он наблюдал за ней несколько дней, и все это время тарелка оставалась на крыше, никуда не улетала, а по ночам ее даже подсвечивали. Наверное, изучали. Пеликан решил, что обязательно должен увидеть ее вблизи. Вдвоем с Багилой он отправился к Дому Торговли с инспекционной поездкой. Тогда они учились классе в третьем или в четвертом, и само путешествие на Львовскую площадь поразило их, пожалуй, сильнее, чем строительство новой высотки. Все-таки правый берег – не левый, что ни говори. Тем более что тарелки никакой там не оказалось – за тарелку Пеликан принял белый шар метеорадара между стрелами двух подъемных кранов. Вблизи и не похоже совсем на тарелку.
Ну а потом как-то быстро, чуть ли не за год, перед его домом все застроили, и из окон Пеликана, с его пятого этажа, теперь были видны одни лишь стены шестнадцатиэтажных общежитий. Никакого правого берега – ни Софии, ни Лавры, только Дом Торговли какое-то время еще маячил на отшибе. А потом застроили и его.
Пеликана эти перемены так разозлили, что он даже плеснул свежей пионерской желчи в школьное сочинение на безобидную тему «Вид из моего окна». За сочинение он получил тройку с двумя минусами, в кровь расцарапавшими тетрадный лист. К оценке прилагалось указание раздраженным почерком: Смотреть нужно выше! И шире!
3
Миновав нелюбимые общаги пединститута, он подошел к своему дому и у входа в подъезд привычно проверил почтовый ящик. Газет не было, писем не было, зато пришла повестка из военкомата. Пеликану предлагали через пятнадцать дней явиться для прохождения медосмотра на улицу Лебедева. На этот раз о нем не забыли.
Его должны были забрать еще прошлой осенью, после первого курса. Но почему-то этого не сделали. Может быть, его дело попало не в ту стопку, не в тот ящик, легло не на тот стол, не к той девушке, прапорщику советских вооруженных сил. Неизвестно, что там случилось, но лето миновало, заканчивалась осень, однокурсники Пеликана один за другим получали повестки на расчет и уходили в армию, а Пеликана в военкомат все не вызывали. Так и не вызвали. Зато в конце зимы его пригласили в военную прокуратуру.
– Как здоровье, как себя чувствуете? – не отрывая взгляда от медицинской карточки Пеликана, спросил прокурор.
– Спасибо, неплохо.
– Как учеба?
– Учусь, – отвечал озадаченный Пеликан.
– Если у вас все неплохо, то почему же вы до сих пор не в армии, а? – прокурор посмотрел на Пеликана так, словно тот немедленно должен был собрать рюкзак и бежать на построение.
– Так вы же меня не зовете. А без приглашения не принято у нас все-таки.
– Действительно, не зовем. И это странно. Всех зовем, а вас почему-то нет. Как это объяснить?
– Загадка, – пожал плечами Пеликан.
– Может быть, вы заплатили кому-то? Военкому, например? – прокурор вдруг улыбнулся широко и дружески. – Говорите, не бойтесь – мы его накажем, а не вас. Или это ваши родители дали ему взятку, а?
Тут Пеликан подумал, что прокурор, наверное, копает под военкома – зачем ему какой-то Пеликан? Но как вести себя, когда, брызгая слюной и чернилами, сцепились юристы и военные, он не знал, а потому просто сидел и молча смотрел в глаза прокурору.
– Ну хорошо, – сказал тот минуту спустя. – Мы в этом разберемся, а вас еще вызовем. Вы ведь никуда уезжать не собираетесь?
– До лета я точно в Киеве, – кивнул Пеликан.
В результате его не призвали в армию и весной тоже. Разбирались, наверное, все это время с военкомом. А вот теперь, в конце мая, вдруг прислали повестку, и значит осенью вместо квантовой механики он отправится учить Устав гарнизонной и караульной службы. Итак, все предельно прояснилось: впереди сессия, лето и затем – два года армии.
4
– Какие тут чудесные акварели Остроумовой-Лебедевой, а я ведь совсем забыл о них, – восхитился Малевич, не спеша перелистывая страницы «Садов и парков». – Ты не помнишь, Пеликан, она их рисовала специально для Курбатова?.. Нет, вряд ли. Но, так или иначе, они здесь удивительно к месту. Что говорить, замечательная книга. И выглядит безупречно – даже отметок магазинов не видно. Рискну предположить, что ты ее не в магазине покупал, а взял из старой, хорошо подобранной библиотеки, в которой она и провела без малого семьдесят лет. Впрочем, настаивать не буду, – Малевич легко погладил светло-бежевый парчовый переплет и положил Курбатова на стол. – Просить за нее сто сорок рублей – это, конечно, проявление безграничного нахальства, но и не просить как будто нет причин. Во всяком случае, я их не вижу.
Малевич не ошибся, «Сады и парки» были бабушкиным наследством. Правда, от ее сказочной библиотеки, занимавшей когда-то целый зал в старой квартире на углу Владимирской и Большой Житомирской, давно уже остались считанные тома. К родителям Пеликана их попало только шесть. Теперь осталось пять.
– Все ведь зависит от покупателя, – продолжал Малевич, – кто-то за нее десятки не даст, а наш может и полутора сотен не пожалеть. Тут как повезет. Пеликан, ты иди, наверное, погуляй час-полтора, а потом позвони мне, хорошо? Не будем смущать человека.
– Служение мамоне не терпит лишних глаз и требует уединения, – понимающе кивнул Пеликан.
– Ты молодой наглец! Если покупатель увидит здесь незнакомого человека, да еще с твоей нахальной любопытствующей физиономией, то развернется, уйдет и адрес этот забудет. И правильно, между прочим, сделает. Так что проваливай, не трать мое время и не мешай работать. У меня сегодня библиотечный день, а он бывает всего раз в неделю.
– Просто я хотел посмотреть, кому уйдет мой Курбатов, – объяснил Пеликан. – Все-таки он мне родной. Я вырос с ним в обнимку. Но ладно, нельзя так нельзя.
Пеликан вышел от Малевича с таким чувством, словно день уже закончился. Он сделал все что мог, а остальное от него не зависело. К тому же он был уверен, что букинист продаст «Сады и парки», а значит, деньги у него будут, и подарок для Ирки тоже будет.
Погода, между тем, портилась. Небо совсем затянуло какой-то серой дрянью, и об утреннем солнце не напоминало уже ничего.
В глубине двора, на небольшой самодельной лавочке возле высокой зеленой голубятни, накормив птиц, отдыхал Лысый Матрос. Он сидел, немного развернувшись, вытянув далеко вперед покалеченную левую ногу. Еще в те времена, когда был он молод и жил на Подоле, в Киеве случился очередной приступ борьбы с голубями и голубятнями. Во двор к Матросу явилась комиссия, состоявшая из управдома, его помощника и двух рабочих. Управдом сказал, что этот колченогий курятник давно уже всем надоел, есть постановление исполкома, и будет лучше, если Матрос сам его сломает, по-хорошему. Но Матрос ломать по-хорошему не захотел, он взобрался на крышу голубятни и заявил, что не уйдет оттуда никуда, а если его голуби так мешают советской власти, то пусть ломают вместе с ним. Матроса долго уговаривать не стали, быстро подпилили шесты, на которых стояла деревянная конструкция, и она завалилась набок под яростный рев Матроса, под вопли и причитания соседок. Лысый Матрос тогда сломал левую руку и ногу. Его руку врачи кое-как привели в порядок, а нога срослась неправильно и с тех пор так и не гнулась.
– Привет, Матрос! Уже есть свежий голубиный прогноз? Дождь скоро начнется? – присел рядом с ним Пеликан.
– Обязательно будет, – не расслышал его Матрос.
Пеликан и Багила когда-то насчитали на Комсомольском массиве два десятка голубятен. Бывшие жители левобережных слободок, да и киевляне, переселенные уже в семидесятых на Комсомольский со Сталинки, Зверинца, Сырца, из коммуналок Подола и Печерска, не желали расставаться со своими голубями. И вместо голубятен, снесенных одновременно с их старыми домами и усадьбами, строили для своих стай точно такие же новые.
Голубятникам наши власти никогда не доверяли. Ни до войны, ни после. Почтовый голубь – это связь, а в опытных руках он эффективнее портативного передатчика – сообщение можно отправить за сотни километров, даже за тысячи. Поэтому и немцы в годы оккупации запрещали киевлянам держать голубей, привычно расстреливая нарушителей приказа.
Отсчет спокойной жизни украинские голубятники повели с середины шестидесятых, с тех лет, когда Щербицкий встал сперва во главе украинского правительства, а потом и ЦК партии. О его голубятнях на Печерске и в Вышгороде ходили легенды, а отставного полковника, отвечавшего за голубей первого секретаря, на киевском птичьем рынке знали в лицо. Вряд ли он был полковником, но и это стало частью легенды, а следом и то, как продавали ему своих голубей для Щербицкого, как не хотели расставаться с ними, но соглашались из уважения или уступали силе, как получали в дополнение к небольшой оплате – кто «Запорожец», кто машину зерна. Попробуй достать зерно для птиц, если ты не председатель колхоза, а обычный городской голубятник.
Ну и, конечно, у каждого были голуби из стаи Щербицкого или их потомки.
– Вон тот, красный, венский, с белыми пятнами на крыльях. У него кровь Щербицкого, – всегда показывал гостям непривычно крупную птицу Лысый Матрос. – Но я больше наши породы люблю – Нежинского, Русского барабанщика – драчливый черт, Киевского светляка. Глянь, какой красавец – сам черный, шея белая, голова белая, а над клювом – темно-серая отметина.
Пеликан был уверен, что Лысый Матрос не видит уже ни пятен, ни отметин на своих голубях и рассказывает о них только по памяти. Матрос дремал, вытянув больную ногу и подняв лицо к птицам, рассевшимся на шестках и крыше голубятни.
– Это не твой приятель идет? – не поворачиваясь и даже, кажется, не открывая глаз, вдруг спросил он Пеликана. Действительно, со стороны улицы Малышко, из-за угла детского сада, прямо на них вышел Багила.
«Так кто из нас ничего не видит?» – спросил себя Пеликан.
Следом за Багилой во двор медленно въехала черная «Волга» и остановилась возле подъезда Малевича.
– К кому бы это? – вслух подумал Пеликан, уже догадываясь, что приехал его покупатель.
– К Петровичу, – подтверждая его догадку, уверенно ответил Лысый Матрос. – Не первый раз его здесь вижу.
– Пеликан, – засмеялся Багила, подходя к голубятне. – Я знал, что ты где-то тут. Твои следы и метки – по всему массиву.
– Даже не думай спрятаться, если твоего друга зовут Багила, – тихо ответил Пеликан, внимательно разглядывая крепкого, коротко стриженого блондина в светлом костюме, быстро шагающего от «Волги» к подъезду Малевича.
– Багила у нас в семье не я, ты же знаешь.
– Да все у вас в семье – Багилы. Что твой дед, что ты, что Дарка.
– Вот Дарка как раз да, – согласился Багила. – Старый последние месяцы ее возле себя держит, целыми днями не отпускает. А сам он уже еле ходит. И гостей больше не принимает.
– Да ладно, – легко отмахнулся Пеликан. – Он еще всех нас переживет. Сколько старому? Восемьдесят?
– Восемьдесят три…
– Не мне судить, конечно, – внезапно согласился Пеликан. – Да и никому из нас. Я, кстати, в армию этой осенью ухожу. Сегодня получил повестку.
– В армии служить нужно, – уверенно и громко вдруг заявил Лысый Матрос. – Говорят, армия – школа жизни. Это ерунда! Главное, что понимаешь в армии, – как устроена власть. А она очень просто устроена. Один раз это нужно почувствовать и потом всю жизнь пользоваться. Армия – школа власти. Я семь лет на Северном флоте служил, это много, конечно. Три, как сейчас служат, – было бы нормально.
– Старый сказал, что в армию можно идти только главнокомандующим, – усмехнулся Багила. – А тратить жизнь на то, чтобы выполнять приказы идиотов с погонами, – это преступление. Мне даже повестку не присылали. И не пришлют.
– Армия помогает правильно выставить прицел, – не согласился Лысый Матрос. – После нее мир видишь точнее. И промахов меньше.
– Матрос, вот ты приди к нам в парк как-нибудь часов в шесть вечера, – хмуро посоветовал Багила, – там как раз эти, с выставленным прицелом, раскумариваются. Им Афганистан на всю их недолгую оставшуюся жизнь прицел выставил. Ни один наркодиспансер уже не поправит.
– Я же не про то, – запротестовал Матрос. – Афганистан… Дурачье тупое! Зачем вообще туда полезли?! Истории не знают?
Спорить о том, служить или не служить, Пеликан не собирался. Пытаться откосить от армии – значит добровольно идти на унижение. Служба в армии предполагает подчинение, поэтому тоже связана с унижением, но уже вынужденным. А это все-таки дело другое. Для него вопрос был решен.
– Послушай, Иван, ты в парке сегодня вечером будешь?
– Нет, я не приду, – зевнул Багила. – Дождь скоро начнется, ты же видишь. Что мне там делать под дождем?
– У Ирки день рождения сегодня, забыл? Все соберутся.
– Пеликан, – вздохнул Багила, – идем, пройдемся, пока сухо. – Ему не хотелось портить настроение другу, но и молчать о том, что видел сегодня Ирку с восходящей звездой мотокроссов, он не собирался. Багила не любил Ирку.
– Ладно, удачи, – попрощался Пеликан с Лысым Матросом. – Тебе помочь подняться?
– Сам справлюсь, идите, – Матрос даже не посмотрел в их сторону, но Пеликан уже понял, что тот и так все отлично видит.
– Только далеко уходить не будем, – сразу предупредил Багилу Пеликан, – у меня тут дела еще остались.
– Ты можешь не уходить, можешь и дальше петлять по массиву, а я – домой. Спать хочу. Я сегодня все утро провел на «Химволокне». А там уныло и безрадостно, сам знаешь. После нескольких часов среди этой химии накатывает какая-то беспредельная удушливая тоска. Тоска сильнее жизни.
– То горестный удел тех жалких душ, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел.
– Вот-вот, настоящее преддверие ада. Не представляю, как бы я там работал: с утра и до вечера, целый день среди железнодорожных веток и тупиков, среди улиц, которые на самом деле – не улицы никакие, а подъездные пути автотранспорта к складам и базам. Для меня эти промзоны – самый сильный аргумент в пользу атеизма. Не может человек, если он творение Божие, добровольно создавать на земле весь этот инфернальный мрак и существовать в нем по своей воле. Ему природа велит стремиться в сады и парки, разводить голубей, вот как Матрос, разыгрывать античные трагедии.
– Не надо античных трагедий, Иван, – засмеялся Пеликан. – Нам и своих хватит… Черт возьми, поздно. Ты накликал!
– Что? О чем ты?
– Ты посмотри, кто там так страстно машет нам руками? Видишь этого розового пупса в черепаховых очках и трогательном голубом костюме? Это Иркин отчим, Федорсаныч Сотник, артист малых ролей в кино и Театре русской драмы. Сейчас нам будет представлен отрывок из Эсхила в вольной современной обработке. Интерпретация свободная, но основное условие соблюдено: боги неизменно безжалостны к главному герою, а Эринии, как и положено, беспощадны.
К Федорсанычу Пеликан относился нежно, но говорить о нем без иронии у него не получалось.
– Пеликан, если бы я попал в эту семейку, я бы еще и не так взвыл, – Багила немедленно встал на сторону Сотника. – Кстати, я сегодня Ирку видел…
– Поздравляю тебя, я тоже ее видел.
– Пеликан, как вовремя, как кстати ты появился, – закричал Сотник едва не с противоположного конца двора, и Багила понял, что рассказ об Ирке придется отложить. – Я измучен. Я страдаю вот уже скоро сутки. Ах, что, сутки?! Я страдаю седьмой год! Эта женщина ведет себя со мной так, словно я – какой-то пустяк в ее богатой приключениями жизни. Она приезжает домой ночью, от нее пахнет дорогим алкоголем, она привозит икру и конфеты! С кем она ела эти конфеты? Где взяла она эту икру? Что я должен думать, Пеликан!? Скажи мне!
– Слушай, Пеликан, слушай, – ядовито усмехнулся Багила. – Слушай внимательно. Это и про Ирку тоже…
– Нет, нет, – резким бульдожьим движением вскинул голову Сотник, и из забавного нелепого дядечки, которого ни в грош не ставит жена, проводя ночи невесть где и невесть с кем, немедленно превратился в ревнивого и гордого отца. – Ирочка пошла не в нее. О, как хотел бы я сказать, что есть у нее и мои гены. Ты знаешь, я познакомился с Еленой, когда ребенку было уже десять, а воспитал ее как родную! Я – актер! Но не театр был ей домом…
– Я знаю, – кротко согласился Пеликан, – это ваш дом был театром.
– Да! Я играю! Я не могу не играть! Но мой талант невостребован. Мне нужна сцена «Глобуса», «Комеди Франсэз», «Современника»! Мне по силам роли в великих пьесах. А что вместо этого? «Не был… Не состоял… Не участвовал». «Я, конечно, человек маленький». Одним словом, все сплошь «Из жизни насекомых». Кто же упрекнет меня, что я играю в жизни то, чего не позволяет мне сцена?!
– А окружающие как могут подыгрывают, но играют они плохо.
– Что ж, может, ты и прав, может быть, планка поднята слишком высоко. Вот потому я снисходителен. Я прощаю Елене то, что другой не простил бы никогда. И к этому же я призываю вас! Прощайте ближних. Прощая, вы их возвышаете. Их возвышаете, а не себя, как все мы почему-то думаем.
– Пеликан, я уже люблю этого человека, – развел руками Багила. – Он, конечно, неправ, но при случае надо будет с ним выпить и продолжить этот разговор.
– О Боже! – как всегда переигрывая, схватился за голову Сотник. – Я ведь об этом и хотел с тобой говорить, Пеликан. Сегодня у Ирочки день рождения. Конечно же, я не мыслитель, не пророк, а всего лишь смешной безымянный артист, но – увидишь, это ее последний день рожденья дома. В следующем году ее здесь уже не будет.
– Куда же она денется? – одновременно спросили Пеликан и Багила.
– Выйдет замуж и уйдет, упорхнет. Через год все будет иначе, вот увидите. И поэтому…
– Ирка выходит замуж? – перебил его Пеликан.
– Нет-нет, это я… предсказываю, да? Я же знаю ее, и ты ее знаешь. Мы все знаем ее достаточно, чтобы понимать – в восемнадцать Ирочки здесь не будет. Она вырвется отсюда и унесется куда-то… Я даже представить не могу, куда. Но Елена ее просто так не отпустит, поэтому она выйдет замуж. Что называется – за первого встречного. Может быть, за тебя, Пеликан, кто знает? Но этому первому я не завидую ни секунды. Он будет несчастным человеком.
– Вот она, беспощадная правда, – Багила похлопал Пеликана по плечу.
– Это меня здесь через год не будет, Федорсаныч, – игнорировал реплику Багилы Пеликан. – Осенью я иду в армию.
– Значит, тебе повезло, – с мрачноватой ироний заметил Сотник. – Но до этого еще надо дожить. А семнадцать ей исполняется уже сегодня. И раз это ее последний день рождения дома, я хочу, чтоб она его запомнила надолго. Я договорился с администратором – зал «Олимпиады-80» на этот вечер наш. Ты представь, весь зал – наш! Но нужна водка. Ресторан дает ящик «Русской», больше у них нет, а что такое ящик? Это капля. И я не позволю себе травить вас «Русской». Во всяком случае, начнем мы не с нее, а уж там как пойдет… Поэтому нужно поехать на базу Днепровского треста столовых, взять там два ящика «Зубровки» и три ящика массандровской «Алушты» – все уже договорено. А после этого можно будет «Русскую», что угодно уже можно будет. Я бы поехал сам, но нужно еще взять икру и балык, а это совсем другое место, совсем другие люди и совсем другие связи. Там по записке не дадут, только лично: руки – в руки, глаза – в глаза. Поэтому умоляю тебя слезно, ползая здесь, в пыли, и этой же пылью посыпая свой лысеющий череп: привези водку вместо меня. Бери такси, отправляйся туда прямо сейчас, и к семи ты успеешь вернуться.
– Это невозможно, Федорсаныч. У меня на шесть в парке под колесом встреча назначена. Подарок для Ирки принесут. Поймите, я никак не могу уехать.
– Да, можешь, конечно, – засмеялся Сотник. – Ну что, подарок… Ты попроси кого-нибудь, вот хотя бы своего товарища. Это же несложно, это совсем несложно, а столько проблем сразу разрешится, а? – Сотник крепко схватил Багилу за запястье, притянул к себе и внимательно посмотрел тому в глаза. – Так ведь?
– Хорошо, – согласился Багила, хотя в эту минуту ему не хотелось с кем-то встречаться в шесть часов вечера под колесом, а хотел он только домой. В этот день он как никогда хотел домой. Он устал. Наверное, все дело было в погоде.
– Отлично! – Хлопнул в ладоши Сотник. – Значит, мы все утрясли. Тогда запоминай, Пеликан: скажешь, что ты приехал вместо меня от Алабамы. Все просто. Туда берешь такси, держи два червонца на такси, а назад приедешь с их грузчиком на их машине. Водку по белым накладным проведут через ресторан, так что тут все чисто, и деньги не твоя забота. Ну что, понял?
– Не знал я, Федорсаныч, что вы такой напористый деловой человек, – удивился Пеликан.
– Я играю, Пеликан, – подмигнул ему Сотник, – не забывай, я все играю. Могу сыграть короля, могу могильщика, могу череп Йорика.
– Все-таки он удивил меня, – глядя вслед Сотнику, спешащему смешной катящейся походкой, сказал Пеликан Багиле. – Если бы это не звучало так смешно и глупо, я бы сказал, что он играет играющего.
– Играет актера, ты хотел сказать?
– Да, именно так я и хотел сказать. Ну что ж, с этим ясно. Пора звонить Малевичу. Внутренний голос настойчиво твердит, что мои деньги уже лежат у него.
Глава седьмая
Монолог Вертера
1
Всю ночь Федор Александрович страдал. Перед рассветом, когда дома все еще спали, он заперся в ванной, включил горячую воду и начал привычно читать монологи Эдипа и Аякса. Потом он рыдал, читал еще что-то, не отвечая на стук и грубые призывы тещи прекратить выть. Когда вода уже совсем остыла, он вдруг услышал, что декламирует предсмертный монолог Ромео: Скрепите, губы, вечный договор с прожорливою смертью! Где питье? Где этот горький и бесстрашный кормчий? Тут бы ему остановиться – какой он, в самом деле, Ромео? – эти страдания становились смешными уже и для него самого, а катарсиса все не было, катарсис ускользал. Но Федор Александрович упрямо взялся читать с середины роль Вертера из давнего студенческого спектакля, в котором Вертера играл вовсе не он. Бог свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием, а порой и с надеждой никогда не проснуться; утром я открываю глаза, вижу солнце и впадаю в тоску.
Минувшей ночью он вообще не ложился: сперва ждал жену, курил, пытался читать киносценарий – роль небольшая, но других ему не предлагали. Потом с улицы, снизу, донесся смех Елены и звуки мужского голоса. Федор Александрович сперва решил, что ему послышалось, а когда выбежал на балкон, то успел разглядеть только «восьмерку», сворачивавшую за угол дома.
Какое-то время после этого он плакал на балконе, не решаясь вернуться. С Еленой ему теперь лучше было не встречаться до утра. Сколько уже было этих скандалов, бессмысленных и отвратительных. Да, она жила как хотела, а у него не хватало сил что-то изменить.
Дождавшись, когда жена уснет, Федор Александрович отправился на кухню и обнаружил на столе коробку «Вечернего Киева» с остатками конфет, а в холодильнике полупустую стеклянную баночку черной икры. Он поставил на огонь чайник и потом долго пил сладкий чай, намазывая икрой один за другим бутерброды, огромные и толстые, как подошвы солдатских сапог. Икра отливала благородным серебристо-черным цветом, слегка пахла рыбой, была не пересоленной, невероятно вкусной. Федор Александрович ел не спеша, смакуя, долго пережевывая, и не смог остановиться, пока не съел ее полностью. Потом он вытер хлебом дно баночки, не оставив ни единой икринки. Все это время он придумывал месть. Он хотел отомстить жене, отомстить решительно и безжалостно, но в то же время и тонко, так чтобы все произошло словно без него, без его участия. А если и с ним, то в роли малозаметного статиста. И в игре, и в жизни он привык быть на втором плане. Пусть его место в эпизоде, но он покажет, на что способен король эпизода!
Федор Александрович думал над этим целую ночь, иногда задремывая в кресле, засыпая на двадцать минут, на полчаса, просыпаясь всякий раз с мыслью, что никогда не придумать ему месть хоть немного такую же обжигающе-оскорбительную, какой в последние годы стала его жизнь с Еленой. И только в ванной, утром, рыдая над монологом Вертера из старого спектакля, забытого, наверное, уже всеми, кроме него одного, рыдая над теми самыми словами, где Вертер говорит, что он стоит перед лицом Божьим, точно иссякший колодец, точно рассохшаяся бадья, и молит о слезах, Федор Александрович неожиданно запнулся на полуслове – он вспомнил, что сегодня день рождения Ирки, и сказочный план мести жене вдруг расцвел перед его мысленным взором сочным и ярким ядовитым цветком. Если бы у воображаемых цветов был запах, то этот пах бы невинными вишневыми косточками – смертельным цианистым водородом, синильной кислотой.
Из ванной он вышел, остро сверкая очками, тщательно выбритым, сильным и решительным. В проеме кухонной двери немедленно возникла мать Елены, уже настроенная на бодрящий утренний скандал, но Федор Александрович, не говоря ни слова, не останавливаясь даже, легко поймал и поцеловал ее руку, и теща затрещала, зашипела, как раскаленная сковорода, на которую упал первый ломоть парной телятины. Если у него все получится, то удар он нанесет вечером. Настоящий, крупнокалиберный, оглушительный удар. Поэтому не нужно, нет никакого смысла тратиться сейчас на мелкие стычки, теряя в них силы, давая противнику возможность и время подготовиться. Ему предстоял разговор, от которого зависело многое в этот день.
Последние страницы старой записной книжки Федора Александровича были исписаны какими-то случайными словами, телефонами без имен и фамилий, исчерчены загадочными схемами, смысл и назначение которых не мог понять уже никто. И из-под этого культурного слоя, из-под нагромождения детских каракуль, гротескных профилей и силуэтов проглядывала предпоследняя внятная запись: Шума – г4-12-54. Рядом с ней, ясней и четче, последняя: Толик Шума – 24-49-51. Страницы, отведенные под Щ, Э, Ю, Я в старой книжке не сохранились.
В новой все было иначе. В новой книжке все было по правилам, последние буквы алфавита аккуратно существовали на своих пустующих листах, а запись Шумицкий Анатолий Яковлевич (Шума) 513-80-00 по-прежнему замыкала список знакомых Федора Александровича.
По-разному ведут себя друзья детства. Одни и в высоких чинах требуют, чтобы в старой компании давно облысевших и растолстевших однокашников все без церемоний называли их школьными кличками, радостно обнимаются даже с теми, кого совсем не помнят, и презрительно кривят губу, только если кто-то почтительно спрашивает о званиях и наградах. Так, словно не положили они всю жизнь ради этих звезд на погонах и разноцветных орденских колодок на парадных кителях.
А Шума, наоборот, постепенно забывал и те времена, когда он был Шумой, и тех, для кого он им был. До высоких званий он не дослужился – в системе ресторантреста не носят погоны, – но какую-то карьеру все же делал, а потому уверенно осознавал себя Анатолием Яковлевичем для всех без исключения. Ну и ладно.
Но вот, примерно год назад раздался звонок, и Анатолий Яковлевич сказал:
– Привет, Федя, это Шума, узнал?
Сотник не узнал школьного приятеля, но легко догадался, что тому от него что-то нужно, а других аргументов, кроме зыбких и неверных детских воспоминаний, у Анатолия Яковлевича не нашлось. Поэтому ненадолго он готов был снова стать Шумой.
К тому времени, почувствовав, что уже достаточно оброс связями, зарядился опытом и может существовать автономно, Шума стал администратором «Олимпиады-80». Он долго присматривал ресторан для себя и выбрал этот, на Дарницком бульваре. Несколько лет назад, готовясь к Олимпиаде, там сделали небывалый ремонт, отделав зал зеркалами и оснастив его немецкой свето-акустической системой. Но звонил Шума Сотнику, конечно, не по ресторанным делам – у него появилась новая подружка, выпускница киевского Иняза, девочка тонкая, образованная, из хорошей семьи. И если прежним его любовницам вполне хватало столика в «Олимпиаде», шмоток из «Березки», а летом номера в гостинице «Ялта», то у этой были еще и не очень понятные Шуме духовные запросы. Он купил девочке видеомагнитофон – ну не в киношку же ему с ней ходить?! Но оказалось, что можно и в киношку, если это, например, французская неделя в Доме Кино. Вот тут Шума и вспомнил об однокласснике. Он пообещал Сотнику столик в своем ресторане и отличное обслуживание в любое время. И хотя Федор Александрович тогда пробурчал что-то вроде «Меня и в ресторане родного Дома Кино неплохо накормят», но пригласительные для Шумы и его девочки достал, а потом и предложением администратора воспользовался. Потому что в Доме Кино всегда себя чувствуешь воспаленным прыщом на носу – все тебя видят, все знают, с кем ты встречался и когда. Вы еще кофе не допили, счет еще не оплачен, а тусовка уже знает в подробностях, и о чем договорились и, особенно, о чем не смогли. Хорошо если это к тебе приезжали польские друзья и ты хотел просто понтануться, но где-то ведь нужно и о делах спокойно поговорить.
Потом, в начале мая, был Всесоюзный кинофестиваль, на который он достал Шуме и его подружке Оле пригласительные. Правда, смотреть на фестивале оказалось нечего: советское кино само уже зевало от затянувшегося военно-полевого романа и, казалось, было готово прокатывать его без свидетелей. Сотник повел жену и дочь только на грузинскую комедию, ему хвалили «Голубые горы» Шенгелая. Но фильм оказался безрадостным и заунывным, как «Сулико» на концерте в День милиции.
После показа они сели по-семейному в баре на втором этаже: Шума с Олей и Сотник с Леной и Иркой. Ирка ела мороженое и скучала, она не понимала, почему эту производственную труху называют комедией. Во всем фильме ей понравились только мотоциклисты. Скучала и Елена, но у нее было занятие: она разглядывала лица за соседними столиками и искала знакомых. Сотник что-то толковал тогда о смелости режиссера, о том, что на Украине такой фильм никогда бы не дали снять. Никогда, никому и ни за что. И на фестивале в Киеве картину показали только потому, что Шенгелая – большая шишка в грузинском кино. Но решительная Оля не соглашалась, сердилась и говорила, что фильм только кажется смелым, а на самом деле это обычная грузинская фига в кармане старых советских штанов. Смелость режиссера совсем не в том, чтобы так скучно рассказывать о том, что все и без него знают. Тут обрадовалась и захлопала в ладоши Ирка – она поняла, что фильм ей не понравился не потому, что она дура малолетняя и ничего не понимает, а потому, что он и в самом деле скучный. У Сотника еще тогда мелькнула мысль, что Оля, пожалуй, ближе к Ирке, чем к Елене. А Шума просто пил коньяк и не то слушал свою любовницу и молча соглашался с ней, не то вообще ни о чем не думал и просто пил коньяк.
– Слушай, киноман, – набрав номер Шумицкого, Сотник, конечно, вспомнил их посиделки на фестивале, но заговорил о другом, – на следующей неделе будет закрытый показ. «Город женщин» Феллини. Могу заказать для тебя два приглашения, если интересно, конечно. Фильм как раз для таких, как мы с тобой, героически перешагнувших кризис среднего возраста и даже не заметивших его.
– Отлично! – обрадовался Шума. – Бери! Твой Феллини, конечно, насквозь гнилой, но не тухлый.
– Сам придумал?
– Нет, это Оля мне недавно объяснила.
– Образно объяснила, – засмеялся Сотник. – Хорошо, значит, я заказываю для тебя два пригласительных. И еще вот что: сегодня у моей Ирины день рождения. Я вас с Олей приглашаю. Ты ведь свободен вечером?
– Вечером… Да, вечером свободен, спасибо. Где отмечать будете?
– У тебя в «Олимпиаде».
– Ага, отлично… И идти недалеко. Так тебе столик нужен? – догадался Шумицкий.
– Мне, Шума, нужен весь зал на весь вечер.
– Ну ты даешь! И ты говоришь мне об этом сегодня утром?
– Тебе, конечно! Кому мне еще об этом сказать?
– А если на сегодня уже приняты заказы? Я же так, навскидку, не помню.
– Один-два посторонних стола нам не помешают. Но остальные должны быть нашими.
– Ну хорошо, – согласился Шумицкий. – Я думаю, решим. Подходи в одиннадцать ко мне в «Олимпиаду», надо все посчитать, оформить заказ. И задаток приготовь, рублей двести.
– Шума, я в тебя верил! – голос Сотника был полон сахара, и меда, и благодарности, но в эту минуту он уже прикидывал, где к одиннадцати часам возьмет две сотни, а к вечеру еще тысячи полторы. – В одиннадцать буду в «Олимпиаде»!
Вот теперь отступать было некуда. Если бы Шума отказал, то Сотник, пожалуй, смирился бы, потому что его план, едва он начал выполняться, немедленно показался Сотнику авантюрой. Но раз первый шаг сделан, то нужно идти до конца.
Сейчас он ярко и смешно сыграет утро праздника для Ирки, потом он скромно, может быть, даже подчеркнуто сухо и деловито, так, чтобы ни в коем случае они не решили, будто что-то можно изменить, сыграет торжественную новость для жены и тещи, черт бы драл эту старую гадину. А потом его ждет тяжелый день, финал которого предсказать невозможно.
2