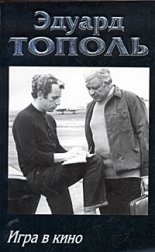Иван III Андреев Александр
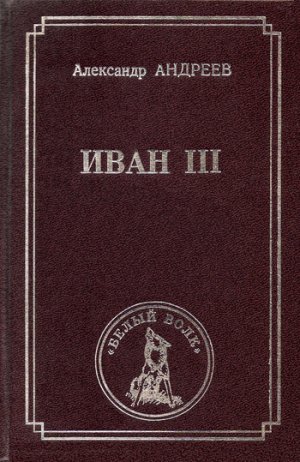
Иван III внимательно следил за новостями из Швеции. В августе 1501 года король Ганс уехал из Стокгольма в Данию, оставив там вместо себя свою жену королеву Кристину. Однако уже в сентябре произошел переворот и власть в стране захватил соперник Ганса Стен Стуре. (Королева Кристина до мая 1502 года мужественно обороняла замок при помощи своих гвардейцев, надеясь на возвращение Ганса. Однако тот явился слишком поздно и так и не сумел восстановить свою власть в Швеции.)
В Москве узнали о перевороте в Стокгольме именно в конце осени 1501 года, когда войско Даниила Щени уже ушло в Ливонию. Теперь, когда к власти в Швеции вновь пришел Стен Стуре, великий князь мог ожидать новой атаки шведов на Ивангород. Вероятно, именно по этой причине Иван и послал распоряжение Даниилу Щене спешно (даже не дожидаясь затерявшихся где-то в ливонских угодьях псковичей!) идти к Ивангороду. Расстояние от Дерпта до Ивангорода не превышало 150 км, и московское войско при скором марше могло преодолеть его за три дня. Псковичам велено было идти туда же вслед за московской ратью. (Впрочем, возможно и другое объяснение: Даниил Щеня узнал о намерении ливонцев напасть на Ивангород и, зная о том, сколь дорога эта крепость для Ивана III, поспешил на ее защиту.)
Вопреки ожиданиям, зима 1501/02 года прошла спокойно. Нападения на Ивангород не произошло (или оно было вовремя предотвращено Даниилом Щеней), и потому московские воеводы предприняли из района Нарвы дерзкий набег на Ревель (Колывань), о котором сообщают некоторые летописи: «И ходиша воеводы близ Калывани и выидоша на Иванъгород, а землю Немецкую учиниша пусту» (38, 175). Взять мощную ревельскую крепость Даниил Щеня, кажется, и не пытался. Однако сельские волости, особенно беззащитные зимой, были разорены полностью. Весь этот набег производился «с оглядкой» на Ивангород. Расстояние от него до Ревеля составляет всего около 180 км. Конное войско походным маршем могло преодолеть его за три-четыре дня.
Понятно, что долго держать большое московское войско во главе с лучшими воеводами в Ивангороде было накладно.
Иван III вскоре отозвал воевод в Москву. Ушли и татары со своим «царем», которого государь зимой 1501/02 года вновь посадил на казанский трон. Прикрытие Ивангорода поручено было новгородскому наместнику Ивану Андреевичу Лобану Колычеву (деду знаменитого митрополита Филиппа Колычева) (82,176). Такое поручение было вполне естественным: крепость находилась на землях, издавна принадлежавших Великому Новгороду. Кроме того, в распоряжении Колычева находилось новгородское войско, которое он при необходимости мог использовать для защиты Ивангорода.
Колычев отнесся к этому делу очень серьезно. Он даже сам поселился в Ивангороде. Здесь его и застали нагрянувшие на Ивангород 9 марта 1502 года немцы. О дальнейшем кратко сообщают летописи: «Тоя же зимы, марта в 9 день, приходиша немцы на Иванъгород. Тогда Лобана Колычева убиша и иных 20 человек да Михаила Смолка Иванова сына Слизнева, понеже Лобан стоял на Иванегороде в заставе не со многими людми, а немцы пришли многие» (20,255). Вместе с Иваном Колычевым смертную чашу испил Михаил Иванович Смолка Слизнев — скромный представитель многолюдного московского аристократического рода Ратшичей, получивший незадолго перед тем поместье в Новгородской земле (82, 205).
Гибель воевод, похоже, была не напрасной. О захвате немцами крепости не сообщается. Очевидно, на этот раз Ивангород устоял.
Почти одновременно с набегом на Ивангород немцы предприняли наступление на южном участке псковско-ливонской границы. «Того же лета, месяца марта в 17 день, пришедши немцы к Красному городку (современный поселок Красногородское в 110 км к югу от Пскова. — Н. Б1.) и в Коровьи бору волость взяше и голов посекоша много, а иных поведоша с собою; а в городке вельми притужно было, хотеша дом пленити святого Спаса Преображение Господа нашего Иисуса Христа; а людей Бог ублюде и святыи Спас; и завещаша церковь поставите святую Пятницу» (40, 87).
Продолжение рассказа представляет собой причудливую смесь мистической приподнятости с обычной для провинциалов обидой на равнодушие к их бедам «столичных» властей. «А немцом виделось за Синею рекою на горе от часовне святого Георгиа сила велика, и нападе на них страх и трепет, и побегоша прочь, устраши бо их Бог и святая Пятница; и поставиша красногородцы церковь святую Пятницу. И приидоша псковская сила к Красному городку, а они погании побегоша прочь, а псковские воеводы и псковичи не пособиша им ничем же и поехаша ко Пскову» (40, 87).
Летом и в начале осени 1502 года Иван III предпринял первую попытку овладеть Смоленском. Туда были брошены лучшие силы русской армии. Великий князь хорошо понимал, что такая ситуация может побудить к нападению на русские земли ливонских рыцарей и шведов. Для прикрытия северо-западных рубежей в Новгороде была сосредоточена сильная группировка войск. Командование ею государь возложил на князя Даниила Васильевича Щеню и князя Василия Васильевича Немого Шуйского. Оба были пожалованы званием новгородского наместника. Из Новгорода в случае необходимости московские полки могли относительно быстро выдвинуться и к Пскову, и к Ивангороду и к Великим Лукам. Ход событий показал дальновидность московского правителя. В начале сентября 1502 года — в самый разгар сражения за Смоленск — Ливонский орден, выполняя свой союзнический долг по отношению к Литве, предпринял новое крупное наступление на руские земли.
«Прииде местер (магистр Ордена. — Н. Б.), отметник (враг. — Н. Б.) правыя веры, ко Изборску городку ратью со всем замышлением, и лезоша к городку усердно, месяца сентября в 2 день; и городок Бог ублюде и святыи Никола, и отъидоша прочь, не учинивши ничего же, а стояли под городком одну нощь» (40, 87). Вновь повторилась прошлогодняя история: немцы тщетно пытались взять сходу изборскую крепость и, потерпев неудачу, отправились дальше на восток. Разница состояла лишь в том, что в начале сентября 1501 года магистр от Изборска повернул на юг и пошел к Острову. Теперь он двинулся прямо на Псков.
«Да поидоша подо Псков, хупучися (похваляясь. — Н. Б.), со всем замышлением и с пушками, того же месяца в 6 день, а пришли во утре во втором часу на Завеличье (район Пскова на противоположном от Кремля левом берегу реки Великой. — Н. Б.). И почаше погании пушками бити на дом святая Троица, и псковичи помолившеся святей Троицы и вышли противу их на Завеличье со жолныри (пехотинцы, вооруженные огнестрельным оружием. — Н. Б.), и почаша с ними битися псковичи и жолныри с пищальми, и много пушками били на город на Кром (местное название псковского Кремля. — Н. Б.); а детинца Бог ублюде и святая Троица» (40, 87).
Простояв в Завеличье один день и убедившись в твердости псковской обороны на этом участке, магистр повел свое войско к Выбутам—древнему погосту, находившемуся в 12 км выше Пскова на левом берегу Великой. Возле Выбутов был брод через реку, которым не раз пытались воспользоваться приходившие на Псков ливонские рыцари (171, 120).
В 1407 и 1480 годах немцам не удалось сломить здесь оборону псковичей. Но бравый Плеттенберг и на этот раз оказался победителем. После ожесточенного сражения он отбросил псковичей от брода и перешел на правый берег Великой. Вскоре немцы уже атаковали псковскую крепость с наименее защищенной, юго-восточной стороны. Здесь, со стороны Поля («на Полонище»), стены дополнял широкий ров, наполненный водой. Стремясь не дать немцам материалов для штурма стен или поджога города, псковичи сами выжгли все деревянные строения вокруг крепости. Среди всеобщего смятения не терял голову один лишь московский наместник князь Иван Иванович Горбатый Суздальский. Он распорядился выстроить на некоторых участках обороны дополнительные деревянные стены, которые, по мнению псковского летописца, спасли город от пожара (40, 88).
Интенсивные атаки немцев продолжались два дня. На третий день Плеттенберг увел своих воинов «тем же путем» (40, 87). Магистр узнал, что со стороны Новгорода вот-вот могут подойти великокняжеские полки. Опытный полководец, он не желал оказаться между ними и осажденными псковичами. К тому же сила немцев была значительно меньше той, которой располагали Даниил Щеня и Василий Шуйский. Уход немцев псковский летописец, как обычно, объясняет небесной помощью: «…А псковичь Бог ублюде и святая Троица» (40, 87).
Московско-новгородская рать подошла к Пскову вскоре после ухода врага. Не теряя времени, воеводы вместе с псковским ополчением двинулись в погоню за Плеттенбергом. Магистр успел, отходя к Выбутовскому броду, сжечь за собой мосты через реку Череху (правый приток Великой) и Многу. Однако погоня продолжалась. «И погнашася воеводы великих князей и псковичи, и нагнаша их в Озеровах на могильнике, и немцы кошь (обоз. — Н. Б.) свои поставиша опричь (отдельно. — Н. Б.) и молвиша: толке де и Русь ударитца на кош, и мы де и выйдем изо Псковской земли; а толке же де и на нас, ино туто нам головы покласти своя» (40, 88). Для задержки русских в брошенном обозе немцы оставили и свою челядь из числа местного населения. Вероятно, рыцари пообещали этим несчастным, что скоро вернутся для их спасения…
Отдадим должное Вальтеру фон Плеттенбергу: он прекрасно знал своего противника и умел пользоваться его слабостями. При виде брошенного немцами обоза русских обуяла жажда легкой наживы. Первыми кинулись грабить чужое (а частью и захваченное у них же) добро псковичи.
Вслед за ними подоспели и москвичи с новгородцами. «И начата межи собя дратися о быте (добре. — Н. Б.) немецком, а чюдь кошевую (эстонцев и латышей, брошенных рыцарями на растерзание русским в оставленном обозе. — Н. Б.) всю присекоша» (40, 88).
Дело едва не закончилось катастрофой. Немцы внезапно остановились и ударили на русских ратников. Псковский князь Иван Иванович Горбатый в отчаянии носился среди развороченных телег, пытаясь урезонить добытчиков и вернуть их в строй. Но в ответ на его призывы слышались одни лишь бранные слова.
Московским воеводам удалось все же навести кое-какой порядок и дать отпор немцам. Однако это беспорядочное столкновение с отходившим рыцарским войском стоило москвичам ощутимых потерь. Подробности сообщает Типографская летопись. «Немци же убояшася, отступиша от града за тридесять поприщ, въеводы же великого князя обоидоша их от града Изборска и сретошася с немци на озере на Смолине (ныне озеро Городищенское близ Изборска. — Н. Б.), и учинишася им бой, месяца сентября 13 день, и бишася и разидошася обои. И на том бою убиша князя Федора Кропотича, да Григорья, Дмитреева сына Давыдовича, да Юрья, Тимофеева сына Юрлова, и иных многих детей боярских, а немец падоша бесчислено. И оттоле немци отъидоша въсвояси, а воеводы великого князя разыдошася и с своим воинством к собе» (30, 215).
Картину боя уточняет Воскресенская летопись. Когда московские воеводы уже почти догнали Плеттенберга возле Изборска, разведка сообщила, что немцы обратились в паническое бегство. Дух охотничьего азарта и наживы оказался сильнее всякой дисциплины. «И люди великого князя многие ис полков погониша (бросились в погоню. — Н. Б.), а полки изрушалй, и кошевных людей немецких многых побили, и пришли на немецкие полки, а немци стоят полки въоружены, и великого князя людей не многых избиша, которые пришли изрывкою (в одиночку. — Н. Б.), а сами ся отстояли, потому что у великого князя въевод плъки ся изрушалй; на том бою убиены бысть князь Андрей Александрович Кропоткин да Юрий Юрлов сын Плещеев» (19, 242).
Итог стычки при озере Смолине обычно сильно преувеличивают. Немцы называли этот эпизод своей большой победой (81, 192). Русские же источники оценивали его как «ничью». С. М. Соловьев выражался столь же патетически, сколь и уклончиво: «…битва была одна из самых кровопролитных и ожесточенных: небольшой в сравнении с русскими войсками отряд немцев бился отчаянно и устоял на месте» (146, 129).
Впрочем, оплошавшие московские воеводы, упустившие магистра из-под самых рук, могли отчитаться перед Иваном III захваченным немецким обозом. В свою очередь, Плеттенберг мог похвалиться перед «братьями» тем, что благополучно вывел войско из Псковской земли и на прощанье перебил нескольких наиболее азартных московских витязей.
Дерзкие рейды Вальтера фон Плеттенберга отчасти напоминали набеги казанских или ногайских татар. Опасные своей внезапностью и жестокостью, они не могли, однако, изменить общий расклад сил в регионе. Приближение многочисленного великокняжеского войска заставляло грабителей поспешно отступить восвояси. Да и ливонское купечество нуждалось в мирных отношениях с Русью для развития своей торговли. Военные предприятия соскучившихся крестоносцев интересовали ливонских горожан лишь постольку, поскольку они обеспечивали их торговые интересы и личную безопасность.
В начале 1503 года ливонские представители вместе с послами великого князя Литовского Александра прибыли в Москву для переговоров о мире. Слегка покуражившись перед ливонцами, князь Иван заключил с ними перемирие сроком на шесть лет. Стороны возвращались к тем границам и отношениям, которые существовали между ними до войны 1501–1502 годов. В 1509 году перемирие было продлено еще на четырнадцать лет, причем ливонцы приняли на себя обязательство не помогать Литве в случае ее конфликта с Москвой. Торговля Руси с Ливонией возобновилась. Однако ливонцы (а вместе с ними и вся Ганзейская лига) по-прежнему не желали продавать русским серебро и металлы, необходимые для военного производства. Русские со своей стороны еще в 90-е годы XV века решили прекратить покупку соли — самого ходового товара, шедшего из Ливонии (161, 154).
Подводя итоги действиям Ивана III в Прибалтике, следует признать, что он сумел лишь громко заявить о своих интересах в регионе, но не сумел отстоять их перед лицом стран, давно и прочно освоившихся здесь. Поиски «выхода к морю», а затем и проблема укрепления позиций России на этом важнейшем мировом перекрестке, станут «головной болью» для многих поколений наших правителей. У истоков этой непрекращающейся исторической борьбы стоит «государь всея Руси» Иван Васильевич. Он никогда не видел чарующей бесконечности моря, не вдыхал его незабываемого запаха. Но именно он начал строить Великую Россию, которую невозможно представить без морей. И потому, подобно Петру Великому, Иван вполне заслуживает памятника где-нибудь на скале над холодным Варяжским морем.
Часть 5
ГОCУДАРЬ
ГЛАВА 14 Строитель
Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
(Псалтирь.19:8)
Возведение величественных каменных зданий есть тайная страсть всякого правителя. Они наглядно свидетельствуют о его могуществе как перед собственными подданными, так и перед чужестранцами. Они воплощают порядок и побеждают толпу, страх перед которой терзает правителя не меньше, чем страх перед клинком или ядом. Они создают иллюзию бессмертия не только великого дела, которое ставит целью своей жизни всякий уважающий себя правитель, но отчасти и его самого. Наконец, эти каменные громады являются важным элементом тех сложных отношений, которые возникают у правителя с Богом.
Таковы основные причины любви диктаторов к архитектуре. Мы говорим — диктаторов, поскольку именно диктатура (во всех ее исторических формах, включая и московское самодержавие) наиболее благоприятствует сооружению величественных зданий. Такого рода проекты требуют огромных средств и жесткого контроля за исполнением. Учитывая практическую бесполезность подавляющего большинства величественных зданий, легко понять, что только диктатор (или диктатура овладевшей обществом идеи) могут подвигнуть людей тратить колоссальные деньги и непомерные силы на символы.
Связь архитектуры с диктатурой таит в себе одну опасность. Художественные достоинства возводимых сооружений находятся в прямой зависимости от культурного уровня диктатора. Если это человек воспитанный и образованный, действующий в рамках определенной культурной традиции, умеющий прислушиваться к мнению художников, — результатом будет Тадж-Махал или Версаль. Если же невежественный диктатор вздумает диктовать художнику свои собственные представления о том, каким должно быть задуманное сооружение, — оно станет вечным обвинением против него.
Любовь диктаторов к архитектуре во все времена порождала разного рода амбициозные проекты. Однако существует и целый ряд поводов, необходимых для материализации этого чувства. Среди них — военные победы, преодоление кризисных ситуаций, разного рода проявления Божьей милости к данному народу или царствующему дому.
Иван Великий был диктатором, а его правление изобиловало такого рода поводами. Следовательно, есть все основания ожидать от него большого интереса к архитектуре. И эти ожидания вполне оправдываются. Иван построил много величественных каменных зданий. Да и можно ли ожидать иного от победителя Золотой Орды, покорителя Новгорода и Твери, создателя единого Российского государства, наконец, от монарха, управлявшего огромной страной в течение 43 лет? Этот строительный азарт передался и потомкам Ивана III. И его сын Василий III (1505–1533), и его внук Иван IV Грозный (1547–1584), имея гораздо меньше достижений, построили никак не меньше памятников этим достижениям.
Можно только удивляться, как князю Ивану хватало денег для всех его многочисленных построек. (Впрочем, некоторые из них — великокняжеский дворец, Архангельский собор — он так и не успел закончить.) Конечно, доходы его в это время многократно возросли за счет регулярного опустошения новгородских кладовых, прекращения платежей в Орду и захвата новых земель. Но при этом сильно возросли и расходы. И все же бережливый до скупости князь Иван умел не жалеть средств, когда того требовали интересы московского дела. Он понимал великую воспитательную силу архитектуры. Наконец, он был человеком своего времени, помнил о своих грехах и считал необходимым воздавать благодарность Всевышнему за Его долготерпение.
Все постройки Ивана III, о которых сообщают источники, отвечают той или иной насущной потребности и несут в себе определенный «воспитательный» заряд.
Читатель помнит, что, взойдя на престол в марте 1462 года, князь Иван прежде всего довел до конца строительные начинания своего отца. Летом 1462 года была «поновлена» часть кремлевской стены от Свибловой башни до Боровицких ворот.
27 июля 1462 года, во вторник, была освящена церковь святого Афанасия с приделом во имя святого Пантелеймона «во Фроловьских воротех» (29, 157). Неясно, выступал ли заказчиком при строительстве этого храма сам великий князь или же кто-то из знатных москвичей. Второе более вероятно: летописец обычно оговаривал участие великого князя в строительстве. Рассуждая о возможных заказчиках, следует вспомнить о великой княгине Марии Ярославне, вдове Василия Темного. Это была энергичная, властная и к тому же достаточно богатая для такого рода заказов особа. Несколько лет спустя она на свои средства заново отстроила при участии того же Василия Ермолина старый собор Вознесенского женского монастыря в московском Кремле. У княгини-вдовы были достаточные основания заботиться о церкви святого Афанасия. Ее отец, серпуховской князь Ярослав Владимирович, родился 18 января 1388 года — в день памяти святого Афанасия Александрийского. Поэтому его церковным именем было имя Афанасий (168, 307). Учитывая это обстоятельство, можно полагать, что Ярослав-Афанасий был ктитором или донатором кремлевского Афанасьевского монастыря. Подобно двум своим братьям, Ивану и Семену, князьям серпуховского дома, Афанасий скончался во время сильного морового поветрия осенью 1426 года. Возможно, именно тогда, устрашенный гибельной болезнью, Афанасий распорядился устроить в храме Афанасьевского монастыря придел во имя великомученика Пантелеймона, «безмездного целителя». Княжне Марии в 1426 году было, судя по всему, около 10 лет.
После кончины Василия Темного 17 марта 1462 года княгиня Мария Ярославна получила приличное состояние и право самостоятельно им распоряжаться. Она не ушла немедленно в монастырь, как это часто бывало с княгинями-вдовами, а до своего пострига в 1478 году вела одинокую жизнь в своих кремлевских покоях. Вполне естественным в ее положении было желание воздать дань уважения памяти отца, построив каменный храм в его любимом монастыре и освятив его в престольный праздник обетного придела. Это намерение должна была разделить с Марией Ярославной ее родная сестра, княгиня Елена Ярославна — жена удельного князя Михаила Андреевича Верейско-Белозерского.
К этим тонким нитям можно прибавить и еще одну. Известно, что Афанасьевский монастырь около середины XVI века был подворьем Кирилло-Белозерского монастыря. Есть основания полагать, что духовная связь между ними возникла гораздо ранее (79, 195). А между тем особые отношения с Кирилловым монастырем существовали и у обеих дочерей Ярослава Серпуховского. Мария Ярославна не могла забыть той неоценимой помощи, которую оказал Василию Темному кирилловский игумен Трифон в 1446 году. Решив принять иноческий постриг, княгиня-вдова в 1478 году поручила совершить этот обряд кирилловскому игумену Нифонту, который, очевидно, был ее духовником (50, 64). Елена Ярославна имела тесные связи с Кирилловым монастырем уже потому, что он находился в уделе ее мужа — князя Михаила Андреевича Верейско-Белозерского. Князь считал монастырь своим и активно вмешивался в его внутреннюю жизнь, что и стало причиной его конфликта с ростовским владыкой Вассианом в 1478 году.
Первым заказом, так или иначе связанным с молодым великим князем, стало украшение Фроловской башни двумя каменными скульптурами — святого Георгия Победоносца с внешней стороны и святого Дмитрия Солунского с внутренней. «Того же лета (6972. — Н. Б.) месяца июля 15, поставлен бысть святыи великий мученик Георгии на воротех на Фроловьских, резан на камени, а нарядом Васильевым, Дмитреева сына Ермолина» (29, 158).
В воскресенье, 15 июля 1464 года состоялось открытие первой скульптуры — Георгия Победоносца. (Пройдя сквозь века, она частично сохранилась до наших дней.) Выбор воскресного дня свидетельствует о том, что торжество сопровождалось каким-то церковным обрядом и произошло при большом стечении народа. Вместе с тем и само число — 15 июля — было глубоко символичным. В этот день церковь вспоминала равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси, основателя могущественного православного Киевского государства. В этот день родился и был именинником князь Владимир Андреевич Серпуховской — герой Куликова поля, дед княгини Марии Ярославны.
Рассуждая о символическом значении каменных скульптур, следует иметь в виду и чисто семейный аспект. Двух своих сыновей — Юрия Старшего, умершего в возрасте двух с половиной лет в январе 1440 года, и Юрия Младшего (1441–1472) — Василий Темный и Мария Ярославна назвали именем небесного воина.
Через два года Фроловские ворота были украшены с внутренней стороны каменным изображением святого Дмитрия Солунского. «Поставлен бысть святыи великий мученик Дмитреи на Фроловьских воротех изнутри града, а резан в камени, а повелением Васильа Дмитреева сына Ермолина», — сообщает Ермолинская летопись (29, 158). По мнению исследователей, эта скульптура, не сохранившаяся до наших дней, также представляла святого в виде всадника с копьем (71, 145). Обращает на себя внимание разрыв во времени между первой и второй фигурами. Очевидно, это была работа одного мастера, который, получив заказ в 1462 году, работал два года над первой скульптурой, а затем еще два — над второй.
В 1467 году в московском Кремле шла работа по достройке собора женского Вознесенского монастыря. Заказчицей выступала княгиня Мария Ярославна, а исполнителем — Василий Ермолин. Ни о каком участии в строительстве великого князя Ивана сведений нет. Храм был торжественно освящен митрополитом Филиппом во вторник 3 ноября 1467 года (101, 385). Это был один из дней, когда Церковь вспоминала святого великомученика Георгия (139, 343). В церемонии участвовал весь цвет московского духовенства во главе с Вассианом Рыло, занимавшим тогда пост архимандрита придворного Спасского монастыря.
Прославившийся успешной реставрацией собора Вознесенского монастыря, зодчий Василий Ермолин вскоре получил заказ на выполнение еще двух работ такого же характера: «обновление» церкви Воздвижения на Торгу и Положения ризы Божией Матери на Золотых воротах во Владимире (29, 159). Источники не сообщают, кто был заказчиком этих работ. Уникальное известие о них содержится в Ермолинской летописи под 6977 годом (1 сентября 1468 — 31 августа 1469 года). Известно, что Владимир в эти годы неоднократно посещал сам Иван III, руководивший отсюда московскими войсками, развернутыми против Казанского ханства. Можно полагать, что обветшавший вид древних зданий вызвал недовольство великого князя. Весной 1468 года Иван даже не счел возможным принять во Владимире польских послов. Он велел им ехать в Переяславль-Залесский, куда отправился и сам из Владимира через Юрьев-Польской (31, 280). Запустевшую древнюю столицу следовало срочно привести в пристойный вид. Тут-то и пригодилось умение Василия Ермолина обновлять состарившиеся здания.
Помимо Владимира, внимание государя привлек и Юрьев Польской. По дороге из Владимира в Переяславль он проезжал через этот некогда стольный, а теперь захолустный городок. Городской собор во имя святого Георгия, был выстроен перед самым Батыевым нашествием (в 1230–1234 годах) юрьевским князем Святославом Всеволодовичем. Теперь его белокаменные стены, сверху до низу покрытые тонкой резьбой, представляли собой груду развалин. Иван повелел все тому же Ермолину позаботиться о восстановлении древнего храма. Под 6879 годом (1 сентября 1470 — 31 августа 1471 года) Ермолинская летопись сообщает: «Того же лета во граде Юрьеве в Полском бывала церковь камена святыи Георгии, а придел святая Троица, а резаны на камени вси, и розвалилися вси до земли; повелением князя великого Василей Дмитреевь (Ермолин. — Н. Б.) те церкви собрал вси изнова и поставил, как и прежде» (29, 159).
(Троицкий собор в Юрьеве Польском сохранился до наших дней. Его резные композиции, изрядно перепутанные Ермолиным при реставрации, стали одной из самых сложных загадок в истории древнерусского искусства.)
Четыре летних сезона (1468–1471 годов) ушли на восстановление трех названных выше памятников Владимирской земли. В 1472 году Ермолин был уже в Москве и безуспешно пытался получить подряд на строительство митрополичьего Успенского собора в московском Кремле.
Восстановление древних храмов во Владимире и Юрьеве-Польском символизировало уважение молодого великого князя к деяниям и славе предков. Более того. В этих работах уже угадывалось столь ярко проявившееся впоследствии стремление Ивана III выступить в роли законного наследника всех прав и владений владимирских и киевских великих князей.
В ознаменование своих успехов Иван III строил мемориальные храмы. Следуя традиции, восходящей к Киеву и Константинополю, так поступали многие князья. Вся история Московского княжества может быть представлена в виде длинной череды мемориальных храмов. Храмам-памятникам их создатели стремились придать особую архитектурную выразительность. Здесь следует немного рассказать о том, что представляла собой московская архитектура той поры.
Все значительные постройки времен Ивана III можно разделить на светские и культовые. И те и другие были как деревянными, так и каменными. Деревянные постройки второй половины XV века до наших дней практически не сохранились. (Единственное исключение — чудом уцелевшая Ризоположенская церковь из погоста Бородавы на реке Шексне (1485 год). Она являет собой пример скромного сельского храма, в основе композиции которого лежит прямоугольный бревенчатый сруб под двускатной крышей.) Иное дело каменные сооружения. Из каменных построек светского назначения можно назвать две крепости (московский и новгородский Кремль) и два фрагмента дворцов (Грановитая палата в московском Кремле и тронный зал дворца Андрея Большого в Угличе). В этих сооружениях примечательно соединение собственно русских строительных традиций с высоким профессионализмом и артистизмом итальянских зодчих.
Большого размаха достигает при Иване III и каменное культовое строительство. Каменные храмы строят в Москве и Подмосковье, в крупных монастырях и удельных столицах. За исключением Успенского собора московского Кремля, а также новгородских и псковских церквей, все эти храмы принадлежат к одному архитектурному типу. Это сравнительно небольшой одноглавый или трехглавый храм, своды которого опираются на четыре столпа. Иногда основной объем поднят на высокий подклет и окружен с трех сторон открытой галереей-гульбищем. Верхняя часть храма решена в виде нескольких ярусов полуциркульных или заостренных «кокошников», создающих красивый, динамичный переход от основного четверика к высокому барабану и куполу. На основе этого универсального типа безымянные русские мастера создавали множество вариаций, отличающихся пропорциями и декором. Стройные, пирамидальные очертания этих храмов легко струились ввысь, словно дым из кадила или пламя горящей свечи.
Мысль о том, что вся его деятельность является исполнением некоего провиденциального замысла, а сам он избран Богом и пользуется его милостью, с годами все более укреплялась в сознании Ивана III. И с каждой новой удачей в душе великого князя крепло чувство любви и благодарности к Всевышнему, к тем святым, которые более других покровительствовали ему.
В 1468 году по случаю удачной борьбы Ивана III с пожаром, охватившим Москву, была поставлена обетная деревянная церковь Симеона Дивногорца (31, 281). Полагают, что она находилась в урочище «Сады» (в полутора верстах к востоку от Кремля), где располагался загородный двор великого князя (71, 68).
В память о победе над новгородцами в битве на реке Шелони 14 июля 1471 года (в воскресенье, в день памяти апостола Акилы) великий князь и его воеводы устроили два придела при Архангельском соборе московского Кремля — апостола Акилы и Воскресения. Оба придела сгорели во время сильного пожара в Кремле в 1475 году. Однако 8 сентября 1481 года (в годовщину Куликовской битвы!) они были заложены уже как каменные. Воскресенский придел был освящен в воскресенье 13 октября 1482 года, а придел апостола Акилы — в воскресенье 27 октября (20, 214).
Исполнением обета, данного Иваном III перед первым походом на Новгород, стала и постройка им в 1472 году деревянного храма Успения Божией Матери на посаде (позднее — церковь Гребневской Богоматери) (71, 70). Никаких подробностей ее создания источники не сообщают.
Отражением тех же благодарственных настроений стала и закладка в воскресенье 11 июля 1479 года обетной церкви Иоанна Златоуста в Ивановском монастыре (20, 192). Этот небольшой монастырь издавна существовал в версте к востоку от Кремля, между позднейшими улицами Мясницкая и Маросейка. Иван III дал новую жизнь оскудевшей обители. Вот что рассказывает об этом летопись: «Того же лета (6987), июля месяца, заложил церковь Иоанна Златаустаго великий князь Иван Васильевич камену, а преже бывшую древяную разобрав; бе же та изначала церковь гостей московских строение, да уже и оскудевати начят монастырь той; князь же великий учини игумена тоя церкви выше всех соборных попов и игуменов града Москвы и заградскых попов еще за лето преже сего, егда обет свой положи, понеже бо имя его наречено бысть егда бывает праздник принесение Иоана Златаустаго, генуариа 27; а в застенке тоя церкви повеле церковь другую учинити, того же месяца 22, Тимофея апостола, в той день родися; а ту разбраную церковь древяную повеле поставити в своем монастыре у Покрова в Садех, еже и бысть, первую малую розобрав» (19, 201).
Суть обета, исполнением которого стала постройка каменного храма во имя Иоанна Златоуста, вполне понятна. В январе 1478 года, когда князь Иван заставил новгородцев принять все его условия и присягнуть на верность, он на радостях обещал выстроить каменный храм во имя своего ангела — Иоанна Златоуста и сделать одноименный монастырь первым среди московских монастырей. Гонец, принесший в Москву весть о покорении Новгорода, прибыл в столицу 27 января — в праздник Перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста (31, 322). Несомненно, князь Иван, отправляя гонца загодя, 20 января, велел ему въехать в столицу именно в день своих именин. Это должно было показать москвичам чудесную силу небесного покровителя великого князя. (Похоже действовал Иван III и в 1480 году. Гонец, принесший весть о победе над Ахматом, прибыл в столицу 13 ноября — в день памяти святителя Иоанна Златоуста. Теперь ни у кого не оставалось сомнений в том, что князь Иван пользуется могущественным покровительством своего патронального святого.)
Храм во имя Иоанна Златоуста в одноименном монастыре был выстроен быстро. Однако его освящение затянулось из-за острого конфликта между великим князем и митрополитом Геронтием, вспыхнувшего осенью 1479 года. Стороны спорили о том, как правильно следовало совершать крестный ход при освящении нового Успенского собора: по солнцу или против солнца. Одни исследователи считают, что вопрос этот был лишь поводом для открытого столкновения светской и духовной властей, которое давно назревало в Москве. Другие полагают, что князь Иван находился под сильным влиянием языческих представлений, согласно которым движения крестного хода «против солнца» расценивались им «как магические, „нечистые“, разрушавшие сакральность храма, обесценившие все усилия великого князя в его строительстве и обустройстве» (101, 374). Устрашенный очередным московским пожаром, случившимся месяц спустя (!) после «неправильного» освящения собора, великий князь поднял спор с митрополитом и отказался освящать свои храмы согласно той традиции, которая была принята при освящении Успенского собора. «Много бо церквей князь велики своих, Ивана Златоустаго на посаде каменнаго с год не велел свящати, и Рожества (Богородицы. — Н. Б.) в городе, и Онуфрея святаго придела его и иных многих…» (18, 233).
Митрополит Геронтий, как и его предшественник митрополит Филипп, умел твердо стоять на том, что считал истиной. 24 августа 1481 года он демонстративно покинул митрополичий двор и уехал жить в Симонов монастырь, «посох свой остави в церкви, толико ризницу взя» (18, 233; 101, 365). Все текущие церковные дела остановились. Отсутствие архиерея, не передавшего свои полномочия какому-либо другому иерарху, создавало тупиковую ситуацию. На это и рассчитывал Геронтий, добивавшийся покаяния великого князя.
В конце концов Иван III, затаив досаду, вынужден был публично признать правоту митрополита в споре о крестном ходе. Он лично явился в Симонов монастырь и «бил челом» Геронтию, умоляя его вернуться на кафедру. Не позднее января 1482 года митрополит возвратился в Кремль и приступил к исполнению своих обязанностей (73, 556). Таким образом, выражение летописца «с год не велел свящати» означает период времени с конца 1480 до конца 1481 года. Можно полагать, что Ивановский собор окончили где-то осенью 1480 года, и он ждал освящения до конца 1481 — начала 1482 года. Только тогда этот храм-памятник, поставленный Иваном Великим отчасти Богу, отчасти самому себе, наполнился запахом ладана и голосами певчих.
Помимо собора Ивановского монастыря Иван III в 1481–1482 годах заложил в камне и собор древнего Сретенского монастыря, основанного великим князем Василием I и митрополитом Киприаном в 1395 году. «Того же (6990-го. — Н. Б.) лета заложи церковь камену князь велики, Сретение святыя Богородицы на Поле» (18, 233). Сретенский монастырь носил ярко выраженный мемориальный характер: он возник на том месте, где москвичи 26 августа 1395 года встречали чудотворную икону Владимирской Божией Матери. Ее переносили из Владимира в Москву в связи с ожидавшимся нашествием грозного среднеазиатского завоевателя Тамерлана (Тимура). Разорив Золотую Орду, Тимур шел к границам Руси. Однако внезапно он прекратил поход и ушел обратно в степи. Молва приписала спасение Москвы чудесному вмешательству самой Богородицы.
«Стояние на Угре» вновь вызвало всплеск горячего поклонения Божией Матери. 23 июня 1480 года в Москву вновь (и на сей раз окончательно) была перенесена икона Владимирской Божией Матери, возвращенная во Владимир после событий 1395 года (76, 53; 73, 333). Летописные рассказы о событиях 1480 года полны чудесных знамений и благочестивых рассуждений. Это возбуждение, создаваемое драматизмом ситуации, всячески поддерживало и духовенство во главе с митрополитом Геронтием.
30 сентября 1480 года «в суботу, в самую заутреню, мнози слышали, что колоколы московские на площади (соборной площади в Кремле. — Н. Б.) зучали о себе, тако как коли после звону зучат; а которые люди в дворех то слышали, ино слышелося им как бы симановских (Симонова монастыря. — Н. Б.) колоколов звон зучит. А месяца ноября 11, с четверга на пяток, нощи, опять зучали; а слышал то Гридя митрополичь ключник, а митрополиту сказывал в пятницу ту порану дворецкой его Сухан, а туто был Володимер да сын его Голова, да протопоп Феодор Благовещенской туто-же тогда был…» (19, 205).
Оба известия помещены в летописи под 6988 годом (1 сентября 1479 — 31 августа 1480 года). Однако знаменательные даты мистических событий указывают на осень 1480 года. 30 сентября (в 1480 году это действительно была суббота) Иван III неожиданно вернулся в Москву из Коломны. Коломенская дорога проходила мимо Симонова монастыря, где великого князя встретили колокольным звоном, донесшимся в утренней тишине и до Кремля. Значимой датой было и 11 ноября 1480 года — в этот день в стане великого князя стало известно об отступлении Ахмата (90, 13). Согласно некоторым летописям, именно 11 ноября 1480 года хан Ахмат «побежал с Угры» (30, 201).)
В октябре 1480 года, в самые критические дни противостояния, «вожжеся свеща о себе в храме пресвятыа Богородици у гроба чюдотворца Петра на Москве; митрополит же Геронтей молебнаа пев пресвятей пречистей Богородици и чюдотворцу Петру, и воду святил, и вощаницу оноа свещи, нарядив, послал к великому князю на Угру» (20, 201).
В эти годы уже вполне отчетливо очерчивается круг тех святых, которых принято было считать небесными покровителями Московского государства и его правителей. 13 ноября 1480 года митрополит Геронтий от имени всего русского духовенства обратился к Ивану III с посланием, в котором призывал твердо стоять за веру против «поганого царя» Ахмата. Он обещает государю небесную помощь «молитвами великых святителей и чюдотворец Николы и Петра, и Алексея, и Леонтия, и преподобных святых чюдотворец Сергия и Варлама, и Кирила, и сродника вашего, святого старца князя Александра Невъскаго, и святых Христовых страстотерпец Дмитрея и Георгия, и Андрея, и Федора Стратилата, и благочестивых по плоти сродник ваших, равнаго апостолом великаго князя Владимера и сынов его Бориса и Глеба…» (45, 277). Этот своего рода «литературный иконостас» венчают образы «всемилостивого Бога», Пречистой Богоматери и архистратига Михаила. Те же святые (с добавлением Иоанна Златоуста и исключением Александра Невского) названы покровителями московского воинства и в «Словесах избранных» — обширном панегирике, посвященном походу Ивана III на Новгород в 1471 году и написанном вскоре после события каким-то неизвестным книжником, близким к митрополичьему дому (115, 128).
Многочисленные московские пожары второй половины XV столетия быстро разрушали старые каменные здания в Кремле, которые выглядели весьма непритязательно. Их убожество становилось особенно заметным на фоне нового Успенского собора, выстроенного Аристотелем Фиораванти в 1475–1479 годах. Иван III постоянно заботился о приведении «города» в надлежащий вид. Но как человек бережливый он старался заставить раскошелиться и других состоятельных обитателей Кремля.
Второй после самого великого князя фигурой на Боровицком холме был митрополит. Некогда Иван Калита, желая привлечь святителей в Москву, на свои средства построил митрополичий дворец. Теперь времена изменились. Митрополиту некуда было уйти из Москвы. И потому он сам должен был заботиться об украшении своей резиденции. Даже строительство Успенского собора великий князь не прочь был поначалу возложить на плечи святителя Филиппа. Лишь после катастрофы 20 мая 1474 года (а может быть, и раньше, после страшного пожара 4 апреля 1473 года, уничтожившего митрополичий двор со всеми его кладовыми и сокровищницами) Иван вынужден был взять это дело в свои руки. Однако другие здания митрополичьей резиденции, разрушенной пожаром, были отстроены самим митрополитом Геронтием. Летом 1473 года он «поставил у двора своего на Москве врата кирпичем кладены ожиганым, да и полату заложил на своем дворе» (19, 178). Сложенный из обожженного кирпича «на четырех подклетех каменых», митрополичий дворец мог устоять в случае нового пожара в Кремле. Осенью 1474 года строительство было закончено. Торжественное переселение митрополита в новую палату состоялось в воскресенье 13 ноября 1474 года — в день именин великого князя Ивана Васильевича. Несомненно, со стороны Геронтия это был жест уважения по отношению к Ивану III. Очевидно, в эти годы между ними еще не существовало той напряженности, которая появится позднее. Впрочем, и в худшие для себя времена, когда великий князь его явно не жаловал, Геронтий нашел возможность выстроить при своем дворе сохранившуюся до наших дней небольшую Ризоположенскую церковь (1484–1485). Известно, что ее создателями были псковские мастера, имен которых источники не сохранили.
В условиях постоянных пожаров в Кремле каменное строительство оказалось вполне оправданным. Преемник Геронтия митрополит Зосима после пожара 1493 года, нанесшего сильный ущерб митрополичьей резиденции, выстроил «три келий камены с подклеты на своем дворе» (19, 227).
Большой участок внутри Кремля (в районе современной Троицкой башни) принадлежал Троице-Сергиеву монастырю. Обитель была достаточно богата, чтобы вести собственное каменное строительство. В самом монастыре в 1469 году Василий Ермолин выстроил каменную трапезную палату (29, 158). В 1476–1477 годах псковские мастера возвели на Маковце Троицкую церковь «иже под колоколы», позднее переименованную в Духовскую. Не забывали троицкие старцы и о своем подворье в московском Кремле. Еще в 1460 году там была поставлена каменная церковь Богоявления. Однако уже лет через двадцать она настолько обветшала («бе бо трухла велми»), что ее пришлось заменить на новую (19, 205). Это строительство источники датируют по-разному, но в пределах 1479–1482 годов.
Другой богатый монастырь — кремлевский Чудов — также сам заботился о своем благоустройстве. Еще в 50-е годы XV века здесь была поставлена каменная трапезная палата. В 1474–1476 годах в монастыре по повелению Ивана III (а значит, и на его средства) была возведена каменная церковь во имя святого митрополита Алексея (71, 111). Она сильно пострадала во время пожара 1477 года, и в 1483–1485 годах чудовский архимандрит Геннадий выстроил на ее месте новую трапезную палату с приделом во имя митрополита Алексея (19, 215; 71, 111).
От Троицкого и Чудова монастырей не отставал и Симонов. Эта древняя московская обитель была основана племянником преподобного Сергия Радонежского Феодором. Она считалась одной из самых богатых и привилегированных. Выходцами из Симонова монастыря были митрополиты Иона, Геронтий и Зосима. Монастырь имел свое подворье в Кремле. Оно находилось недалеко от Никольских ворот. Там еще в 1458 году была выстроена каменная Введенская церковь. В 1491 году ее разобрали и на том же месте начали строить каменную трапезную. Окончили работу уже осенью 1492 года. Введенская церковь при трапезной палате была освящена во вторник 13 ноября, в день памяти святителя Иоанна Златоуста — небесного покровителя «государя всея Руси» (19, 223).
(Каменные соборы возводились тогда и во многих других крупных русских обителях. В 1466 году был построен собор Рождества Богородицы в Пафнутьево-Боровском монастре, в 1481 году — Спасо-Преображенский собор Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере, в 1484 году — Успенский собор Иосифо-Волоколамского монастыря, в 1490 году — собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, в 1497 году — Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря. Это оживление каменного строительства служит наглядным свидетельством улучшения экономической ситуации в стране в правление Ивана III.)
Стараясь по возможности уменьшить финансовое бремя кремлевского строительства, князь Иван все же вынужден был время от времени раскрывать и свою казну. В 1480 году рухнула церковь Рождества Богородицы, построенная еще в 1393 году вдовой Дмитрия Донского княгиней Евдокией. При этом храме помимо придела святого Лазаря находилось и хранилище великокняжеской казны. «А на Москве у Рожества Пречистые иже у Лазаря святаго връх падеся, напрасно некако и страшно в нощи, и иконы поби и множество в казне великого князя судов поби» (19, 205). Работы по восстановлению церкви велись на средства самого великого князя. Вероятно, они были закончены уже на другой год. Однако Рождественская церковь была заново освящена после перестройки лишь в конце 1481 или начале 1482 года, после примирения великого князя с митрополитом Геронтием (18, 233).
На протяжении почти всей своей жизни Иван не проявлял особого рвения в области монастырского строительства. Однако в последние пять лет жизни великий князь, переживший ряд семейных драм и сам ощутивший близкое дыхание вечности, стал на удивление щедр по отношению к некоторым московским обителям. В 1500 году «повелением великого князя Ивана Василиевича, розобраша старую церковь на Москве Архаггела Михаила Чюдо, иже бе заложил и съвершил святый митрополит Алексей чюдотворец» (19, 240). Строительство нового собора Чудова монастыря, несомненно, велось на средства великого князя и было окончено к осени 1503 года. 6 сентября, в день престольного праздника, Чуда Архистратига Михаила иже в Хонех, митрополит Симон в сослужении новгородского архиепископа Геннадия и других владык освятил новый храм (19, 243).
К этому же циклу работ по украшению Чудова монастыря, вероятно, относится и перестройка в 1504 году каменной церкви Козьмы и Демьяна, располагавшейся рядом с обителью. Время постройки этого храма источники не сообщают. Известно лишь, что в рассказе о пожаре 1475 года церковь уже названа каменной. Последующими московскими пожарами здание было приведено в полную непригодность, и великий князь принялся за его отстройку. «Того же лета, повелением великого князя Ивана Василиевича всеа Руси, розобраша церковь старую Козма и Дамьян против Михайлова Чюда въ городе и новую заложиша» (19, 244). Возможно, забота о храме во имя «безмездных врачей» была связана с теми болезнями, которые стали одолевать Ивана III под старость.
Летом 1504 года государь обратил свое внимание на московский Андроников монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским в 1360 году. «Того же лета, на Възнесениев день (16 мая. — Н. Б.), повелением великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, архимандрит Митрофан в Ондроникове монастыри заложи трапезу кирпичну» (19, 244). Щедрости великого князя в данном случае способствовало и то, что архимандрит Митрофан был его духовником (6, 364).
Особое место в строительных предприятиях Ивана III занимало надлежащее устройство его собственного дома — великокняжеского дворца со всеми относящимися к нему постройками. Этот обширный комплекс современники кратко называли «государев двор». Примечательно, что обновление «двора» Иван III начал не с собственных покоев, а с придворной церкви.
История строительства Благовещенского собора — домовой церкви московских великих князей — полна загадок. Можно полагать, что первый каменный храм во имя Благовещения был построен в конце XIV века. В создании его внутреннего убранства в 1405 году участвовали Андрей Рублев и Феофан Грек. Через 11 лет летописи вновь сообщают о придворном соборе: «Того же лета создана бысть церковь камена, на великого князя дворе, Благовещенье, месяца июля 18 день» (18, 140). Это сообщение вызывает много вопросов. Зачем понадобилось так скоро перестраивать недавно оконченный собор, расписанный лучшими художниками своего времени? Почему завершение работ, а значит, и освящение нового храма состоялись в столь неурочное время: в разгар строительного сезона, в субботу, вне связи с каким-либо праздничным или памятным днем? Одни историки сомневаются в подлинности этого летописного известия, другие считают его вполне достоверным (107, 294; 100, 11).
Как и все храмы XIV столетия, Благовещенский собор при Иване III выглядел весьма непритязательно. После Новгорода и Угры такое положение уже становилось нетерпимым. Под 6990 годом (1 сентября 1481 — 31 августа 1482 года) в летописях сообщается о начале строительных работ: «Того же лета почаша рушити церковь на площади Благовещение, верх сняша и лубьем накрыша» (18, 234). Очевидно, служба продолжалась и в таком полуразрушенном храме. Так же, напомним, поступали и при строительстве Успенского собора.
Сложность перестройки Благовещенского собора состояла в том, что он, как и Рождественская церковь, по совместительству исполнял функции великокняжеской казны. Можно полагать, что именно его мощный белокаменный подклет, частично сохранившийся до наших дней, укрывал под своими низкими сводами сокровища московских Даниловичей. Теперь разбогатевший Иван III хотел иметь особый Казенный двор и надежную каменную палату для хранения сокровищ. По традиции все это должно было стоять рядом с Благовещенским собором и служить органической частью соборного комплекса. Под 6991 годом (1 сентября 1482 — 31 августа 1483 года) летописи вновь возвращаются к Благовещенскому собору: «Того же лета разруши князь велики Благовещенье на своем дворе, подписаную толко по казну и по подклет, и заложи казну около того подклета и полату кирпичну с казнами» (18, 235). Это сообщение следует понимать так, что Иван III распорядился оставить нижнюю часть старого Благовещенского собора («подклет») и включить ее в состав нового здания.
В 1484 году великий князь занялся наконец строительством самого Благовещенского собора. «Тое же весны, маиа в 6 день, князь велики Иван Василиевич всеа Русии заложил церковь камену Благовещение пресвятыя Богородица, на своем дворе, разрушив первое основание, еже бе създал дед его князь велики Василей Дмитреевич; а за церковию полату заложил» (19, 215). Строили собор мастера-псковичи. Строительство затянулось и было окончено лишь в 1489 году. «Того же лета, августа в 9 день, на память святаго апостола Матфеа, священна бысть церковь Благовещение пресвятыа Богородица, на великого князя дворе, на сенех. Того же месяца в 20, на память святаго пророка Самоила, священа бысть церковь Василей Кесарейский, придел у Благовещениа» (19, 218).
Летописи сохранили точные даты строительства Благовещенского собора. Однако их сокровенный смысл не вполне понятен. 6 мая 1484 года — четверг. Известно, что Иван III часто избирал этот день для своих начинаний. В Древней Руси четверг вообще считался счастливым днем. По пасхальному циклу это была Неделя Жен-Мироносиц. По месяцеслову в этот день вспоминали праведного Иова, который своими страданиями дал прообраз невинных страданий Иисуса Христа. Возможно, этот день был связан с какими-то неизвестными нам семейными событиями в жизни великого князН.Более ясен день освящения Благовещенского собора. 9 августа 1489 года — воскресенье. Этот праздничный день недели часто выбирали для торжеств, предполагавших большое стечение народа. Что же касается дня освящения Васильевского придела (20 августа 1489 года), то это четверг, день памяти пророка Самуила. Ни о каких памятных событиях в истории Москвы, связанных с этим днем, не известно.
Придворный храм был предметом особой любви и гордости Государя. Выполняя волю своего державного заказчика, мастера создали сооружение, воплотившее в себе традиции владимиро-суздальской и московской школы, обогащенные элементами псковской архитектуры (72, 24). В отделке использовались и некоторые приемы, характерные для итальянского зодчества. В основе своей Благовещенский собор 1489 года — это четырехстолпный храм на высоком подклете и с высокими апсидами. Его внешний вид существенно отличался от нынешнего. Своды венчались тремя главами, причем центральная глава была поставлена на повышенные подпружные арки и декорирована ярусами кокошников. Основной четверик окружали открытые галереи-паперти с арочными оконными проемами. Все элементы храма имели устремленные ввысь пропорции. Размеры Благовещенского собора казались весьма скромными по сравнению с Успенским собором, величие которого приобретало, таким образом, особую наглядность.
Новый Благовещенский собор являлся архитектурной доминантой для целого комплекса окруживших его разнохарактерных сооружений. «Этот комплекс включал в себя Казенный двор с Казенной палатой, жилые покои государева духовника и две церемониальные лестницы: одну — Благовещенскую — „на Площадь“, другую — через Казенный двор „к Архангелу“. Дата постройки покоев духовника неизвестна, Казенная же палата была возведена перед алтарями собора одновременно с ним. Вся эта обстройка погибла во второй половине XVIII в.» (85, 30). Казенная палата, в которой отныне стали храниться сокровища московских государей, представляла собой прямоугольное в плане двухэтажное здание под высокой четырехскатной кровлей. Ее своды опирались на поставленный в центре помещения массивный каменный столп. Проникнуть в палату можно было лишь через южную паперть Благовещенского собора.
Обновление всего комплекса великокняжеского дворца, начавшееся с перестройки Благовещенского собора, продолжилось в 1487 году постройкой обширной каменной палаты. «Того же лета повелением великого князя Ивана Васильевичя всеа Русии основал полату велику Марко Фрязин на великого князя дворе, где терем стоял» (38, 164). По мнению исследователя старой Москвы И. Е. Забелина, здесь идет речь о так называемой Набережной палате, располагавшейся к западу от Благовещенского собора, на самой бровке Кремлевского холма (79, 148). Однако ныне возобладала иная точка зрения, согласно которой это известие относится к началу строительства знаменитой Грановитой палаты, которую современники называли просто — Большая палата.
Под 6999 годом (1 сентября 1490 — 31 августа 1491 года) летописи сообщают о завершении Грановитой палаты, входившей в комплекс государева двора: «Того же лета Марко да Петр Антонеи архитектон фрязове съвершили болшую полату князя великого на площади» (38, 165). Таким образом, над созданием Грановитой палаты трудились два итальянских мастера: сначала это был Марко Фрязин, а затем к нему присоединился прибывший в Москву в 1490 году Пьетро Антонио Солари.
Грановитая палата — место торжественных приемов, пышных пиров, а позднее и земских соборов. Не чуждый провинциального тщеславия, князь Иван распорядился украсить парадный фасад Грановитой палаты, обращенный к Соборной площади, каким-нибудь изысканным западноевропейским декоративным мотивом. Для выполнения этого пожелания заказчика мастера воспользовались так называемым «бриллиантовым» рустом, что и дало палате ее историческое название. Великий князь вообще любил примешивать к русской архитектуре иноземные элементы. Эта тенденция особенно ярко проявилась в отделке Архангельского собора, законченного уже после его кончины. Однако ее можно проследить и во всех других постройках Кремля, выполненных по его заказу. Вероятно, этим Иван хотел как бы вскользь подчеркнуть свое равенство с европейскими государями.
Дальнейшая реконструкция великокняжеского двора затруднялась теснотой кремлевской застройки. Для освобождения места Иван III пошел на такой неординарный шаг, как «выселение» из Кремля древнего Спасского монастыря, основанного при княжеском дворе еще Иваном Калитой. Для обители было выделено новое место — в урочище Крутицы на левом берегу Москвы-реки, в трех верстах ниже Кремля. Там в 1491 году был заложен каменный собор Новоспасского монастыря. «Тое же весны, повелением великого князя, архимандрит Спаскый Афонасей заложил церковь камену на Новом Преображение Господа нашего Исус Христа» (19, 221). Об окончании этого строительства летопись сообщает пятью годами позже, под 1496 годом: «Тое же осени, сентября 18, в неделю, священна бысть церковь каменнаа Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа в монастыри на Новом, пресвященным Симаном митрополитом всеа Русии, при архимандритьстве Афонасиа Щедраго» (19, 233).
Расчистив место для нового строительства, Иван весной 1492 года приступил к возведению своего дворца («двора»). На время работ он перебрался со всем семейством в новый дом князя Ивана Юрьевича Патрикеева, находившийся неподалеку от Боровицких ворот. (Патрикеев взамен получил под застройку обширный пустовавший участок возле церкви Рождества Богородицы.) «Тое же весны априля в 5 в четверг вышел князь великы из своего двора из старого въ княжо Иванов двор Юрьевича в новой, и с великою княгинею Софьею и с детми, и с невесткою с великою княгинею с Оленою и со князем Дмитреем со внуком, а старой свой двор деревянои повеле разобрати того ради, что бы ставити новой двор камен» (31, 333). Однако не исключено, что все это — лишь позднейшее осмысление событий, а первоначально князь Иван планировал лишь отстройку нового деревянного дворца. Только к концу 90-х годов он «созрел» для строительства каменных жилых покоев.
Новый деревянный дворец был отстроен в короткий срок, за один летний сезон. Он занял и часть той территории восточнее Архангельского собора, которая раньше принадлежала опальному князю Василию Ярославичу Серпуховскому. «Того же лета поставиша великому князю двор древян за Архаггелом на Ярославичском месте» (19, 225). (Возможно, это был временный деревянный дворец, где Иван III предполагал жить до тех пор, пока не будет выстроен новый, каменный.) У нового деревянного дворца поначалу оказалась счастливая судьба. Уже весной 1493 года пожар вновь испепелил все деревянные сооружения в Кремле, однако дворец чудом (или старанием княжеских слуг) уцелел. «Тоя же весны, апреля 16, на Радуници, погоре град Москва нутрь весь, разве остася двор великого князя новой за Архаггелом, и у Чюда в монастыре казна (казначейская палата. — Н. Б.) выгоре» (19, 226).
Для борьбы с бесконечными пожарами Иван III в 1493 году предпринял решительные меры: лепившиеся по правому берегу Неглинки, под стенами Кремля, деревянные постройки были снесены, а на их месте возникла своего рода «полоса отчуждения» — барьер для огня. «Того же лета, повелением великого князя Ивана Васильевича, церкви сносиша и дворы за Неглимною; и постави меру от стены до дворов сто сажен да девять» (19, 226). (Обычная древнерусская сажень равнялась 216 см.) В эти же годы Неглинка была перекрыта плотиной близ самого устья. Ее воды широко разлились под стеной Кремля, создавая естественное препятствие и для огня, и для возможного неприятеля.
Эта мера была необходимой и эффективной. Однако огонь обманул людей и пришел оттуда, откуда его не ожидали. 28 июля 1493 года Москву вновь охватил страшный пожар, сопровождавшийся сильным ветром. Буря перебросила горящие головни через Москву-реку из пылавшего Замоскворечья. «А из Заречиа в граде загореся князя великого двор и великие княгини, и оттоле на Подоле житници загорешася, и двор князя великого новой за Архаггелом выгоре, и митрополич двор выгоре, а у Пречистые олтарь огоре под немецким железом, и въ граде все лачюги выгореша, понеже бо не поспеша ставляти хором после вешняго пожара, и церковь Иоанъ святый Предтеча у Боровитцких ворот выгоре, и Боровитцкая стрелница выгоре, и градная кровля вся огоре, и новая стена вся древянаа у Николскых ворот згоре… И многа бо тогда людем скорбь бысть, болши двою сот человек згоре людей, а животов бесчислено выгоре у людей; а все то погоре единого полудни до ночи. А летописец и старые люди сказывают, как Москва стала, таков пожар на Москве не бывал» (19, 227).
Трудно представить, сколь тягостно действовали на людей эти внезапные набеги огня, разом уносившие плоды долгих и тяжких трудов. В ревущем пламени бесчисленных пожаров выковывался тот несокрушимый русский фатализм, который один только и мог спасти человека от психического надрыва. Сознание полного бессилия перед стихией огня умножалось тем же горьким бессилием перед суровой и капризной северной природой, способной в одночасье перечеркнуть все труды земледельца, перед деспотической властью, не ведавшей уважения к личности и правам простого человека. «Подлинной религией русского крестьянства был фатализм», — полагает современный американский исследователь русской истории (124, 212). С этим тезисом до некоторой степени соглашаются и отечественные историки: «Отсутствие значимой корреляции между мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая в течение многих столетий не могло не создать настроений определенного скепсиса к собственным усилиям, хотя они затрагивали лишь часть населения. Немалая доля крестьян была в этих условиях подвержена чувству обреченности и становилась от этого отнюдь не проворной и трудолюбивой, проявляя безразличное отношение к собственной судьбе» (120, 570).
Великий князь Иван Васильевич умел выдерживать удары судьбы. Вероятно, ему помогал в этом не только наш национальный фатализм, но и сознание того, что люди в первую очередь смотрят на государя, ищут в его мужестве опору для себя. Отгоревав на пепелище, Иван принялся строить себе новый деревянный двор. 10 ноября 1493 года, за три дня до своих именин, великий князь вновь обзавелся собственным домом. Три с лишним месяца после пожара ему пришлось прожить на восточной окраине города в каких-то чудом уцелевших убогих дворах. «Того же месяца (ноября. — Н. Б.) в 10 день, в неделю, вшел князь велики в город в новый двор жити, а стоял тогды после пожара у Николы у Подкопаева под Конюшнею в хрестианскых дворех» (19, 227).
Горький опыт июльского пожара 1493 года заставил Ивана продолжить работы по созданию вокруг Кремля своего рода «зоны пожарной безопасности». В 1494–1495 годах «князь велики повеле сносити церкви и дворы за рекою Москвою против города, и повеле на тех местех чинити сад» (19, 230). Именно оттуда, из Замоскворечья, «красный петух» и перелетел в Кремль в июле 1493 года. Летопись не сообщает, как вознаграждал (и вознаграждал ли вообще) князь Иван тех владельцев, чьи постройки шли под снос. Однако из других источников известно, что эта меры вызвала сильное недовольство среди духовенства: разрушение церквей и перенесение на новое место прилегавших к ним кладбищ было расценено как кощунство (79, 140).
Построенные наспех деревянные хоромы 1493 года не устраивали Ивана. Вероятно, они были тесны и неуютны. Их внешний вид не соответствовал новому облику Соборной площади и Боровицкого холма. К тому же любой пожар мог вновь превратить «государя всея Руси» в бездомного квартиранта. И потому спустя 6 лет, весной 1499 года, Иван приступил наконец к строительству каменного дворца. «Тое же весны майя князь велики велел заложите двор свой, полаты каменные и кырпичные, а под ними погребы и ледники на старом дворе у Благовещеньа, да и стену каменну от двора своего до Боровицкые стрелницы, а мастер Алевиз Фрязин от града Медиолама» (38, 172).
(В литературе высказывалось мнение о том, что строительство каменного дворца началось не в 1499 году, а несколькими годами ранее (119, 51;79, 149; 71, 24). Основание для такого суждения дают некоторые летописные тексты. Существует также сообщение Устюжской летописи под 7016 годом о завершении строительства дворца: «Того же лета князя великаго двор каменной свершили, а ставили его 12 лет» (37, 100). Если оно достоверно, то начало строительства относится к 1496 году. Впрочем, все эти разночтения можно объяснить и расширительным пониманием слова «дворец» — включая сюда все новые гражданские постройки государева «двора».)
Великокняжеский каменный дворец (собственно жилые покои) представлял собой величественное здание с богатой внешней и внутренней отделкой. На его возведение ушло девять лет. Сам Иван Великий умер, так и не дождавшись завершения работ. И лишь его сын и наследник Василий III стал счастливым обладателем новых каменных палат. Это произошло весной 1508 года. «Тоя же весны, маиа в 7, в неделю вторую по Пасце, вшол князь велики Василей Иванович всеа Русии в новый двор в кирпичной жити, иже заложил отец его князь велики Иван Васильевич всеа Руси на старом месте у Благовещениа» (19, 249).
Дворец Ивана III не сохранился до нашего времени. Сейчас на его месте стоит Большой Кремлевский дворец, построенный в 1838–1849 годах по проекту архитектора К. А. Тона. Однако источники все же позволяют составить о нем некоторое представление. «Черты регулярности и пространственной замкнутости проявились в композиции всего нового великокняжеского дворца… Объединяющим началом дворцового комплекса послужил П-образный в плане подклет, обрамленный как с внешней, так и с внутренней стороны монументальной аркадой. Посреди внутреннего двора располагалась церковь Спаса на Бору, оставшаяся от великокняжеского монастыря, перенесенного в 1492 году за город, ниже по течению Москвы-реки. С западной стороны, откуда через Боровицкие ворота осуществлялся подъезд к великокняжеской резиденции, двор был ограничен каменной стеной с Золотыми (Гербовыми) воротами. Дворцовый комплекс в целом был дополнительно защищен с юга стеной, прошедшей по бровке холма от Боровицких ворот (заложена в 1499 году). Относительно регулярное взаимное расположение новых крупномасштабных палат на общей площадке подклета придавало большую величественность и цельность великокняжеской резиденции. Вместе с тем по своей функциональной организации дворец был вполне традиционен» (60, 312).
Естественным продолжением работ на Соборной площади стало возведение нового Архангельского собора. Древняя усыпальница московских князей, возведенная еще Иваном Калитой в 1333 году, Архангельский собор почему-то долго не привлекал внимания Ивана III. Лишь весной 1505 года, за полгода до своей кончины, великий князь приступил к его перестройке. «Тое же весны, маиа 21, повелением великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, в граде Моекве на площади разобраша старую церковь, ветхости ради, святаго великого Архаггела Михаила… На том же месте заложиша новую церковь святаго Архаггела Михаила, и тогды выняша мощи великих князей и уделных. Тогда же и другую церковь разобраша, Иван святый Лествичник иже под колоколы, създанную от великого князя Ивана Даниловича в лето 6837, и заложиша новую церковь Иван святый на старом месте» (19, 244). Летопись явно объединяет два строительных действия (разборка старых зданий и закладка на их месте новых) в одно. Разборка старого Архангельского собора (которой предшествовало перенесение на новое место останков захороненных в соборе князей московского дома) и столпообразной церкви-колокольни Иоанна Лествичника началась значительно раньше. Впрочем, памятуя о том, что Аристотель Фиораванти разрушил старый Успенский собор всего за неделю, можно полагать, что и на сей раз эту проблему итальянские мастера решили достаточно быстро.
21 мая 1505 года, в день памяти святого равноапостольного царя Константина и матери его Елены, состоялась закладка нового Архангельского собора и новой церкви Иоанна Лествичника — исторического ядра современной колокольни Ивана Великого. Возможно, день для торжества был подсказан летописью: 21 мая 1329 года была заложена первая каменная церковь Иоанна Лествичника (25, 91). Впрочем, в этот день на Руси вообще часто начинали строительство храмов: Константин Великий был создателем главного храма христианского мира — храма Воскресения над Гробом Господним в Иерусалиме. Придворные книжники любили сравнивать Ивана III с Константином — «благоверный же и христолюбивый истинный православию поборник, якоже вторый благочестивый царь Констянтин, великий князь Иван Василиевич государь всея Русии и иных многих самодержец…» (20, 226).
Необходимым условием успешной защиты Московского государства от внешних врагов было строительство мощных укреплений в стратегически важных городах. Источники особо упоминают о постройке Иваном III деревянных укреплений во Владимире-на-Клязьме (1492) и Великих Луках (1493), а также каменных в Новгороде Великом (1484–1492) и Ивангороде (1492–1499). Новгородская крепость сохранилась до наших дней и поражает своей суровой мощью. Но все же главным достижением князя Ивана в этой области, несомненно, стала новая московская цитадель.
Прежняя белокаменная московская крепость, возведенная Дмитрием Донским и митрополитом Алексеем в 1367–1368 годах, сильно обветшала от времени, штурмов и пожаров. Ее стены казались деревянными от множества бревенчатых подпорок и «заплаток». Для столицы могущественного и независимого государства такая цитадель была уже явным анахронизмом.
Построенная итальянскими мастерами по заказу Ивана III новая московская крепость принципиально отличалась по своему устройству от каменных русских крепостей предшествующего периода и была рассчитана на активную оборону, на боевые действия с применением огнестрельного оружия (106, 24). Следует подчеркнуть, что это была именно крепость («город»), способная в случае необходимости укрыть в своих стенах многие тысячи человек. Ее нельзя сопоставлять с западноевропейскими замками — каменными гнездами феодала и его приближенных. Внутри крепости не было отдельного неприступного убежища для правителя. Дворец великого князя был встроен в плотную застройку Кремля — своеобразного «города в городе». Из этого можно сделать вывод о том, что, в отличие от западных правителей, Иван III не боялся восстания собственных подданных и не отгораживался от них многометровыми стенами и рвами. Напротив, он объединялся с ними в общей беде — нападении внешнего врага.
Существовал ли у Ивана III какой-то заранее принятый подробный план строительства? Высказывалось мнение, что такой план был и что автором его являлся Аристотель Фиораванти. Однако в процессе реставрационных работ последних десятилетий были сделаны наблюдения, опровергающие данное мнение. Выяснилось, что «по мере возведения облик Кремля претерпевал серьезную трансформацию, причем завершенная крепость оказалась более могущественной и монументальной, чем можно было бы заключить по начальному периоду строительства» (69, 55).
Каждый из итальянских мастеров, работавших над постройкой той или иной башни, имел свои излюбленные приемы и детали. Однако при этом сохранялась и целостность общего впечатления. «Отличающие кремлевскую крепость грандиозный размах и величественную суровость она приобрела в период, когда работы возглавлял Пьетро Антонио Солари, особая роль которого отмечается также письменными источниками. Прослеживаемая индивидуальность художественного почерка отдельных частей Московского Кремля сглаживается общей ориентацией на вполне определенный тип североитальянских крепостей» (69, 55).
Строительство новых кремлевских стен началось 19 июля 1485 года, во вторник. «Того же лета, июля в 19 день, заложена бысть на Москве на реке стрелница (башня. — Н. Б.), а под стрелницею выведен тайник; а поставил ее Онтон Фрязин» (19, 216). Речь идет о проездной Тайницкой башне, расположенной посредине длинной стены, тянущейся вдоль Москвы-реки. Свое название она получила от «тайника» — подземного хода к реке, через который москвичи в случае осады могли пополнять запасы воды.
Дата начала такого важного дела, на первый взгляд, вызывает недоумение своей бесцветностью. Это был будний день, не связанный с памятью какого-либо особо почитаемого святого или воспоминанием о важном историческом событии. Единственная его примета состояла в том, что это был канун Ильина дня. Однако рассматривая эту дату в историческом контексте, легко убедиться в ее естественности. Во-первых, великий князь не мог устраивать по случаю закладки башни никаких торжеств: еще не окончился 40-дневный траур по его матери, княгине Марии Ярославне, умершей 4 июля 1485 года. Во-вторых, названная дата имела сугубо «производственное» значение. Тайник, естественно, строился до начала строительства самой башни. Срок окончания этой кропотливой работы, вероятно, был назначен «к Ильину дню» (20 июля). Управившись с тайником, мастера немедленно приступили к закладке «стрельницы». Они торопились, так как должны были закончить башню до конца строительного сезона. Поторапливал и великий князь: назревала война с Тверью, за которой могла последовать война с Литвой.
Сложность перестройки Кремля заключалась в том, что замену белокаменных стен и башен на новые, кирпичные, следовало производить так, чтобы при этом ни на день не ослабить оборонительного потенциала крепости. Москва в военном отношении уже стояла прочно. Но все же превратности военного счастья и угрозу внезапного набега степняков нельзя было сбрасывать со счета. Поэтому работы велись поэтапно, переходя от одного участка к другому.
Вслед за Тайницкой башней Марк Фрязин и Антон, Фрязин поставили Беклемишевскую (1487) и Свиблову (1488). Между ними протянулись высокие зубчатые стены. Таким образом, была завершена южная, обращенная к Москве-реке часть крепости. В 1490 году в Москву прибыл опытный мастер Пьетро Антонио Солари из Милана. В знак особого уважения летописцы называют его «Архитектоном» (Архитектором). Он быстро включился в работу по перестройке Кремля. В 1491–1492 годах Солари совместно с Марком Фрязином возвел две проездные башни — Фроловскую (Спасскую) и Никольскую, соединив их стенами между собой и с соседними «стрельницами». В 1495 году приступили, наконец, к строительству северной линии кремлевских стен, тянущейся вдоль реки Неглинки.
Строительство новой московской крепости завершилось уже после кончины Ивана III. В 1508 году Алевиз Фрязин выкопал глубокий (около 8,5 метров) и широкий (около 37 метров) ров вдоль восточной стены Кремля, соединивший Москву-реку с Неглинкой. В результате Кремль превратился в окруженный водой неприступный остров.
Любимое детище Ивана III, московский Кремль стал одной из лучших цитаделей тогдашней Европы. Он и сегодня производит незабываемое впечатление не только неприступностью высоких стен и башен, но и стройностью, изяществом их пропорций.
Конечно, Кремль уже не тот, что был при Иване Великом. Изменились его башни. Первоначально они были покрыты низкими деревянными крышами. В XVII столетии эти крыши заменили высокими каменными шатрами. Давно засыпан «Алевизов ров», да и сама крепость за свой долгий век повидала многое. Ее не раз чинили, порой перекладывая заново целые прясла. И все же эта драгоценная оправа нашей исторической святыни, московского Кремля, все так же радует глаз и волнует душу. Подобно Успенскому собору, Грановитой палате и другим постройкам итальянских мастеров, старая крепость давно «обрусела», глубоко вросла в русскую жизнь и русскую историю. Она стала гражданским символом Российского государства.
Все, что известно о строительной деятельности Ивана III, позволяет сделать один простой, но важный вывод. Наш герой любил и умел строить. Он не жалел для этого ни сил, ни средств. Здесь проявилась коренная черта его характера. Многое в своей жизни разрушив, он разрушал лишь во имя созидания. На развалинах старого он неизменно строил нечто новое и, как ему казалось, более совершенное.
ГЛАВА 15 Судья
Ничто так не прославляет государя, как введение новых законов и установлений.
Никколо Макиавелли
В конце своей жизни Иван III распорядился подготовить свод законов, обязательных к исполнению на всей территории Московского государства, — так называемый Судебник 1497 года. Это было поистине историческое начинание. С началом феодальной раздробленности юридические нормы приобрели сугубо местный, региональный характер. Их разнобой был существенным препятствием на пути политической централизации и развития экономических связей между областями. Впервые со времен Русской Правды — свода законов Ярослава Мудрого (1019–1054) и его сыновей — Иван III устанавливал единые для всех русских земель юридические нормы. Такое начинание мог позволить себе только независимый правитель, собравший под своей властью огромную территорию.
Создание общерусского законодательства было не только ответом на практические потребности жизни, но и заготовкой на будущее. Здесь, как и во многом другом, князь Иван явно «забегал вперед», словно не доверяя своим наследникам и желая загодя указать им правильное направление движения. «…Далеко не все его (Судебника 1497 года. — Н. Б.) статьи осуществлялись на практике. Часть их оставалась программой, пожеланием, для реализации которой требовалось время. Именно поэтому Судебник 1497 года был положен в основу царского судебника 1550 года, а отдельные его положения и принципы получили дальнейшее развитие и в последующем законодательстве» (167, 49).
Как и многие другие важные события той эпохи, создание Судебника 1497 года очень скупо отражено в источниках. Да и сам документ сохранился лишь в одном-единственном списке, который стал достоянием историков в начале XIX века. Мы не знаем ни имен тех людей, которые готовили проект документа, ни обстоятельств, при которых они работали. Нет ясности и относительно круга источников, которыми они пользовались. По наблюдению исследователей, «40 статей, то есть около 3/5 всего состава Судебника, не имеют какой-либо связи с дошедшими до нас памятниками. Они либо извлечены из несохранившихся законодательных актов Ивана III, либо принадлежат самому составителю Судебника…» (167, 49).
Всемогущее Время, словно потешаясь над усилиями историков, бросает им жалкие объедки со своего стола. Под 7006 годом (1 сентября 1497 — 31 августа 1498 года) в одной из летописей сохранилось сбивчивое, с явными утратами некоторых слов, сообщение: «Того же лета князь великый Иван Васильевич и околничим и всем судьям, а уложил суд судити бояром по судебнику, Володимера Гусева писати» (30, 213). Полагают, что имя несчастного «сына боярского» Владимира Елизаровича Гусева (казненного по приказу Ивана III весной 1498 года за участие в заговоре в пользу его сына Василия, которого отец хотел лишить прав наследника) попало в сообщение Типографской летописи о Судебнике по ошибке ее переписчиков. Требует уточнения и названная в летописи дата. На деле Судебник был уже готов к сентябрю 1497 года. Об этом свидетельствует и само его по-старинному длинное заглавие: «Лета 7006-го месяца септемвриа уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детми своими и с бояры о суде, как судити бояром и околничим» (48, 54). Очевидно, работа над кодексом велась несколько месяцев, а сроком ее окончания было определено 1 сентября 1497 года — начало нового, 7006 года от Сотворения мира. Вся процедура делилась на два этапа. На первом разработчики (полагают, что их главой был боярин Иван Юрьевич Патрикеев, под началом которого трудились дьяки Василий Долматов, Василий Жук и Федор Курицын) собрали из различных источников те положения, которые следовало утвердить в общерусском законодательстве. В числе этих источников были Русская Правда, уставные грамоты московским наместникам в разных областях (из них сохранились только Двинская и Белозерская), указы самого Ивана III, а также неписаные нормы традиционного права. На втором этапе началось постатейное рассмотрение и утверждение проекта Судебника в Боярской думе с участием самого Ивана III, его внука Дмитрия и старших сыновей от Софьи Палеолог. Вероятно, здесь-то и произошло внесение в текст тех неведомых ранее положений, которые можно отнести к законотворчеству самого государя. Пройдя через это «чистилище», кодекс был окончательно утвержден Иваном III в сентябре 1497 года.
Историки давно и охотно комментируют Судебник 1497 года как в целом, так и по отдельным его статьям. Разумеется, при этом высказываются самые различные точки зрения. Стратиграфия этих историографических отложений уже сама по себе стала предметом исследования. Отметим лишь несколько бесспорных положений, которые помогут читателю уяснить суть дела.
Во-первых, следует подчеркнуть, что Судебник 1497 года, в отличие от современных кодексов, заключает в себе лишь малую часть всего списка возможных конфликтных ситуаций. Большинство же разрешалось на основе обычного права, церковных правил, областных актов и прочих действовавших тогда правовых инструментов. Законодатели не пытались создать универсальный эталон правосудия. Они всего лишь хотели более четко очертить происхождение, права и обязанности судьи — главной фигуры всего тогдашнего «правового поля». По существу, судья был уменьшенной копией царя. Соответственно и сам суд был «библейским», безапелляционным, основанным на мнении одного человека. Причем человек этот не являлся профессиональным судьей. Это был администратор, полководец и судья в одном лице. К тому же он и в качестве судьи оставался подданным своего государя со всеми вытекающими отсюда последствиями…
Со времен Ивана III начинается тщательный учет продвижения «служилых людей», их успехов и неудач. Они были внесены в своего роде «номенклатурный список», исключение из которого за просчеты на одном из этих поприщ означало крах всех личных и семейных надежд. Таким просчетом могло быть и неправильное, с точки зрения интересов «государя всея Руси», отправление обязанностей судьи. В итоге решения судьи представляли собой как бы вектор нескольких направленных в разные стороны сил: страха Божьего — и корыстолюбия, чувства справедливости — и личных пристрастий, совести — и страха опалы за невыполнение определенных негласных предписаний верховной власти.
Во-вторых, необходимо отметить, что время Ивана III, отмеченное серьезными переменами в отношениях власти и собственности, предрасполагало к возникновению множества больших и малых конфликтов. Дух произвола боролся с духом закона, причем оба они гнездились на вершинах власти. Множество людей было сбито со своих привычных орбит социально-политическими катаклизмами последней трети XV столетия. Присоединение новых территорий к Московскому княжеству обычно сопровождалось «перебором людишек» и массовыми высылками потенциальных противников новой власти. Формирование дворянства шло как за счет неудачников, соскользнувших вниз из более высокого общественного слоя — крупной аристократии, так и за счет карабкавшихся вверх энергичных простолюдинов. Усложнение и драматизация социальных отношений шли рука об руку с обострением имущественных и прежде всего поземельных споров. В итоге судьи оказались нужны обществу, как никогда ранее. Они были выше головы завалены делами.
Правильно понять содержание Судебника 1497 года — а вместе с ним и роль Ивана III как законодателя — можно лишь представив себе хотя бы в общих чертах то общество, для которого он готовил свои законы. К сожалению, русские летописи очень скудно освещают повседневную жизнь людей, их поведение в тех или иных житейских ситуациях. Все то, что казалось обыденным, исключалось из поля зрения летописца. Некоторое восполнение этого колоссального пробела в наших знаниях о прошлом дают записки иностранцев, посещавших Москву во времена Ивана III или несколько лет спустя после его кончины. К первым относится итальянский дипломат Амброджио Контарини, ко вторым — австрийский посол Сигизмунд Герберштейн, посещавший Москву в 1517 и 1526 годах. Оба они оставили потомству отчет об увиденном в далекой Московии. «Записки о Московии» С. Герберштейна гораздо обширнее и полнее, чем труд Контарини. Последний писал свое «Путешествие в Персию» прежде всего как отчет о посольстве на Восток. Продолжавшееся несколько месяцев вынужденное пребывание Контарини в Москве (с 25 сентября 1476-го по 21 января 1477 года) было для него всего лишь случайным и малоприятным эпизодом, о котором он не очень-то и хотел вспоминать. Однако для нас беглые заметки венецианца имеют исключительную ценность уже потому, что он видел тогдашнюю Западную и Северо-Восточную Русь своими глазами. Контарини был представлен самому Ивану III и имел с ним несколько встреч. Он видел Москву такой, какой она была до перестройки в последней четверти XV столетия.
Кое-какие любопытные подробности сообщает и другой итальянский путешественник середины XV века — Иосафат Барбаро. Он хорошо знал жизнь Крыма и степей, но о Москве писал только по слухам и чужим рассказам. Частицы ценной информации о русской жизни можно отыскать и в сочинениях некоторых других иностранных авторов той эпохи. Понятно, что любой взгляд; «со стороны» всегда пристрастен и преломляет действительность через призму системы ценностей самого наблюдателя. Однако сопоставление известий разных авторов, их критический анализ позволяют увидеть немало интересного.
Русское общество времен Ивана III, каким виделось оно иностранным наблюдателям, — это довольно шаткая конструкция, стянутая для прочности железным обручем диктатуры. Бесконечные лесистые равнины, где лишь изредка можно увидеть затерянную в снегах убогую деревушку, — такой предстает перед ними Московская Русь. Этот образ страны примерно одинаков у всех названных авторов. Здесь им не было никакого смысла фантазировать. Несомненно, именно такой и была Московия в те далекие времена. Огромная территория в сочетании с относительно небольшим количеством жителей создавала важнейший негативный фактор отечественной истории — крайне низкую среднюю плотность населения. В средневековой Руси она была в 5–7 раз ниже, чем в государствах Западной Европы. В результате очень усложнялись многие государственные задачи: эффективное управление и сбор налогов, торговля и распространение всякого рода усовершенствований. Все это определенным образом сказывалось как на характере законодательства, так и на его практическом исполнении.
«Весь тот день, 29 апреля (1474 года. — Н. Б.), мы двигались по лесам, причем очень опасным, так как там бродят разные подозрительные люди. Вечером, не найдя убежища, мы расположились на ночлег тут же в лесу, не имея никакой пищи; мне пришлось целую ночь быть настороже…» (2, 210).
«Уехав отсюда (из Рязани в сторону Коломны. — Н. Б.), мы двигались непрерывно по огромнейшим лесам и только к вечеру нашли русскую деревню, где и остановились; тут мы несколько отдохнули, потому что нам показалось, что это место было, с Божьей помощью, безопасно…» (2, 225).
«Вокруг города (Москвы. — Н. Б.) большие леса, их ведь вообще очень много в стране…» (2, 227).
«Вечером (на пути из Москвы в Смоленск. — Н. Б.) мы все расположились в очень ветхой деревеньке, тем не менее, хотя я и знал, что придется терпеть всевозможные неудобства и трудности из-за холодов и снегов, обычных в этих местах, и что придется ехать все время по лесам, — всякое неудобство казалось мне удобством, и я решительно ничего не боялся, настолько велико было мое стремление оказаться за пределами этих стран и избавиться от здешних обычаев. По этой причине я ни о чем другом не думал, как только о том, чтобы ехать и ехать, днем и ночью.
22 января мы покинули ту деревню и ехали непрерывными лесами в сильнейшем холоде с указанного дня до 27 января, когда прибыли в городок, называемый Вязьма…» (2, 231).
«Следует отметить, что с 21 января, когда мы выехали из Москвы, вплоть до 12 февраля (1477 года. — Н. Б.), когда мы прибыли в Троки (резиденция великого князя Литовского близ Вильно. — Н. Б), мы все время продвигались по лесам; это была равнина, кое-где с небольшими холмами. Иногда нам попадались деревни, где мы отдыхали, однако большинство ночей приходилось проводить в лесу. В середине дня мы останавливались для еды в таких местах, где можно было отыскать костер, брошенный людьми, проехавшими незадолго до нас днем или вечером предыдущего дня» (2, 232).
(Впрочем, лесной пейзаж Московии постепенно менялся. Уже Герберштейн отмечает массовые вырубки лесов вокруг Москвы. «По пням больших деревьев, видным и поныне, ясно, что вся страна еще не так давно была очень лесистой» (4, 130). Вероятно, подмосковные леса сильно поредели в 90-е годы XV века, когда несколько опустошительных пожаров Москвы и последовавшее за ними интенсивное строительство взвинтили спрос на строевой лес. Сказывался и быстрый рост населения столицы в результате успехов объединительного процесса и благоприятной демографической ситуации в правление Ивана III.)
Обитатели этих безбрежных русских лесов, разумеется, отделены от путешествующего иностранца незримой стеной отчуждения. Для них он — словно редкостное животное, каким-то чудом оказавшееся в здешних лесах. Они для него — предмет холодного и зачастую поверхностного любопытства. Он отмечает то, что бросается в глаза. А это прежде всего внешние, навязчивые черты. К ним в первую очередь относится поголовное и беспробудное пьянство. «Медовуха» гуляет по просторам Руси от запада и до востока как истинная повелительница и госпожа.
Русский «мед» завоевал и татарскую степь. В Астрахани Контарини провел в страхе целую ночь из-за буйства пьяных татар. «Затем еще много раз приходили разные татары; они являлись ночью в пьяном состоянии (от употребления того напитка, который они приготовляют из меда) и кричали, чтобы им выдали франков…» (2, 220).
Настоящее виноградное вино было достаточно редким и дорогим продуктом для кочевников. Его привозили в города Нижнего Поволжья из Северного ПричерноморьН.Барбаро рассказывает, как один знатный татарин, гостивший у него в Тане (современный Азов), упился вином, приговаривал: «Дай же мне напиться, где я еще смогу это добыть!» (2, 145).
Понемногу начинает пить хмельной русский «мед» и сам Контарини. О своем прибытии из татарских степей в русскую Рязань он рассказывает так: «Здесь мы нашли и хлеб, и мясо в изобилии, и даже русский напиток из меда; всем этим мы хорошо подкрепились…» (2, 225). Однако самому сильному искушению хмелем Контарини подвергался в Москве. Свои воспоминания об этом он выразил в следующих словах.
«Они (русские. — Н. Б.) величайшие пьяницы и весьма этим похваляются, презирая непьющих. У них нет никаких вин, но они употребляют напиток из меда, который они приготовляют с листьями хмеля. Этот напиток вовсе не плох, особенно если он старый. Однако их государь не допускает, чтобы каждый мог свободно его приготовлять, потому что если бы они пользовались подобной свободой, то ежедневно были бы пьяны и убивали бы друг друга как звери.
Их жизнь протекает следующим образом: утром они стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить; после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-либо делу…» (2, 228).
(Контарини, как и другие иностранные авторы той эпохи, объясняют вмешательство государства в «питейный» вопрос заботой об общественной нравственности. Вероятно, так говорили наивным чужеземцам приставленные к ним русские бояре. Однако на деле речь идет о строгом соблюдении государственной монополии на производство хмельного «пития», которая обогащала казну. Иван III, судя по всему, был первым из московских правителей, кто сумел суровыми мерами наладить эту систему.)
У Контарини, прожившего в Москве около четырех месяцев, было время оценить своеобразие русского гостеприимства. Свои впечатления об этом он выразил одной многозначительной фразой: «С уверенностью могу сказать, что у всех я встречал хороший прием» (2, 229). Но, пожалуй, самое тяжкое испытание по части хмельного застолья ожидало итальянца на последнем приеме во дворце перед отъездом домой. «Здесь мне была поднесена большая серебряная чаша, полная медового напитка, и было сказано, что государь приказывает мне осушить ее всю и дарует мне эту чашу. Такой обычай соблюдается только в тех случаях, когда хотят оказать высшую честь либо послу, либо кому-нибудь другому. Однако для меня оказалось затруднительным выпить такое количество — ведь там было очень много напитка! Насколько я помню, я выпил только четвертую часть, а его высочество, заметив, что я не в состоянии выпить больше, и заранее зная к тому же об этом моем свойстве, велел взять у меня чашу, которую опорожнили и пустую отдали мне. Я поцеловал руку его высочества и ушел с добрыми напутствиями…» (2, 231).
О тягостных хмельных застольях Ивана III рассказывает и С. Герберштейн. «Во время обедов он (Иван. — Н. Б.) по большей части предавался такому пьянству, что его одолевал сон, причем все приглашенные меж тем сидели пораженные страхом и молчали. По пробуждении он обыкновенно протирал глаза и тогда только начинал шутить и проявлять веселость по отношению к гостям» (4, 68). Порок неумеренного винопития государь вполне разделял со своими подданными. «Насколько они воздержанны в пище, настолько же неумеренно предаются пьянству повсюду, где только представится случай» (4, 121).
Всему этому можно было бы и не верить, ссылаясь на извечную склонность иностранцев изображать русских в виде грубых варваров. Однако примерно то же самое говорят и русские писатели времен Ивана III. Будущий московский митрополит, а в то время ростовский архиепископ Феодосии Бывальцев (1454–1461) в послании к священникам своей епархии больше всего сокрушается по поводу их пьянства. «Паче всего хранися от пьянства, оскверняет бо молитвы твоя и помрачает ти ум», — восклицает Феодосии (45, 321). Известный церковный деятель игумен Иосиф Волоцкий (ум. 1515), составляя устав для основанного им монастыря, категорически воспрещал держать в обители хмельное питие. Однако так поступали далеко не все монастырские власти. Зная, что вино допускалось тогда (в небольших количествах и разбавленное водой) за трапезой в греческих монастырях, Иосиф замечает, что на Руси подобное умеренное употребление вина невозможно. «О Рустей же земле ин обычей и ин закон: и аще убо имеем питие пианьственое, не можем воз-держатися, но пиемь до пианьства» (39, 318). Жизнь подтверждала прозорливость волоцкого игумена. В тех обителях, где иноки имели доступ к «питию», хмель справлял свое торжество. «А на Сторожех (древний Саввино-Сторожевский монастырь в подмосковном Звенигороде. — Н. Б.) до чего допили? Тово и затворити монастыря некому, по трапезе трава ростет», — саркастически восклицал Иван Грозный в послании к монахам Кирилло-Белозерского монастыря (15, 164).
Неистовое пьянство сопровождало тяжкие бедствия, которыми так обильна была тогдашняя русская жизнь. По воспоминаниям учителя Иосифа Волоцкого, игумена Пафнутия Боровского, во время «великого мора» 1427 года одни постригались в монахи, а другие, напротив, «питию прилежаху, зане множество меду пометнуто и презираемо бе». Дикое пиршество в заброшенных домах порою прерывалось тем, что «един от пиющих внезапу пад умираше; они же, ногами под лавку впхав, паки прилежаху питию» (7, 17).
Не менее тяжким нравственным и социальным пороком, чем пьянство, было холопство.
Это емкое понятие включает в себя определенное состояние как тела, так и души. В юридическом смысле холопство времен Ивана III — это узаконенная полная зависимость одного человека от другого, вызванная определенными обстоятельствами. «До конца XV в., — отмечает В. О. Ключевский, — на Руси существовало только холопство обельное, или полное, как оно стало называться позднее. Оно создавалось различными способами: 1) пленом, 2) добровольной или по воле родителей продажей свободного лица в холопство, 3) некоторыми преступлениями, за которые свободное лицо обращалось в холопство по распоряжению власти, 4) рождением от холопа, 5) долговой несостоятельностью купца по собственной вине, 6) добровольным вступлением свободного лица в личное дворовое услужение к другому без договора, обеспечивающего свободу слуги, и 7) женитьбой на рабе без такового же договора. Полный холоп не только сам зависел от своего государя, как назывался владелец холопа в древней Руси, и от его наследников, но передавал свою зависимость и своим детям. Право на полного холопа наследственно, неволя полного холопа потомственна. Существенной юридическою чертою холопства, отличавшею его от других, некрепостных видов частной зависимости, была непрекращаемость его по воле холопа: холоп мог выйти из неволи только по воле своего государя» (103, 154).
Тяжелейшие условия тогдашней русской жизни зачастую заставляли людей продаваться в холопы (то есть, по существу, в рабство), чтобы спасти себя и своих близких от голодной смерти. Владелец холопа («государь»), распоряжаясь им по своему усмотрению, мог даже безнаказанно убить его. Однако такие случаи, вероятно, были редкими. Убивая холопа, хозяин наносил себе материальный ущерб и подвергался церковной епитимье, так как холоп-соотечественник при всем прочем был единоверцем. Лишая холопа самостоятельности, хозяин должен был заботиться о его пропитании, оказывать ему в той или иной форме свое покровительство. Все это порой создавало особого рода добродушно-патриархальные отношения между холопами и господами. И все же гораздо чаще рабская суть холопства отзывалась самодурством и жестокостью одних, униженностью и полным бесправием других. (Этот нюанс тонко почувствовали новгородцы, возмутившиеся, когда Иван III вдруг стал называть себя их «государем».)
Психология рабовладельца и психология раба в своих основах близки. Рабовладельцы по отношению к своим холопам, московские великие князья (до Ивана III) были в то же самое время холопами по отношению к «вольному царю» — хану Золотой Орды.
Иван III перестал гнуть спину перед Ордой. (При этом он еще долго разговаривал с татарскими ханами с привычными интонациями самоуничижения.) Однако изменить прежние стереотипы поведения по схеме «раб — господин» он не мог, да и не считал нужным. «Государь всея Руси» попросту присвоил себе все то деспотическое понимание верховной власти, которое присуще было степному сообществу.
Причины такой метаморфозы заключались не только (и, может быть, не столько) в его личном властолюбии, но и в объективных потребностях общественного развития. Московское государство сложилось в XIV–XV веках под сильным давлением внешнего фактора — необходимости борьбы с ненавистной для всех слоев общества властью чужеземцев. Внешняя угроза способствовала ускоренной консолидации русских земель под эгидой Москвы, которая сумела делом доказать свою решимость освободить страну от «насилия бесерменского». Однако социально-экономическая основа Московского государства была весьма слабой. Практически отсутствовали такие устои политического единения, как сильные города с многочисленным торгово-ремесленным населением и развитое дворянское сословие — надежная опора центральной власти в ее борьбе со своеволием крупной аристократии. Поддержка церкви — не всегда последовательная и далеко не бескорыстная — не могла компенсировать эту слабость московской политической системы. В условиях господства натурального хозяйства и абсолютного преобладания вотчинной формы землевладения достигнутое московскими Даниловичами политическое объединение страны было весьма хрупким и эфемерным. Феодальная война второй четверти XV века наглядно показала, сколь сильно зависит московское процветание от всякого рода исторических случайностей: малолетства наследника престола, неудачной войны с татарами, неосмотрительно составленного великокняжеского завещания.
Успешное завершение двухвековой борьбы за независимость в 1480 году вполне могло стать «лебединой песней» Москвы. Отныне то, во имя чего русское общество вынуждено было так или иначе мириться с диктатурой Даниловичей, стало вчерашним днем. Стремление освободиться от этой тяжелой власти неизбежно должно было возрасти. В этих условиях «на первый план резко выдвинулись задачи упрочения, цементирования нового политического формирования, в котором по-прежнему общество оставалось внутренне рыхлым, непрочным…» (120, 559).
Иван Великий искал новые скрепы для наспех сколоченного Московского государства. В области социально-экономических отношений такими скрепами призваны были стать горожане, о благополучии которых Иван неизменно проявлял заботу, и дворянство, которое он, по сути дела, создал из праха. Насильственно превращая вотчины среднерусских князей и бояр в поместья, раздавая конфискованные латифундии новгородской знати своим новоиспеченным дворянам, Иван ткал множество невидимых нитей, притягивавших провинции к Москве. Дворяне-помещики беспрекословно подчинялись своему государю, способному в любую минуту отобрать поместье, а значит — оставить их без средств к существованию. Полагают, что в экономическом отношении дворянское поместье было менее эффективной формой организации крестьянского труда, нежели боярская или монастырская вотчина (120, 481). Однако здесь, как это часто бывало в истории России, экономика была принесена в жертву политическим целям.
В области политических отношений распаду Московской Руси на составные части должен был помешать свирепый деспотизм. Любое сопротивление державной воле государя отныне рассматривалось как государственное преступление и влекло за собой суровое наказание. Укреплению московского самодержавия способствовали и почти непрерывные войны, которые Иван III вел с Литвой, Большой Ордой, Ливонским орденом и Швецией. Война создавала ощущение того, что внешняя угроза (а стало быть, и необходимость жертвовать внутренней свободой во имя независимости) отнюдь не исчезла. Авторитарная манера управления страной, необходимая для победы над врагом, постепенно становилась привычной. Чувство собственного достоинства притуплялось беспрекословностью военной дисциплины.
Разумеется, любая война должна была вестись во имя «великой цели». Там, где речь шла о защите московских земель от вражеских нападений, особых теорий не требовалось. Однако большинство войн Ивана III были уже не оборонительными, а наступательными. Для их освящения требовались краткие, понятные самым незатейливым умам религиозно-политические идеи. Религиозной составляющей новой «великой цели» стала война за веру, против «бесермен», «еретиков» или «вероотступников». Другая, «мирская» составляющая сводилась к требованию возвращения московскому государю всей его наследственной исторической «вотчины», частью которой он в принципе мог объявить все, что когда-либо находилось под властью князей из династии Рюриковичей. С полной отчетливостью Иван сформулировал этот тезис во время переговоров с Литвой в 1503–1504 годах (126, 172).
(Справедливость требований о возврате того, что два или три века назад принадлежало чьему-то прапрадедушке, а после его банкротства «пошло по рукам», с точки зрения здравого смысла вызывает большие сомнения. Понятно, что историческая мифология, поставленная на службу политике, не терпит вмешательства здравого смысла. Но как забавно бывает слушать иных современных историков, с серьезным видом повторяющих эти рассуждения! В публичной политике справедливостью обычно называют целесообразность. Война соответствовала целям Ивана III, главной из которых было укрепление Московского государства, неприметно переросшего в единое Российское государство. Само по себе это государство нельзя назвать «справедливым» или «несправедливым». Оно, как всякое великое государство, росло органически, подобно дереву или кусту. Его ветки тянулись в том направлении, где было пространство, солнце и тепло. Наталкиваясь на препятствие, оно либо преодолевало его, либо меняло направление своего развития.)
Глядя из будущего, можно спорить о том, какие «плюсы» и «минусы» принесло тем или иным регионам включение их в состав Московского государства. Однако такого рода вопросы, конечно, менее всего волновали самого государя. Он делал свое дело: строил государство из того материала, который был под руками. Это был его жребий, его предназначение, определенное свыше. И сам себя он судил как добросовестный мастеровой: по результатам своей работы. При этом он был уверен, что Бог внимательно и одобрительно следит за его работой. В его ушах звучали грозные слова пророка Иеремии: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48, 10).
Но вернемся к вопросу об утраченной свободе. Холопство великого князя перед ханом сменилось холопством всех перед великим князем. (При этом допускалась и такая ситуация, при которой знатный человек волею обстоятельств превращался в холопа в прямом смысле. Только в 1550 году было запрещено обращать в холопов «детей боярских», то есть дворян.) «Холопами» по отношению к государю стали именовать себя все подданные «государя всея Руси» сверху и до самого низа общественной лестницы. В обращении к Ивану III его придворные именовали себя «холопами» и писали свое имя в уменьшительно-уничижительной форме. Один из ранних примеров такого рода — грамота муромского наместника князя Федора Хованского (осень 1489 года). Гедиминович, близкий родственник фаворитов государя князей Патрикеевых, Хованский обращается к Ивану III так: «Государю великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии холоп твой, государь, Феодорец Хованский челом бьет» (10, 81). Два года спустя встречаем ту же фразу в грамоте к Ивану III князя Василия Ромодановского: «А яз тебе своему государю холоп твой челом бью…» (10, 114). Вскоре такое обращение становится нормой.
«Все они называют себя холопами, то есть рабами государя, — свидетельствует С. Герберштейн. — Те, кто познатнее, имеют рабов, чаще всего купленных или взятых в плен. Те же свободные, которых они содержат в услужении, не могут свободно уйти, когда им угодно. Если кто-нибудь уходит против воли своего господина, то его никто не принимает. Если господин обходится нехорошо с хорошим и умелым слугой, то он начинает пользоваться дурной славой у других и не может после этого достать других слуг.
Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе. Ведь по большей части господа перед смертью отпускают иных своих рабов на волю, но эти последние тотчас отдают себя за деньги в рабство другим господам…» (4, 112).
Эту новую «холопскую» систему отношений — как полагают, вполне оправданную и исторически неизбежную — пришлось создавать на костях недовольных. Ее строительство заняло несколько десятилетий. Но уже Иван Грозный, окончив дело, изобразил его в своей чеканной формуле: «А жаловати есмя своих холопей волны, а и казнити волны же есми были» (15, 40). Иными словами, жизнь и свобода каждого — собственность государя. Он волен распоряжаться ими по своему усмотрению.
Холопство как сложная и многогранная система выросло на русской почве и было порождено главным образом общей бедностью страны, слабым развитием городской жизни, тяжелыми природно-климатическими условиями. Однако не обошлось и без дурного примера Орды. Татарские ханы вынуждены были решать задачи, во многом сходные с теми, которые стояли перед строителями Московского государства. Соответственно и системы общественных отношений оказались в значительной мере «совместимыми».
Наши летописи деликатно умалчивают о том, как вели себя в ханской ставке прибывавшие туда со всех концов вассалы. Однако описания иностранных послов, побывавших в Орде, позволяют составить об этом некоторое представление.
Бродившая по вольным степям Орда была проникнута духом раболепия. Вот, например, что увидел Иосафат Барбаро в ставке одного из татарских правителей — хана Кичик-Мехмеда (1435–1465): «Мы отправились к ставке царевича, которого нашли под шатром и в окружении бесчисленных людей. Те, которые стремились получить аудиенцию, стояли на коленях, каждый в отдалении от другого; свое оружие они складывали вдалеке от царевича, на расстоянии брошенного камня. Каждому, к кому царевич обращался со словами, спрашивая, чего он хочет, он неизменно делал знак рукой, чтобы тот поднялся. Тогда проситель вставал с колен и продвигался вперед, однако на расстояние не менее восьми шагов от царевича, и снова падал на колени и просил того, чего хотел. Так продолжалось все время, пока длился прием» (2, 144).
Записывая еще свежие воспоминания о временах Ивана Великого (именно так он называет, согласно московской традиции, Ивана III), С. Герберштейн замечает: «Впрочем, как он ни был могуществен, а все же вынужден был повиноваться татарам. Когда прибывали татарские послы, он выходил к ним за город навстречу и стоя выслушивал их сидящих. Его гречанка-супруга так негодовала на это, что повторяла ежедневно, что вышла замуж за раба татар, а потому, чтобы оставить когда-нибудь этот рабский обычай, она уговорила мужа притворяться при прибытии татар больным…» (4, 68).
Об унижении московских князей перед татарами рассказывает и писатель середины XVI века Михалон Литвин: «Прежде москвитяне были в таком рабстве у заволжских татар, что князь их наряду с прочим раболепием выходил навстречу любому послу императора и ежегодно приходящему в Московию сборщику налогов за стены города и, взяв его коня под уздцы, пеший отводил всадника ко двору. И посол сидел на княжеском троне, а он сам коленопреклоненно слушал послов. Так что и сегодня заволжские и происшедшие от них перекопские татары называют князя москвитян своим холопом, то есть мужиком. Но без основания. Ведь себя и своих людей избавил от этого господства Иван, дед того Ивана сына Василия (Ивана IV Грозного. — Н. Б.), который ныне держит в руках кормило власти…» (8, 77).
В Судебнике 1497 года холопам посвящен целый ряд статей. Главная из них — статья 66. Она перечисляет основные источники холопства: «О ПОЛНОЙ ГРАМОТЕ. По полной грамоте холоп. („Полная грамота“ — документ о покупке холопа, соответствующим образом засвидетельствованный местными властями. — Н. Б.). По тиунъству и по ключю по сельскому холоп з докладом и без докладу, и с женою и с детьми, которые у одного государя; а которые его дети у иного (хозяина. — Н. Б.) или себе (особо. — Н. Б.) учнут жити, то не холопи; а по городцкому ключю не холоп; по робе холоп, по холопе роба, приданой холоп, по духовной холоп» (48, 62).
Понятие «сельский ключ» и «городской ключ» означало службу в качестве ключника в вотчинном хозяйстве или на городском дворе. Поскольку обладание ключом давало доступ к тем или иным материальным ценностям, то возникал и соблазн их хищения. Остановить вороватого ключника должен был страх наказания. Превращая ключника в холопа, закон тем самым отдавал его в полную власть своему господину. Соответственно, господин сам мог определять меру наказания в случае воровства. Кроме того, сам характер отношений между господином и холопом, зачастую весьма доверительных и патриархальных, должен был воспрепятствовать злоупотреблениям обладателя заветного ключа.
Эти нормы известны были еще со времен Киевской Руси. Судебник Ивана III освобождает городского ключника от обязательного превращения в холопа.
«Это показательно — и на Руси, как и в Европе, развивались городские отношения, складывался новый облик горожанина — свободного (разумеется, в феодальном смысле) человека» (52, 195). Данное новшество можно, конечно, истолковать и как свидетельство подъема городов. Однако в целом распоряжения Судебника относительно холопов явственно обнаруживают иную тенденцию: стремление хотя бы отчасти ограничить рост числа холопов, которые в фискальном отношении были для государства «потерянными людьми». Они не несли главной государственной повинности — «государева тягла».
Иван III обещает свободу холопам, попавшим в плен к татарам и сумевшим бежать обратно на Русь. Он требует строгого соблюдения установленной процедуры при покупке холопа. Ее нарушение влечет за собой признание всей сделки недействительной. Круг административных лиц, имеющих право на регистрацию подобных сделок, существенно сужается. Здесь, как и во всех остальных статьях Судебника, интересы государства поставлены во главу угла.
Судебник тщательно регламентирует всякого рода судебные пошлины и запрещает судьям брать взятки («посулы»), получение которых прежде считалось обычным явлением, естественным вознаграждением судьи за его труд. (Статья 67. «Да велети прокликатъ по торгом на Москве и во всех городех Московские земли и Новогородцкие земли и по всем волостем заповедати, чтобы ищея fистец. — Н. Б.) и ответчик судиам и приставом посулу не сулили в суду, а послухом (свидетелям. — Н. Б.) не видев не послушествовати, а видевши сказати правду. А послушествует послух лживо не видев, а обыщется то опосле, ино на том послухе гибель (стоимость проигранного в суде имущества. — Н. Б.) исцева вся и с убыткы (судебные пошлины. — Н. Б.)») (48, 62).
Борьба с мздоимством была, конечно, делом крайне сложным. С. Герберштейн применительно ко времени Василия III делает на сей счет следующее замечание: «Хотя государь очень строг, тем не менее всякое правосудие продажно, причем почти открыто. Я слышал, как некий советник, начальствовавший над судами, был уличен в том, что он в одном деле взял дары и с той, и с другой стороны и решил в пользу того, кто дал больше. Этого поступка он не отрицал и перед государем, объяснив, что тот, в чью пользу он решил, человек богатый, с высоким положением, а потому более достоин доверия, чем другой, бедный и презренный. В конце концов государь хотя и отменил приговор, но только посмеялся и отпустил советника, не наказав его. Возможно, причиной столь сильного корыстолюбия и бесчестности является сама бедность, и государь, зная, что его подданные угнетены ею, закрывает глаза на их проступки и бесчестье как на не подлежащие наказанию. У бедняков нет доступа к государю, а только к его советникам, да и то с большим трудом» (4, 120).
Таково было положение дел в правление Василия III. Вряд ли оно сильно отличалось от того, которое существовало при Иване Великом.
В Судебнике Иван III обязывает своих бояр не уклоняться от исполнения зачастую хлопотных и отнимающих много времени обязанностей судьи. Но при этом к участию в суде он требует привлекать и представителей местного самоуправления. (Статья 38. «А бояром или детем боярским, за которыми кормления с судом с боярским, имутъ судити, а на суде у них быти дворъскому, и старосте и лутчимъ людем. А без дворского, и без старосты, и без лутчих людей суда наместником и волостелем не судити…») В этом новшестве открывалась далекая перспектива: в XVI столетии расширение прав местного самоуправления становится действенным оружием монархии в ее борьбе с произволом бояр-наместников — этих всесильных и своекорыстных «губернаторов» Московской Руси.
В Судебнике 1497 года причудливо переплетаются самые противоречивые тенденции. Однако их общим знаменателем являются порою глубоко скрытые интересы и настроения самого государя. Упорядочивая систему суда, Иван III в то же время делает ее более жестокой. Судебник вводит в процесс дознания пытки особо опасных преступников. (Статья 34. «А которому дадут татя (грабителя. — Н. Б.), а велят его пытати, и ему пытати татя безхитростно, а на кого тать что взговорит, и ему то сказати великому князю или судии, которой ему татя дасть, а клепати (оклеветать. — Н. Б.) ему татю не велети никого…»)
Судебник не раскрывает характера этих пыток. Однако об этом подробно рассказывает С. Герберштейн: «Они строго применяют меры правосудия против разбойников. Поймав их, они первым делом разбивают им пятки, потом оставляют их на два-три дня в покое, чтобы пятки распухли, а затем разбитые и распухшие пятки велят терзать снова. Чтобы заставить преступников сознаться в грабеже и указать сообщников злодеяний, они не применяют никакого иного рода пыток. Если призванный к допросу окажется достойным казни, то его вешают. Другие казни применяются ими к преступникам редко, разве что они совершили что-нибудь слишком ужасное.
Воровство редко карается смертью, даже за убийство казнят редко, если только оно не совершается с целью разбоя. Если же кто поймает вора с поличным и убьет его, то остается безнаказанным, но только при том условии, что он доставит убитого на государев двор и изложит дело, как оно было…
Немногие из начальников имеют власть приговаривать к смертной казни. Из подданных никто не смеет пытать кого-либо. Большинство злодеев отвозится в Москву или другие главные города. Карают же виновных по большей части в зимнее время, ибо в летнее этому мешают дела военные» (4, 118).
Для закоренелых преступников («ведомых лихих людей») устанавливается смертная казнь. Та же участь уготована «государскому убойце (холопу, убившему своего господина. — Н. Б.) и коромолнику (государственному преступнику, мятежнику. — Н. Б.), церковному татю (похитителю церковного имущества. — Н. Б.), и головному (похитителю людей. — Н. Б.), и подымщику (зачинщику мятежа. — Н. Б.), и зажигалнику (поджигателю. — Н. Б.)» (статья 9). Вор, впервые пойманный на краже, приговаривается к «торговой казни» — публичному битью кнутом на торговой площади.
В этом ожесточении законодателя угадывается ответная реакция на рост преступности и особенно — тяжких ее форм. Не случайно именно Иван III вынужден был для прекращения грабежей установить на улицах Москвы решетки, которые в ночное время запирались и охранялись крепкими караулами (4, 132).
Судебник Ивана III подтверждает правомерность весьма архаического института «Божьего суда». Его конкретной формой признается судебный поединок — так называемое «поле». Истец и ответчик в присутствии официальных лиц вступают в боевую схватку. Им разрешается использовать любые виды оружия, кроме лука и пищали. Победитель признается правым и в судебной тяжбе. В случае невозможности для одной из сторон лично участвовать в поединке (женщина, старик, инвалид, несовершеннолетний) закон разрешает нанимать профессионального бойца. В таком случае и другая сторона обычно обращалась к услугам профессионалов. Судебный поединок постепенно превращался в схватку двух наемных гладиаторов. (Церковь осуждала судебные поединки. Известно, что митрополит Фотий (1408–1431) запрещал священникам давать причастие тем, кто собирался вступить в такой поединок. За убийство, совершенное во время поединка, полагалось отлучение от церкви. Убитого на «поле» не разрешалось хоронить как христианина (46,518).)
Судебник 1497 года подтверждает старинное правило, согласно которому проступки церковных людей должен судить их епископ. (Статья 59. «А попа, и диакона, и чернъца, и черницу, и строя, и вдову, которые питаются от церкви Божиа, то судить святитель или его судия. А будет простой человек с церковным, ино суд вопчей…») Однако на деле великий князь и его наместники нередко нарушали это положение. Говоря о лице духовного звания, С. Герберштейн замечает: «Если же его обвиняют в краже или пьянстве или если он впадает в какой-нибудь иной порок такого рода, то подвергается каре суда мирского, как они выражаются. Мы видели, как в Москве пьяных священников всенародно подвергали бичеванию; при этом они жаловались только на то, что их бьют рабы, а не боярин.
Несколько лет назад один наместник государев велел повесить священника, уличенного в краже. Митрополит пришел по этому поводу в негодование и доложил дело государю. Призвали наместника, и он ответил государю, что по древнему отечественному обычаю он повесил вора, а не священника. И после этого наместника отпустили безнаказанным…» (4, 90).
Вмешательство великого князя в юрсдикцию церковных властей, жестокие кары духовных лиц стали обычным явлением уже при Иване III. Под 6996 годом (1 сентября 1487 — 31 августа 1488 года) летопись сообщает: «Тое же зимы бита попов новугородских по торгу кнутьем, приела бо их из Новагорода к великому князю владыка Генадей, что пьяни поругалися святым иконам; и посла их опять ко владыце. Тое же зимы архимандрита Чюдовского били в торгу кнутьем, и Ухтомского князя, и Хомутова, про то, что сделали грамоту на землю после княжи Ондреевы смерти Васильевича Вологодского, рекши: дал к монастырю на Каменое къ Спасу» (18, 238). Подделка грамоты удельного князя Андрея Васильевича Вологодского стала основанием для торговой казни даже не рядового попа, а настоятеля придворного Чудова монастыря. А между тем по тогдашнему закону светский суд был полномочен в отношении духовных лиц только в случае, если они замешаны в разбое или «душегубстве». Но в этом-то и специфика любого законодательства в условиях самовластия: оно действует до тех пор, пока не вступает в противоречие с интересами верховной власти. «Государь всея Руси» одной рукой писал законы, а другой сам же их нарушал…
Самая знаменитая статья Судебника 1497 года — «О ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ». Во всех изданиях памятника она помещена под номером 57. С этой 57-й статьи берет свое начало общерусская система крепостного права.
Текст статьи краток: «А христианом (крестьянам. — Н. Б.) отказыватися из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет за ким год, да пойдет прочь, и он платит четверть двора, а два года поживет да пойдешь прочь, и он полдвора платит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а четыре года поживет, и он весь двор платит» (48, 61).
Итак, право крестьян «отказываться», то есть законным образом уходить от землевладельца, на земле которого они живут, ограничивается двумя неделями: с 19 ноября по 3 декабря. Перед уходом они должны уплатить прежнему владельцу определенную фиксированную сумму — «пожилое». Временем перехода назван известный церковный праздник — осенний «Георгиев (Юрьев) день». Этот срок избран был с глубоким смыслом. Он имел хозяйственную целесообразность, так как именно к середине ноября завершались все летние и осенние дела крестьянина. В это время крестьянин, заполнив закрома, был более чем когда-либо доволен жизнью и, соответственно, не склонен к ее перемене.
Введение Юрьева дня как единственного времени для перехода крестьян от одного землевладельца к другому многие историки считают важным моментом в истории крепостного права. Следовательно, Иван III может претендовать на роль кузнеца, сковавшего первое звено той «цепи великой», на которой вплоть до 1861 года самодержавное государство держало большую часть русского крестьянства. Впрочем, некоторые историки видят в решении Ивана III лишь упорядочение уже существовавших в русских землях различных временных ограничений для крестьянского перехода: «„Новизна“ Судебника только в том, что вместо разных сроков в разных местностях… он устанавливал единый срок для всей Русской земли. Это не усиление закрепощения. Это еще одно подтверждение достигнутого политического единства страны» (52, 195).
Примечательно, что Судебник ничего не говорит о том, кто и как должен наказывать крестьянина, если он все же решится уйти от своего землевладельца, не уплатив «пожилое» или нарушив установленный срок. Очевидно, государство отдавало все это на откуп самому землевладельцу, который должен был решать вопрос методом полюбовного соглашения с нарушителем. Разыскать его не составляло особого труда: переходы совершались как правило в пределах одной округи. Лишь сто лет спустя государство сочло возможным взять на себя розыск беглых, а срок давности по этому преступлению был установлен в 5 лет.
И все же 57-я статья Судебника свидетельствует о могуществе Ивана III не менее, чем его громкие военные успехи. Об ограничении права крестьянского перехода определенными сроками до появления Судебника известно лишь для некоторых регионов. Теперь эта практика становилась общерусской. Иван счел себя вправе и в силе распоряжаться целым сословием в пределах всей своей «вотчины». Такого рода узаконение было исторически значимым и неизбежно потребовало для своего выполнения развития действенного аппарата власти.
Установленный Иваном III общерусский «Юрьев день» продержался почти целое столетие и был отменен лишь под давлением чрезвычайных обстоятельств — тяжелого социально-экономического кризиса, охватившего страну в конце XVI века. Он играл роль естественного регулятора норм эксплуатации в частновладельческих землях. Не желая лишиться своих крестьян, помещики вынуждены были соизмерять свои притязания с их возможностями. Однако и крестьяне должны были хорошенько подумать, прежде чем, раскошелившись на изрядную сумму «пожилого», пуститься в странствие по унылым и безлюдным ноябрьским дорогам. В системе Юрьева дня Иван III нашел устойчивый баланс интересов земледельцев и землевладельцев. Нарушение этого баланса не могло остаться безнаказанным. Отмена «Юрьева дня» Иваном Грозным (или его сыном царем Федором Ивановичем) стала глубинной причиной социально-политических катаклизмов Смутного времени.
Сам Иван III, кажется, очень гордился своим законодательством. Это и понятно. Ведь согласно Библии, установление хороших законов является главной обязанностью царя. «Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды…» (Исайя, 32:1). Этим занимались все великие правители древности от — Моисея до Соломона и от Константина Великого до Юстиниана.
Поднаторевшие в искусстве тонкой лести, восточные правители тут же воспользовались этими настроениями государя. В послании к Ивану III, написанном летом 1498 года, крымский хан Менгли-Гирей от имени Ахмета, одного из сыновей султана Баязида, просит вернуть имущество, конфискованное за какую-то вину у турецкого купца Кортемира в Москве. По уверениям хана, купец был осужден несправедливо. Хан передает Ивану слова Ахмета: «Того великого князя Иваново доброе имя слышим, правосудом его зовут» (10, 269). А три года спустя правитель Кафы Мухаммед в послании к Ивану III так передает отзыв о нем своего отца султана Баязида: «Ино отец мой Баазит хан рек: для моего приятеля, для князя Иоана великого, абы есте узяли с них (русских купцов. — Н. Б.) половину мыта…» (10, 392).
Величая Ивана III «Правосудом», Менгли-Гирей, несомненно, намекал на только что завершенный великим князем труд — Судебник 1497 года. Называя его «великим», султан Баязид подразумевал уже не титул «великий князь», а историческое величие деяний московского государя.
ГЛАВА 16 Палач