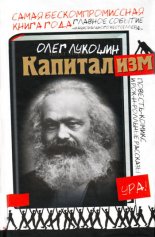Важнейшее из искусств Волков Сергей

Когда шандарахает, соображалка отключается, поэтому я, недолго думая, в два шага разбежался и прыгнул на пятящегося мертвяка, все еще продолжающего выворачиваться туда и обратно. Так и сиганул: в одной руке палка, в другой – бутылка. Обхватил его палкой, зафиксировав второй конец ее согнутой в локте рукой, в которой была бутылка.
Мертвяк прыгнул вместе со мной.
– В Город! – заорал я во весь голос. – К Хозяевам!… Быстро!… Одна нога – здесь, другая… У-о-у-а-оу-у-у-! У-я-я-я!…
Это был не ожог огня или раскаленной сковороды, от которого можно убежать или отпрыгнуть, это был химический ожог (во – слово вспомнил, каких в лесу не бывает), каким жгут кислоты и щелочи, – въедливый, мерзкий, разлагающий плоть. Видимо, в первый момент я этого не почуял, потому что одежда растворялась.
Потом мне рассказали, что от моего ора лягушки попрыгали в болото, птицы заткнулись, листья задрожали, а некоторые осыпались с ветвей.
– Слезай с него, Молчун!… Брось его! – кричали мне вслед, когда мертвяк ринулся в заросли, ловко лавируя в них.
– Молчу-у-ун! Вернись! – Это Навин голос. – Кто ж меня защищать будет без тебя-а?!
Я не понял, что она мне кричит, но, услышав ее голос, инстинктивно отреагировал на него.
– Стой, мразь! – зарычал я на мертвяка.
И, не ощущая его реакции, ткнул бутыль горлышком туда, где, по моим расчетам, должна была быть щель, обозначающая рот. И опрокинул ее, чтоб лилось. Мертвяк словно споткнулся, остановился и задрожал, выворачиваясь. Я свалился с его спины без сознания, как насосавшаяся пиявка. Только насосался неимоверной боли. Болевой шок и сделал свое дело.
Как мне рассказали потом, все по очереди и неоднократно, мертвяк превратился в кисель гнойного цвета и утонул в болоте, а меня сначала долго вымачивали в ручье, чтобы растворить яд мертвяка, а потом соорудили из веток носилки и тащили обратно в деревню.
– Такая у тебя судьба, Молчун, – объясняла мне дома Нава. – С того места не на своих ногах уходить. Ты больше не ходи туда, Молчун! Нехорошее там для тебя место. И голоса какие-то дурацкие глупости всякие говорят…
Но это было потом, которое после бредового беспамятства началось для меня традиционно… с хлюпанья и чавканья с причмокиванием и доскребыванием деревянной ложки по деревянному горшку. Я лежал, не раскрывая глаз, и мне казалось, что их не стоит раскрывать. Потому что я их раскрывал уже тысячи раз и каждый раз видел скрюченного Старца, хищно склоненного над горшком. Он шмыгал носом и всхрапывал, заглатывая содержимое ложки, а потом булькал нутром.
– Ну, что веками дрожишь? – скрипучим голосом заговорил он, засунув в рот очередную порцию. – Я ж вижу, что не спишь. Все притворяются, что спят, когда я прихожу, а я вижу, что не спят, потому что спящий человек совсем по-другому дышит, чем человек проснувшийся. Он во сне забывает тишину соблюдать: храпит, сопит, булькает, стонет, пукает, а проснувшийся пытается сделать вид, что его и нет тут, – все равно что он, что корыто в углу. Думает, что старик ничего не заметит и говорить с ним не станет. Никто не хочет со стариком разговаривать, а зря – вам, молодым, никогда не узнать того, что я еще с трудом помню… Вон и Нава твоя в другом углу на лежанке валяется и тоже делает вид, что спит. Тоже стариком пренебрегает, а что она мной пренебрегает, если даже с мужем на одной лежанке не спит?! Как же она собирается с тобой детей заводить, если на другой лежанке спит? По воздуху, что ли, через дыхание?… Знаю, что без памяти был. Так кто сейчас с памятью? Это раньше люди попадались, которые о прошлом рассказывали… Стало быть, помнили… Я вот еще остался – помню, что мне дед рассказывал, а вы все беспамятные – только бы вам языком пустоту молоть, а что раньше было, вас не интересует, и что с другими людьми было, вам как плевок по ветру. Вот ты, Молчун, такую глупость учинил – на мертвяка прыгнул. А разве ты не слышал, что мертвяки мужиков обжигают, до смерти могут обжечь! Тоже загадка: девок почему-то не обжигают, хотя теми же руками хватают, на той же спине несут или к той же груди прижимают, а мужиков до смертных ожогов жгут! Где справедливость?… А если бы ты, Молчун, прислушивался к тому, что другие люди говорят, то тебе бы и в голову не пришло на мертвяка прыгать, потому что смысла нет, глупость чистая… То, что ты в Город надумал, – это правильно, только в Городе еще могут помнить и знать, что к чему и почему, а в деревне давно забыли и знать не хотят. А может, и хотят, но уже не умеют… Какая-то похлебка у тебя, Нава, недобродившая, – посетовал он вдруг.
– А ты подождал бы, пока добродит, а потом хлебал, – не выдержала Нава молчания и несправедливых обвинений.
– А старый человек уже и нюхом, и зрением ослаб, не разобрал, а ты, хозяйка, предупредить должна была, предостеречь, чего другого предложить… Эх-хе-хе… И старый пень пользу приносит, только никто этого признавать не хочет…
А в Город, Молчун, надо ножками идти, а не на чужую спину норовить забраться… Правды ить достичь надо, а достижение – это путь, а путь – это где идут… Как встанешь на ноги, так и шагай ими в Город… Вот раньше, мне прадед рассказывал, в Городе Главный Нуси был, он собирал младших нуси по деревням и учил их уму-разуму. А разум в том, что все едино – лес, люди, звери, небо… Все нужны друг другу, и если кому-то плохо делаешь, то делаешь плохо сам себе… Ты – часть леса, и лес – твое все. Лес не обвиняет и не призывает – он живет, и все должны жить, как он. Нет, не должны, потому что никто никому ничего не должен, а живет так, как живет. Брать можно только то, что лес тебе дает. Сам. Нельзя хотеть больше, чем он тебе дает… Тогда еще знали слово «нельзя»… Это сейчас его забыли. Я всем объясняю, что нельзя – это то, что вредно, а не то, что запрещено. Лес не запрещает, лес живет. А если ты в нем живешь так, как нельзя, то себе вред наносишь… Я потому и не понимаю, почему мертвяки женщин воруют, – это же вред для людей, а значит, и для леса, потому что люди – тоже лес. Может быть, когда исчезли нуси, а остались одни старосты по деревням, мы перестали понимать лес?… В нем что-то происходит, а мы не понимаем и делаем то, что нельзя, то есть вредно.
– Для кого вредно, старик? – не выдержал я.
– Я ж говорил, что не спишь, – довольно отметил старик, прожевывая то, что и жевать не обязательно. – Правильно не спишь, потому что вредно спать, когда тебе правду рассказывают, которой ты дознаешься. А пешком до правды дойти ты еще не скоро сможешь, сдуру-то повредил свои ходилки… Теперь небось и детишек Наве скоро сделать не сможешь, если вообще когда-нибудь сможешь. У тебя ж промеж ног вся кожа сгорела. Как там мужской корень, не сгорел?… Эй, Нава, как у него корешок-то?
– Не беспокойся, старый, на месте и в порядке! Я его первым делом лечить стала. Да он меньше остального и пострадал, потому что Молчун ногами мертвяка оседлал, а причинное место назад отклячено было.
– Ну, это хорошо, что отклячено, это полезно. Подлечится и детишек тебе сделает, без детишек нельзя, потому что вредно, а вредно потому, что род людской пресечется без детишек… И что ж это у тебя, Нава, похлебка такая недобродившая? У меня же теперь в пузе бурчать будет.
– А ты бы не ел то, что не готово, – откликнулась со своей лежанки Нава. – Мне сейчас не до готовки.
– Могла бы и о старике подумать, – вздохнул он. – Эх-хе-хе, никто о старике думать не хочет… Обмельчал народ… Великий Нуси учил, мне дед (или прадед?) рассказывал: «Говори только то, что думаешь», а сейчас думают только то, что говорят…
«Ох, до чего же прав старик!» – молча воскликнул я.
– Он говорил, – продолжал вещать старик, скребя ложкой по пустому дну: – «Делай то, что хочешь делать»… Я хочу кушать – хожу и кушаю. А если вам жалко, вы скажите – я к вам приходить не буду. Я ж не просто так к вам хожу, я вас уму-разуму учу. Меня не будет, кто ж вас научит? Мне ж не похлебка ваша недобродившая нужна и не каша, в лесу полно пропитания – полил бродилом землю, и можно есть, потому что я знаю, какую землю поливать, чтобы есть можно было. Мне вы нужны, потому что у меня никого нету. Вот от вас к Колченогу пойду, у него старуха совсем плоха стала, когда дочку воры украли. Коченогу уже на нее терпежу не хватает, а я посижу, пошамкаю, что найду, да и послушаю бедную женщину, а то и сам найду что сказать. Лес шелестит – жизнь продолжается. Вы оба в деревне чужаки, а для меня уже не чужаки, потому что кормите меня… Ладно, есть у вас больше нечего, пойду к Колченогу.
Ушел, как обычно бормоча что-то под нос.
Нава поднялась и молча подошла к моей лежанке, чем меня насторожила и даже напугала. Молчащая Нава – это как сухая вода: физически осуществимо, но в нормальной жизни не встречается. Так же молча легла с краешку и ухватилась рукой за меня, чтобы не упасть, – узко было с краешку-то. Я подвинулся к стенке и расслабился – мне казалось, что любое прикосновение ко мне – источник боли, но боли не было. Вылечила меня моя спасительница и на этот раз. Не повезло ей с му… со мной, с мужиком в доме. Не мужик, а мука мученическая, мутота мумукающая…
От ее тела исходило приятное, нежное тепло, которое проникало в меня, как вода в иссушенный песок. Хотелось растечься вместе с этой водой между песчинками и тихо-тихо испаряться. Растекся и испарился.
Уж не знаю, сколько времени прошло, пока я конденсировался обратно.
– Все, Молчун, – объявила мне Нава, – больше ты столько спать не будешь. Я тебе сон-травы пить давала, чтобы ты кожу свою не напрягал шевелениями. Во сне заживление быстрей идет и чесаться не вспоминаешь. Я ж знаю, как при ожогах зудит. А чесаться нельзя, вредно, как говорит старик. А теперь все зажило. Теперь тебе опять учиться ходить надо.
– Думаешь, разучился?
– А вот и посмотрим… Давай руку!
Я протянул и обратил внимание на кожу – она была розовенькая и тонкая, как у младенца, полупрозрачная. Где ж я видел кожу младенцев?…
Нава поймала мою руку и с серьезным видом принялась тянуть меня с лежанки, приговаривая:
– Вот сейчас мы встанем и походим. Мы долго лежали, и наше тело немножко разучилось ходить, но мы его быстро научим, потому что оно просто немножко забыло, а раньше умело. Надо только сил набраться, и все у нас получится…
Я сел, потом, опираясь на палку, стоявшую в изголовье лежанки, с опаской поднялся. Ноги, увы, чувствовали себя не слишком уверенно, хотя сразу я все-таки не рухнул: Нава плечо мне под мышку подставила, и палка давала упор. Что за напасть на меня такая противоходильная навалилась?…
Постояли, пошатались. Я старался не слишком давить на девочку, но она сама задирала вверх плечо, принимая на него тяжесть. И пыхтела, посапывала от усердия.
– Пошли, – предупредил я, собравшись с духом.
Сделали шаг. Устоял, хотя и с трудом, не позволил ногам разъехаться. Думаю, что это все не только от мышечного бессилия, а и от сонного зелья, коим меня лекарка моя пичкала. Очистится организм, и умение вернется.
Мы прошли до порога и обратно, и я с чувством честно сделанной работы опустился на лежанку, страхуемый Навой.
– Молодец, Молчун, – похвалила она. – Отдохнешь, еще походим. Ногами ходить надо, а если не ходить, то и ног не надо, а мы будем ходить, потому что нам еще детей растить, а за ними не только ходить, за ними бегать надо. А я одна не набегаюсь. Как мне бегать, если один в одну сторону побежит, другой в другую, а третий в третью?
– Это ты скольких же рожать собралась? – скромно поинтересовался я.
– А сколько захотим, столько и родим, – легко откликнулась она.
Я напрягся, чувствуя, что с хотением у меня серьезные проблемы. Видать, слишком уж сильно лес бьет чужака по больным местам: то по голове, то пониже. Хотя второе, скорей всего, следствие первого – думать надо, прежде чем прыгать, куда не надо. Больной я, уважительная причина есть. Да Нава особо и не покушается. Возможно, на нее давит «надо», а не «хочу»?… Только этот пальчик, гуляющий по моей груди… Мороз по новой коже…
– Лежать с тобой, конечно, приятно, – призналась Нава. – Но спать? Я не привыкла с кем-то спать. Всю жизнь одна сплю. А если всю жизнь одна сплю, то как я могу спать с кем-то еще? А вдруг ты брыкаться будешь? Или слова свои страшные говорить? Если ты будешь такое говорить, как опять в бреду говорил, я с тобой спать не смогу. Ты так и знай! Если хочешь, чтобы я с тобой на одной лежанке спала, то не говори таких слов!
– Каких таких? – заинтересовался я. – Я же не помню никаких слов. Откуда же мне знать, чего не надо говорить?
– А ты и забудь! – обрадовалась она. – Не вспомнишь – и говорить не будешь.
– Ты же сама видишь, что я их во сне говорю или в бреду, а наяву не говорю, поэтому вспомню или не вспомню – все равно. Говори уж, а то мучиться буду, вспоминать.
Нава подняла голову, водрузив подбородок мне на грудь, но не давила им на ребра, а только легко касалась. Ей глаза мои были нужны. В них она и уставилась немигающим, почти звериным взглядом. Будто думала: сейчас съесть или еще дать жирок нагулять?… Да, жирок бы мне сейчас не помешал – вон живот провалился, а ребра торчат.
– А я разве могу все запомнить, да еще такое страшное? – вдруг заговорила Нава. – Реалити-шоу, говорил, блевантазол, говорил, кино еще да киноактер, говорил… И зачем ты такое, Молчун, говорил? Лучше бы молчал… Я как услышу, так глаза закрыть боюсь – все кажется, что сейчас блевантазол твой придет с киноактером… И с каким-то еще эффектом скрытой камеры…
– А еще? – прервал ее причитания я. – Какие слова еще говорил?
То, что она мне сообщила, отозвалось легким дребезжанием в памяти, этакая чесотка ума: знакомо, а что значит – не вспомнить.
– Ре-ка… Ру-ка… Конь… Стук… тыры-тыры, говорил, – с большим трудом вытолкнула из себя Нава.
«Реконструкторы», – неожиданно легко расшифровал я, понятия не имея, что сие означает.
– Конь… Конь… Стук… тыры-тыры, говорил… И где ты таких слов набрался, Молчун?
Это оказалось еще легче по аналогии: «Конструкторы».
– И это еще, такое совсем страшное, – генетический, ну, это я знаю – это про то, какими дети будут, это жена с мужем договориться должны, помечтать, а потом и получится, как мечтали… Но вот дальше: экс-экспыр-мет…
«Бедная девочка – „эксперимент" произнести не может».
– А потом как пошел знакомое и незнакомое в кучу валить!… ДНК, геном, кибогрызация… ужас-то какой, будто рукоед руку человеку отгрызает и урчит… животом… А-трог-рог-снизация, кричал даже…
«Наверное, андрогинизация, но не уверен…»
– Партеногенез… Что это такое, Молчун?… Хотя Слухач тоже такое слово говорил, но никто не понял. Даже Старец. Слышу звон, сказал он, да не помню, о чем он…
– Спроси что полегче, – вздохнул я.
Не скажу, чтобы мне было страшно слышать эти слова, но ничего, кроме дополнительной чесотки ума, они во мне не вызывали. Звучит знакомо, а что значит?…
– Вертикальный прыгресс, говорил, косматизация вида, глубинный рогресс и назад к истокам, говорил… «Назад» и «к истокам» понятно, а остальное – нет… Кто такой «планетарный гоми…гоме-стад»?… Ну, как можно глаза закрыть, когда ты такое говоришь?… Если говоришь, значит, такое существует, а я не понимаю, что это такое и как себя с ним вести, если оно придет… Это же страшно, Молчун.
Я не мог не согласиться с ней, что слова звучат зубодробительно и черепокрушительно. И понимал ее страх – мне было так же ужасненько слышать про красную ядовитую плесень, которую я еще в глаза не видел, и век бы ее не видеть, или про зеленые поганки, гиппоцетов и хищных лягух, про Одержание и Разрыхление. Но я чувствовал, что знал когда-то значения этих слов. И, слыша их, испытывал не страх, а досаду на забывчивость. Хотя какая, на пень, забывчивость – отшибло память деревом. Восстановится ли? И хочу ли я, чтобы восстановилась? Смогу ли я жить здесь, когда узнаю правду, которая даже кусочками несовместима со здешней жизнью? С ума сойти – рассуждать начинаю! И что примечательно, молча.
– Страшно, Нава, страшно, я понимаю тебя… Но мне почему-то не страшно, значит, на самом деле все это не такое уж и страшное. Я мог забыть, что это такое, но, страшное или нестрашное, оно хранится не в памяти ума, а в памяти тела. Оно же не забыло, как жить.
– Как это не забыло, когда ты ничего не умеешь и не знаешь из того, что необходимо для жизни: ни как нужду справить, ни как одежду вырастить, ни как прокормиться в лесу? – справедливо ткнула меня носом в стену Нава. – Нет доверия памяти твоего тела, Молчун. Но может, ты и прав, и твои страшные слова страшны только потому, что неизвестны, а когда их узнаешь, то они вдруг станут совсем и нестрашные. Ты уж, Молчун, разберись со своими словами. Я не люблю, когда страшно, ты меня больше не пугай.
– А я что делаю, Нава? – напомнил я. – Мы зачем за Тростники ходили, где меня Колченог с Обидой-Мучеником нашли? Чтоб я вспомнил, как там оказался.
– А ты вместо этого на мертвяка прыгать начал! – воскликнула она. – Ой, как смешно ты на него прыгал, Молчун! Боком-боком, и ножкой притоптывал, и палкой тыкал… Хорошо ты его палкой тыкал, он никак ее выбить у тебя из рук не мог. У наших мужиков обычно с первого раза выбивает, а у тебя не выбил. И где ты так научился палкой тыкать, Молчун?
– Это называется не палкой тыкать, а… а… вот же леший подери!… А-а… Это называется фехтовать!…
– Молчу-у-ун! – взвизгнула Нава, словно это ее палкой ткнули. – Ты опять, Молчун! Слова свои…
– А чего ты пугаешься? – удивился я. – Сейчас мы с тобой выяснили, что страшное слово «фехтовать» означает почти то же, что «тыкать палкой».
– Да-а? – покосилась на меня Нава. – Фехт… фехты… фехто… нет, тыкать палкой лучше: и «тыкать» понятно, и «палкой» понятно. А твое фехт не понятно.
– Наверное, это просто на другом языке, который я забыл. Я ведь на вашем языке тоже не сразу научился говорить.
– Ты и сейчас не научился – все молчишь больше. А если, Молчун, ты будешь молчать, то с тобой никто в лесу знаться не захочет, потому что страшно, когда человек молчит. Мало ли что он думает, когда молчит? Вдруг плохое думает? Или совсем думать разучился. Человек, который думать разучился, – очень страшный, уже не человек. Звери и то думают, а говорят по-своему. Я часто даже понимаю, что они говорят. Лучше, чем то, что ты говоришь, Молчун. Я тебя легче понимаю, когда ты молчишь, – у тебя глаза такие говорящие… Поэтому я с тобой буду знаться. Даже если ты говорить не будешь. Только ты не совсем молчи, а то я заболею или с другими придется идти разговаривать. А я с ними не очень люблю разговаривать. Потому что я здесь чужая, а в нашей деревне все не так было, а они не понимают. Мне кажется, что ты хоть и молчишь, а понимаешь.
«Поэтому молчуны и кажутся хорошими собеседниками», – хмыкнул я про себя.
– Кстати, Нава, – вспомнил я, – а как поживает моя одежда?
– Старая уже не поживает, после мертвяка от нее одни клочья остались, – ответила она. – Я их посадила, уже новая выросла, вон лежит, тебя дожидается.
– Ох, заботливая ты моя! – обрадовался я. – А то я уже начал беспокоиться, как из дому выберусь. У вас тут голых не очень-то гнушаются, но как-то неуютно мне голышом шастать.
– Уютно-неуютно – глупости, – отмахнулась Нава. – А вот если клещ или шмель ядовитый укусит или слизень жгучий с дерева свалится – это не обрадуешься, нельзя в лесу голышом долго находиться. В деревне-то все проверено – никакой гадости нет. Бывает, правда, что грибница нападает, зеленая поганка. Из такой деревни надо скорей убегать, если успеешь. А по деревне тебе не надо голым ходить не поэтому, а потому, что ты не похож на наших мужиков, а женщинам нравятся такие непохожие. Сейчас, когда женщин мало стало, они сами себе мужей выбирают. Тебя мне отдали, потому что никому ты нужен не был с оторванными головой и ногой и страшные слова говорящий. Мне, чужой, тебя, чужака, и отдали. А теперь, когда я тебя выходила…
– Уже два раза! – воскликнул я. – Ты моя спасительница!
– Для себя ж старалась, – честно призналась она. – А теперь ты такой красивый, что любая захочет тебя себе в мужья. А я не отдам!
– А я и не пойду ни к кому! – искренне заявил я.
К Наве у меня явно есть тяга и чувство родственности (еще бы им не быть к спасительнице), а другие деревенские женщины, которых я видел, вызывают почему-то чувство брезгливости. Вроде женщины как женщины, не грязные, не страшные, не кривоногие, – в обтягивающих костюмах они, можно сказать, всеми прелестями наружу, есть возможность оценить… Но какие-то они слишком женщины, вызывающе, откровенно женщины. А в Наве этого нет. Хотя она очень прелестна. По-девичьи…
– И правильно, – довольно согласилась Нава. – Не надо тебе к ним ходить, нечего тебе у них делать. Да и не сможешь ты с ними, потому что Молчун, а они с молчуном и дня не выдержат, только обидят тебя и прогонят.
– Да не хочу я ни к кому! Что ты меня уговариваешь? Я с тобой хочу быть! – попытался я ей вдолбить, чувствуя ее искреннее волнение и опасения.
– И будь, – кивнула она и улыбнулась, кажется поверив.
Очень у нее хорошая улыбка.
Только не вижу я в ней женщины. Даже когда она вот так передо мной голышом ходит или лежит рядом. Хотя теоретически знаю, что она очень привлекательна. Почему-то я твердо знаю, что в женской красоте отлично разбираюсь. Мужской инстинкт, наверное. Так вот, инстинкт мне твердит, что она ОЧЕНЬ красива. И кого-то сильно мне напоминает. И именно это напоминание вырастает между нами прозрачной стеной, которой она, кажется, не замечает… Леший подери! Все ясно! Она же поила меня какими-то зельями успокоительными и снотворными! Вот они меня успокоили и усыпили! А я-то себе напридумывал… Вот отойду, может, и правда семья у нас будет? Как-то очень привлекательно прозвучало в уме это слово – «семья»…
– Спи, Молчун, спи, – промурлыкала Нава. – Тебе пора, лечение еще не кончилось…
– Ну, чё, Молчун, собрался уже в Город? – разбудил меня вопросом Старец.
Хотя, возможно, он разбудил меня поскребыванием ложки по котелку? Или просто я уже выспался?
– В Город?… Да, в Город мне обязательно надо, – ответил я, продирая глаза. – Не помню зачем, но помню, что надо.
– Совсем ты разум свой проспал, Молчун, – осуждающе проворчал Старец и принялся сердито жевать кашу. – Перелечила тебя Нава! Сколько можно на лежанке валяться, когда тебе за правдой в Город надо? Я сам бы пошел, да стар уж, не дойду. А тебе в самый раз, и в деревне тебе делать нечего, потому как чужой ты здесь. И Нава чужая. Но тебе ее с собой все равно брать нельзя – в лесу опасностей много, мертвяки к примеру… От одного отбил, еле жив остался, а два-три сразу, как они обычно приходят, заберут у тебя Наву, не справишься ты с ними… А то воры – они до женщин и девок ух как охочие, бо организма их мужичья того требует, а против организмы ни один зверь не устоит, не то что человек, хоть и бывший.
– Так ведь человек потому и человек, а не зверь, что устоять может, – возразил я, обнаружив в себе с удивлением это возражение. Откуда взялось?
– Плесень это умственная, Молчун, – хихикнул, разбрызгивая кашу, Старец. – Все только притворяются, обманывают себя и других, что могут устоять, а на самом деле куда организма потянет, туда и ползут, и скачут, и бегут. По себе знаю. Мне уж чего притворяться? Отпритворялся гиппоцетов хвост конским… Одна организма человеком и движет.
– А правда мне тогда зачем? – уныло спросил я, признавая правоту старика. – Зачем мне в Город за ней тащиться, организмой, так сказать, рисковать?
– А потому что организме разум дан, чтобы разбираться в том, что в лесу происходит. А если не понятно, что происходит, то организме страшно и она болеть начинает. Зудом болеет. Если не разберется, зуд и в могилу свести может до срока. От тоски непонимания организма помрет… Вот как тело надо кашей да похлебкой питать и прочими вкусностями, так и ум человеческой питается знанием и пониманием. А без знания и понимания нет человека. Даже если он еще по лесу бродит, то его все равно нет, даже если женщинам детей делает – все равно он бревно мертвое, а не человек.
– Что-то ты, Старец, поумнел шибко! – удивилась от входа Нава, проявляясь в нем.
– А все от каши твоей, Нава, сильно вкусная у тебя сегодня каша! Молодец!
– Ах ты, старый пень! – возмутилась она. – Нашел-таки! Я ее спрятала в корзину и рогожкой закрыла, думала Молчуна покормить, когда проснется. Ему теперь хорошо есть надо, чтобы сил набираться. А ты все слопал!… Чем я теперь Молчуна кормить буду? Как же ты ее нашел?
– А по запаху, хозяюшка, по запаху. Настоящий продукт – он всегда себя запахом обнаруживает. Хотя плохой тоже запахом. Но от плохого запаха бежать хочется, а к хорошему притягивает. Вот меня и притянуло. Будь здорова, хозяюшка, за такую кашу. Всегда такую делай, я к тебе всегда и приходить буду. Ни к кому не буду, а к тебе буду…
– Эк обрадовал! – хмыкнула Нава.
– Обрадовал не обрадовал, а дом без гостя, как лес без дерева.
– Ну и сказанул, старик! Ты б, как Молчун, лучше бы молчал! Дом без хозяев, как лес без деревьев!
– Эх, девонька, – затряс облезлой головой старик. – Да дом без хозяев – нарыв земляной. Лесу он не нужен, только хозяевам нужен. Дом с хозяевами и есть настоящий дом. Ты про землянку говоришь, а я про дом. О разном мы беседу ведем, потому и договориться нам никак не получается.
– Да поняла я тебя, – отмахнулась она. – Подумаешь, премудрость… Только гость тоже разный бывает: от одного прибыток, а от другого убыток… Зачем кашу съел, которую я Молчуну приготовила?
– Так откуда ж я знал, что Молчуну, я подумал, что для меня расстаралась. Зачем Молчуну каша, когда ты его зельями поишь, а он и дрыхнет без задних ног… Скажи-ка, Молчун, ты чуешь свои задние ноги?
Под их зудеж я опять слегка задремал и упустил линию разговора. Поэтому отреагировал на вопрос, как мертвяк безмозглый:
– Нет у меня задних ног, старик, передних тоже нет, а есть у меня руки и ноги. По одной паре того и другого.
– Вот видишь, Нава, нет у него задних ног. А в нашей деревне тех, у кого нет задних ног, кашей не кормят. Ты пришлая, можешь и не знать, а вот я тебя и просветил, научил уму-разуму.
– Вот я тебя сейчас так научу, старый пень болтливый! – схватилась она за полотенце, грозно размахивая им.
– Эй-эй! – вскочил с табуретки гость. – Ты чего это взбеленилась, хозяюшка? Я ж тебе добро делаю: если будешь мужика своего кашей кормить, он обязательно обнаружит свои задние ноги и ускачет от тебя в Город. Ему туда обязательно надо… А тебе не надо, вот ты и корми меня кашей, а его снотворными снадобьями – он от тебя никуда и не денется.
Договаривал он злоехидным тоном уже из-за порога, пятясь от надвигающейся хозяйки, но не замолкал:
– А еще лучше ребеночка ему роди: ребенок мужику как корни дереву – он корнями укрепится и никуда от тебя не двинется. Нет, конечно, бывают прыгающие деревья… Но от хорошей жены никакое дерево не упрыгает. Что ж ты никак не уговоришь его ребеночка тебе сделать – вон, живот какой впуклый, сразу видно, что пустая ты, а не тёлая. А хорошая жена разве будет столько пустой ходить при таком муже? Ты не смотри, что он у тебя лежачий, завлеки его – он сразу вскочит, не ногами, так чем другим, более для этого дела нужным…
Нава ловко ухватила мою ходильную палку, прислоненную к стене, и метнула ее в старика. Тот неожиданно ловко увернулся и выскочил из сеней в лес.
Оттуда еще некоторое время доносились затихающие осуждающие причитания, но скоро стало тихо.
– Вот же старый пень трухлявый! – выдохнула возбуждение Нава. – Довел… – И резко повернулась ко мне. – А правда, Молчун, почему ты мне детей не делаешь? Другой мужик на твоем месте уж настрогал бы… Не нравлюсь я тебе? – В ее голосе слышалась искренняя обида.
– Нава! – вскрикнул я возмущенно. – А ты сама пробовала так долго, как я, пить свои зелья?
– Нет, – удивилась она. – А зачем мне их пить? Я же здоровая. И голову мне никто не отрывал, и обе ноги всегда на месте были, хотя некоторые этого не замечают, и о мертвяка я не обжигалась, по-другому тоже не обжигалась… Зачем здоровому человеку снадобья пить? Ну, прививки – понятно, прививки все делают постоянно. Потому что если их не делать, то болезни могут начаться…
– А затем, моя девочка, – ответил я, – чтобы понять, как чувствует себя человек, долго их принимающий. Я не только задних ног не чувствую, я и в передних-то не очень уверен, а уж в том, что между ними, и вовсе сомневаюсь, что оно существует.
– Как же сомневаешься? – опять удивилась она и ощутимо ткнула пальцем. – Вот же оно!…
– И ты думаешь, что этим, – мой сарказм достиг пределов возможного, – вот этим самым можно сделать хоть завалященького ребенка?
– Мне завалященького не надо, мне здорового и красивого надо, – насупилась Нава.
– А ты не задумывалась, что для здорового ребенка нужен здоровый мужик?
Я с удивлением обнаружил, что в моих словах присутствует настоящая мужская обида: сначала меня сделали никчемным, а потом попрекают этой никчемностью. Очень удобно переводить проблему из внутренней во внешнюю.
– Я стараюсь, Молчун, – начала оправдываться она с предвестниками слез в тоне. – Но так всех лечат, у кого ожоги… Или голова оторванная…
– Ты самый лучший лекарь на свете, моя девочка! – поспешил я похвалить ее. – Только согласись, что больной человек не может быть здоровым, пока он больной. И нельзя ждать от него того, что может делать здоровый человек. А вот когда он станет здоровым, тогда и приходите к нему, и требуйте, чтобы он вел себя как здоровый… Да и то, мне кажется, что в отношениях мужчины и женщины ничего требовать нельзя, как говорит старик, потому что вредно. Когда в этих отношениях начинают чего-то требовать друг от друга, то получается, что ничего не получается.
– Ой, как ты правильно, Молчун, говоришь! – вдруг обрадовалась Нава. – В нашей деревне, где мы с мамой жили до того, как ее мертвяки украли, так и было: детей заводили потому, что хотели, а не потому, что надо. Я сразу почувствовала, что ты ближе к нашей деревне, чем к этой, хоть и странный очень; я сразу почувствовала, что ты мне родной, как мама была. Может, тебя мама прислала, чтобы мне одиноко не было?
– Может, и мама, – легко согласился я, не имея ни малейшего понятия о том, кто меня сюда прислал. И присылал ли вообще? Или меня дурным ветром занесло?… Какой же ветер нужен, чтобы такую кучу дерьма неизвестно куда занести?!
«Сейчас я проснусь», – подумал я во сне и проснулся.
Сейчас я начну думать, что послезавтра ухожу.
И точно, будто сказал сам себе голосом:
– Послезавтра я ухожу.
Хотя никакого голоса не было. Не хотел я Наву будить. Но она будто услышала. Я и не сомневался, что она услышит. В последнее время я замечаю, что меня деревенские слышат, когда я ничего не говорю: только подумаю о них, а они сразу же и делают то, что я подумал. Или наоборот: они собираются что-то сделать, а я это их желание слышу до того, как они его осуществили.
Мне кажется, что они тоже почувствовали неладное, потому что стали избегать моего молчания, или вызывая меня на разговор, или сами болботили непрерывно.
Нава зашевелилась в другом углу на своей лежанке. Я знал, что она скажет.
– Ты уже не спишь?
– Нет, – ответил я уже голосом.
– Тогда давай поговорим, – попросила она. – А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?
– Давай. – Уж кому другому, а ей я никак не мог отказать в такой мелочи.
– Когда ты уходишь?
– Не знаю… Скоро…
– Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра. Ты, может, думаешь, что это одно и то же? Хотя нет, теперь ты не можешь так думать, теперь ты говорить уже научился. Это раньше у тебя в голове все путалось – дом с деревней, трава с грибами. Мертвяков с людьми и то путал. А то еще хуже – принимался бормотать слова непонятные, никто тебя понять не мог… Теперь не бормочешь, но никто не любит, когда ты молчишь, – кто тебя знает, может, ты свои слова про себя бормочешь. Лучше ты их не бормочи, а со мной поговори.
Пока она говорила, глаза сами собой открылись. По потолку проторенной тропой шли рабочие муравьи. Двумя ровными колоннами: слева направо – нагруженные грибницей, справа налево – порожняком. Месяц назад было наоборот. И через месяц будет наоборот. Как им укажут, так и будет. Черные сигнальщики рассредоточились вдоль колонн, шевеля усами в ожидании приказов. Может, через месяц дождутся? Они даже меня слушались, хотя я сначала спрашивал у Навы, что им приказывать…
Старца нет, отметил я. Сегодня не он меня разбудил. Особенное утро.
Я повернул голову набок и посмотрел на Наву. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, похожая на изящное изваяние, только непрестанно двигались ее губы да поблескивали в полутьме глаза.
Речь ее звучала для меня шумовым фоном (смысла не воспринимал), но звук голоса – музыкой, достойной красоты тела, ручеек лесной журчащий.
Месяц назад я так же любовался ею, собираясь уходить, и словно стараясь налюбоваться про запас, но не уходил. То ли они меня все дружно заговаривали, то ли с красотой расстаться не мог? Что-то свербело внутри, не разрешая покинуть эту девочку. А что-то другое зудело, изгоняя из деревни в Город. Будто я муравей, которому поступили два противоречащих друг другу приказа.
– …И получилось так, – вдруг пробилось в сознание Навино повествование, слышанное мной столько раз, что я мог бы продолжить за нее, – что мертвяки вели нас ночью, а ночью они совсем слепые…
Сейчас она про Горбуна вспомнит…
– …ничего не видят, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он нездешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой, где мы сейчас с тобой, а с той, где я с мамой жила без тебя, так что ты Горбуна знать не можешь, я тебе за него скажу. А в его деревне все заросло грибами, грибница напала. Горбун сразу и убежал из деревни. Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего… А луны тогда не было, и мертвяки, наверное, дорогу потеряли, сбились в кучу, а мы в середине. Жарынь – не продохнуть…
Ух, как в голове звенит, опять звенит… Опять дал заговорить себя! Нельзя позволять заговорить себя, потому что заговоренный я уже ничего не соображаю, а без здравого соображения никуда двигаться нельзя, тем более в Город. С чистой головой надо уходить! А где ее взять чистую, когда они не замолкают?! Все, решено: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю заговаривать с собой. Надо уйти, пока они спят все. Это очень важно: никому не дать заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. Один я могу заблудиться, но с кем-то еще, похоже, и вовсе не уйду. Но откуда же я знаю, где Город искать? Колченог говорил, что знает. И Хвост иногда проговаривается, что был там. Про утопленниц что-то бормотал. А один я могу совсем в другую сторону уйти. А я от Навы совсем не хочу уходить, я обещал ей, что обязательно вернусь и тогда… Тогда у нас будут дети. А пока я не понимаю, что к чему, я не могу обрекать своих детей неизвестно на что…
Сейчас Старец войдет, понял я. И старик вошел, молча подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлюпаньем понюхал и принялся есть.
«Как дома, – подумал я. – Он и есть в этой деревне дома. Это я неизвестно где здесь, а он именно дома».
Нава не пошевелилась ни чтобы прикрыться, ни чтобы одеться, она пела, как соловей, не замечая ничего вокруг. Кстати, здесь обалденные соловьи!…
– Чавк… хлюп… чавк… хрюк… – уписывал старик за обе щеки.
– А я еще ни разу Одержания не видела, – продолжала Нава. – Слухач все про него вещает…
Внутренний импульс нагло спихнул меня с лежанки. Правильно сделал: душно стало, влажно и в голове… ох… Обтер ладонями с тела ночной пот – лень было полотенце искать.
А Старец чавкал и брызгал на стол, не глядя на горшок, и не спускал глаз с корытца, закрытого крышкой.
Сейчас я отберу у него горшок, понял я. Во-первых, надоел он мне, а во-вторых, я просто не могу иначе поступить. Все мы чьи-то рабочие муравьи…
Я подошел и отобрал у Старца горшок с недоеденным содержимым. Поставил рядом с Навой на лежанку. Она удивилась и замолчала. На это я и рассчитывал.
Нава запустила ложку в горшок.
– Невкусно, – сообщил Старец, обсасывая и облизывая губы. – У всех теперь невкусно, к кому ни придешь. Разучились нынешние хозяйки готовить, и как их мужики терпят? Раньше я не потерпел бы, пока моя хозяйка была… Да у меня она и готовила – пальчики оближешь… И терпеть не надо – только наворачивай. Раньше совсем другое дело было… И тропинка, где я раньше ходил, а ходил я много – и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь там болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник! Откуда в тростнике тропинки, я спрашиваю, и тебя, Молчун, спрашиваю, и тебя, Нава. Только никто не может этого знать, да и не следует… А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а объедки и огрызки свои даже и не предлагайте! Сами ешьте свои объедки и огрызки. – Он покрутил головой, ожидая нашей реакции, но не дождался, вздохнул и продолжил: – А там, где тростник пророс, там уже не сеять, потому что говорили, нужно это для Одержания, и все везли на Глиняную поляну и оставляли. Теперь тоже возят, но не оставляют, а везут обратно. Я всем объясняю, что нельзя, а они не понимают, что такое нельзя. А Староста додумался – прямо при всех и спросил: почему нельзя? Кулак стоит, Слухач, остальные, а он спрашивает. Я ему говорю, как же ты можешь, мы с тобой не вдвоем тут… При всех нельзя! А он и говорит, дурья башка: «Почему при всех нельзя спросить: „Почему нельзя?"»
Нава поднялась, передала горшок мне, оделась и занялась уборкой. Я понюхал: пахло вкусно, как всегда у Навы. И на вкус оказалось вкусно. Я принялся есть. Старец некоторое время молча смотрел на меня и повторял губами мои жевательно-глотательные движения. А потом осуждающе заметил:
– Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.
– Почему нельзя? – дразня его, ехидно спросил я.
Старец хихикнул.
– Эх ты, Молчун, – сказал он с не менее ехидной улыбочкой. – Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я у тебя уже спрашиваю…
Про голову интересоваться будет, мол, что с меня взять, с безголового…
– …очень это болезненно, когда голову отрезают?
И почему они все как по писаному живут? Хотя писать никто из них не умеет. Я сам с трудом недавно вспомнил, что это слово значит, хотя написать ничего не получилось, как я ни пыжился. Но это выражение «жить по писаному» понимал.
– А тебе-то какое дело? – крикнула Нава. – Что ты все допытываешься?… Ходит и допытывается…
– Кричит, – сообщил мне Старец. – Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит: нежелательно, не одобряется, а поскольку не одобряется, значит, так поступать нельзя. Что можно – это еще неизвестно, а что уж нельзя, то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем бо, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» – это самое что ни на есть нежелательное…
Я предположил, что сейчас Старцу достанется на орехи, – что-то он разговорился сегодня, хотя я заранее знал все, что он скажет. Обычно у Навы не хватало терпения выслушивать его нудеж, и она гнала старика из дому. Сейчас же она, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан.
Старец поглядел ей вслед, посопел обиженно, что его не желают слушать, и продолжил:
– Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» – вредно…
Я доскреб кашу, поставил со стуком порожний горшок перед стариком и вышел в лес. Можно назвать это и деревенской улицей. Как ни называй, а выглядит это каждый день одинаково: вокруг дома густые поросли травы, нарушенные только тропинкой, протоптанной Старцем. Чуть далее деревенскую «улицу» уже расчистили, и у соседского дома ребятишки рвали бурую мякоть зеленого ползуна, вылезшего из переплетения ветвей над деревней и облитого бродилом. Он уже потемнел и закис. Пахло от него остро и аппетитно, но я был не голоден и не рвался разделить трапезу с детьми. Кто-то самый неугомонный из них «мумукнул» набитым ртом, что должно было означать «Молчак-мертвяк» или «Молчун-корочун», но быстро унялся. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей…» Эхо отвечало: «Эй, Евсей!… Где Евсей…» И я непроизвольно вздрагивал, слыша это. Что за странное имя? В лесу таких не бывает. По крайней мере, в соседних деревнях ничего похожего нет. Может, это и не эхо, а мертвяки отвечают, подумалось мне, однако я ни разу не видел поющих мертвяков. Говорящих тоже не видел. Но чувствовалось, что посевное занятие никого не вдохновляет, потому что в лесу не надо было ничего сеять, чтобы обеспечить себе пропитание – его хватало вокруг с лихвой. И только отсутствие другого дела и стариковские «надо» и «нельзя» заставляли народ выходить на поле – друг на друга посмотреть, мышцы и косточки размять.
Это я их так понял, а Староста управлялся с народом словом «надо». Хватало.
Колченог сидит дома, понял я, подходя к его дому.
Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.
– Садись, – сказал он мне приветливо. – Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят?
Опять, подумал я, опять все сначала. Так было вчера, так было позавчера. Неужели так будет завтра и послезавтра? Опять он меня заговаривает, а я опять слушаю. Что мне остается. Если я чужой не только в деревне, но и в лесу. Даже они, здесь рожденные, редко уходят в лес поодиночке. Ну разве что на Выселки, которые неподалеку. Между деревнями сильны родственные связи – женихи и невесты, соединяясь, поселяются то там, то тут. Даже я один раз сам до Выселок дошел, хотя уже на входе в ту деревню Нава меня нагнала и сильно выговаривала за то, что ее не предупредил об уходе. Я признал свою вину. Но нашел там двоих мужиков, которые обещали показать мне дорогу в Город, хотя на них такая же надежда, как на наших, – говорить горазды, а до Города только языком ходят. И я между ними.
– А когда уходишь? – продолжил общение Колченог.
– Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.
Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще (он постоянно меня вразумлял, видимо чувствуя ответственность за бестолкового спасенного, да и некого ему было вразумлять, после того как дочку воры украли. Жена умом после этого тронулась, ее теперь не вразумишь. Да и ни к чему это делать – в здравом уме такое матери пережить трудно):
– Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю – мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.
– До Глиняной поляны мы дойдем, – согласился я, призывая на помощь все свое терпение; этот маршрут до Глиняной поляны, куда мне ни на хвощ, ни на мох, ни на папоротник не надо, я изучил уже наизусть и давно. – А вот дальше как? Куда дальше? Через болото, где раньше озера были? Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?…
– Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней…
– До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. С закрытыми глазами дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещал показать дорогу.
– Да ты в своем уме, Молчун?! – возмутился Колченог. – Кто ж по лесу с закрытыми глазами ходит?! Ты закрыл глаза, а тут на тебя крокодил, к примеру, из болота!… Они страсть как любят тех, кто с закрытыми глазами ходит… Нет, Молчун, если ты пойдешь на Глиняную поляну, то иди-ка с открытыми глазами. Тоже мне удумал! Похоже, все-таки голова у тебя неправильно приросла…
– Мне в Город надо, Колченог! – терпеливо повторил я. – Дорогу до Го-ро-да мне надо…
Сейчас он опять пойдет по кругу, понял я, пока у меня голова не закружится и я окончательно не перестану соображать.
– До Го-о-орода!… Вот ты куда нацелился. Помню, помню… Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудаковую деревню, а там по правую руку и будет тебе Глиняная поляна…
Ух! Завизжало в голове, будто кабанчика режут: «И-и-и-и!…» Только бы не упасть…
– Или, скажем, до Тростников, – продолжал Колченог, как ни в чем не бывало. – Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо – пойдем.
Я не понял, почему до Тростников трое суток идти надо, когда мы туда ходили за день, но, может, он другие Тростники имел в виду? Мало ли в лесу Тростников – куда ни плюнь, болота да тростники. Но выяснять не стал, себе дороже – начнет объяснять, мы до Города и языком не доберемся.
– Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили, – старательно объяснял Колченог. – Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с собой брать не надо, раз там Хлебная лужа… Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем…
«Кандид – спокойно! Молчун – спокойно!» – уговаривал я себя. Все-таки я стал про себя называть себя Кандидом – коли уж память вернула мне это имя, надо им пользоваться, – может, и остальное вернется за именем? Что-то пока не торопится…
– Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники, – принялся я вбивать свою цель в его сознание, а Колченог внимательно слушал и кивал. – А надо мне в Город. Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники. («Только бы не сбиться! Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники».) Город, а не Тростники, – повторил я вслух. – Понимаешь? Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше – пойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.