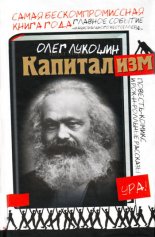Важнейшее из искусств Волков Сергей

– Угу, – кивнула Нава, наполнив рот кашей. Хорошо у нас получалось.
И тут в дверях послышались покряхтывание, попыхивание и ехидный скрипучий смешок:
– Шамаете, значит… Меня не дождались, сами все хотели слопать… А я тут как тут, иду мимо, чувствую – пахнет… Как не зайти? Когда в доме есть еда, надо заходить и снимать пробу. Оказать внимание хозяевам. Дом без гостя, что человек без кости.
Он решительно приставил к столу третью табуретку, подвинул к себе котелок, с сопливым хлюпаньем понюхал его содержимое и, взяв мою ложку, лежавшую на столе, принялся есть.
Я вопросительно посмотрел на Наву. Вроде старого человека гнать неудобно, но как-то он себя не так ведет, нехорошо. Как у них здесь принято? Не должен ли я защитить свою женщину?
Она совсем не реагировала на старика, будто он предмет мебели. Ну и я расслабился. А дед чавкал и брызгал на одежду с застарелыми и свежими пятнами. Я даже отодвинулся подальше, чтобы он на мою новенькую одежку случайно не попал. Вот на кого было неприятно смотреть! При этом он еще зыркал по сторонам в поисках съестного. Особенно его интересовало корытце, закрытое крышкой, чтоб плесень не образовалась. Это мне Нава объяснила.
Старец поскреб по дну, на удивление быстро опорожнив котелок, облизал ложку и губы, далеко высунув язык, и сообщил:
– Невкусно. Не научилась ты еще, Нава, вкусно готовить. Без мужика разве научишься? Женщина без мужика, как рот без языка. Вот Молчун станет мужиком – ты и научишься. С мужиком сразу научишься, потому что его кормить надо, а если мужика не кормить, он по сторонам глядит. А ежели по сторонам глядит, то и ноги сделать норовит… Так что ты корми его. Пока он, правда, не мужик. Какой из него мужик. Если голова только-только приросла, а то отдельно от тела была. Обида-Мученик тело нес, а Колченог – голову и разговаривал с ней. Только голова без тела не по-людски шелестела.
– Ты чего несешь, старый пень? – вдруг осерчала Нава. – Какая голова без тела? Это у тебя тело без головы! Все высохло внутри: стукни – дым пойдет с пылью. Ты чего болтаешь? Всегда у Молчуна голова на месте была, не то что у некоторых, у которых что есть голова, что нет – все равно. И мужик он хороший!
– Какой же он хороший мужик, если женщину распустил? Еще никого не родила и готовить не научилась, а уже кричит на меня.
И тут я почувствовал, что мне надоело стоять бревном вкопанным и даже листьями не шелестеть.
– Знаешь, дед, – сказал я, – кажется, я уже стал мужиком, и почему-то мне хочется табуреткой тебе по грибной шляпке стукнуть, посмотреть, что у тебя там внутри, – может, и на самом деле труха пыльная? Давай посмотрим…
Сил бы у меня поднять табуретку не хватило, но голос мне удалось изобразить весьма грозный, умел я, оказывается, голосом владеть. И брови нахмурил, гнев на физиономии быстренько сляпал. Но Старцу большего и не понадобилось – он вскочил с табуретки и мгновенно оказался у выхода.
– Ты, Молчун, лучше бы молчал! – сердито выкрикнул он. – Неправильно тебе голову прилепили. А может, она и не твоя вовсе?…
И растворился в сумраке сеней.
– Носит же ветер по лесу, – вздохнула Нава. – И гнать – грех, и терпеть – смех. Ты, если я старая такая же буду, лучше меня мертвякам отведи. Не хочу я так…
– Я старше тебя, – усмехнулся я. – Это тебе придется для меня местечко глухое в лесу искать.
– Фу-у, – нахмурилась Нава. – Куда-то у нас не в ту сторону разговор пошел. Давай снова начнем… Как ты меня здорово защитил! Мне даже самой страшно стало, когда ты меня защищал. Где это ты научился такой голос делать? У нас никто так не умеет, даже если сильно рассердится. Кричать умеют, а ты не кричал, ка-ак сказал… Если б я не знала, что это ты старику так говоришь, то раньше его в дверь выскочила бы… «Кажется, я уже ста-ал мужико-ом, – попыталась она меня изобразить, но с ее музыкальным, как колокольчик, голоском это получалось очень потешно. – И-и-и по-че-му-у-то мне хочется табуреткой тебе по грибной шляпке, – сделала она резкое ударение на „мне", – стукнуть, посмотреть, что-о-о у тебя там внутри, – может, и на самом деле труха пыльная? Дава-ай посмо-о-трим…» А правда, верно ты заметил, что у него лысина на грибную шляпку похожа – точно как у бледной поганки… Ты меня всегда защищай, Молчун, мне нравится, как ты меня защищаешь… Настоящий муж!
«Разве только мужья женщин защищают?» – хотел я было спросить, но вопрос мелькнул и растаял в потоке ее милой болтовни. Чирик-чирик, чирик-чирик – и мысли, как зернышки в воробьином клювике, пропадают, склевываются. Мне и не жалко для такого воробушка, только этот нудящий шум в голове достает. Наверное, последствия удара головой?
– Ты давай обопрись на меня, – предложила она. – Пойдем около дома погуляем… Надо скорей тебя мужиком делать, а то ведь голосом не каждого испугаешь. Это Старца да меня можно голосом испугать, а Кулака, к примеру, не испугаешь, он сам на кого угодно наорать может. Правда, у тебя все равно страшней получается. Может, и не так громко, а страшней. Сила в голосе, будто ветер в нутро ударяет. Но голосом не всех испугаешь, иного и кулаком надо или лучше палкой. Вот найдем тебе палку, и будешь всех от меня отгонять, потому что я жена твоя и нечего всяким ко мне приближаться. Правда, в нашей деревне, не в той, где мы с мамой жили, а в этой, все добрые, потому что они меня не выгнали, а оставили у себя и тебя дали выхаживать, а ты тут самый лучший, хоть и молчишь много. Но наверное, ты молчишь много, чтобы мне не мешать говорить, потому что ты добрый. Ты очень хорошо слушаешь, но если ты не будешь меня останавливать и сам не станешь говорить, то я могу и заговориться. Это когда говорят-говорят, а потом остановиться не могут. А если силой заставить замолчать – рот заткнуть или по голове стукнуть, – то заболеть может человек молчанкой. А молчанка – страшная болезнь. Слушай, Молчун, а может, у тебя молчанка? Надо тебе прививку от молчанки сделать, а то я не делала…
Это все из нее сыпалось, пока мы преодолевали два порога: из комнаты в сени и из сеней на улицу. Кажется, я слишком высоко поднимал ноги, на всякий случай, опасаясь споткнуться, но это мелочи. Главное, что на своих двоих, пусть и с Навиной помощью. Мои ходильные успехи меня вдохновляли и окрыляли. Мы вышли из дому и немного постояли, пока я щурился и моргал глазами, привыкая к яркому свету и цвету. Отвыкло мое зрение на лежанке от этого великолепия. С ума сойти – какие сочные и яркие краски! Мечта оператора! Какого такого оператора? Мне это действительно начинает надоедать: выскакивают какие-то слова, смысла которых я понять не могу, хотя чувствую, что должен. А это тебе, Молчун, наука: не бейся впредь головой о дерево. Можно подумать, что я специально. Но зачем-то я здесь оказался? Или это чистая случайность – должен был оказаться в другом месте, а очнулся здесь?… Но до чего же вся эта лепота знакома, будто во сне ее видел, а сейчас разглядел наяву. И приземистый глинобитный домик, заросший кудрявым плотным зеленым мхом вперемешку с изумрудной травкой, как в две недели раз бритый мужчина. Очень даже приятный зелененький домик. Уж точно приятнее небритого мужика.
– Знаешь, как мох здорово укрепляет глину корнями! – восторженно сообщила мне Нава, проследив за моим взглядом. – Даже если дерево упадет, дом устоит, проверено. И никакой дождь не промочит этот слой – все отскакивает и стекает. Остается ровно столько, сколько мху для жизни нужно. Только не любую траву и мох на доме сеять можно… Ну, я тебя еще научу различать, какие можно, какие нельзя.
А на фига мне? Что ли, построить дом, родить сына (не люблю я пацанов!), посадить дерево? Последнее особенно актуально в лесу… Лезет же в голову чушь всякая! И как проскальзывает сквозь Навино чириканье?
Мы уже тихо-тихо брели по тропинке от дома через заросли кустарника, усыпанного аппетитно красующимися ягодами темно-синего с серебристой пыльцой цвета. Через смешанную березово-хвойную рощицу вышли на большую поляну, заросшую молодой травой, в которой кувыркались голые загорелые дети. Впрочем, при нашем появлении они моментально бросили свои кувыркания и обступили нас. Маленькие такие лесовички и лесавочки, побеги, цветочки, ягодки, орешки… Будущее этой расы.
Они смотрели на меня с откровенным интересом – не каждый день в деревне появляются новые жители, тем более такие диковинные, на местных мужиков непохожие. И стрижка у меня на голове еще вполне короткая, и лицо бритое, сохраненное в таком виде стараниями Навы, и фигура тощая и высокая. Да и выражение лицемордии, надо полагать… Хотя я его и не вижу, но догадываюсь.
Я смотрел на них, они смотрели на меня, а Нава все это сопровождала ознакомительной речью, которую я воспринимал пунктиром – «чик-чик-чик-чирик»:
– Этот побег от Старца, пра-пра, кажется, маленький, а похож – посмотри… А этот стручок – внук Старосты… Эта ягодка – Тутина дочка… А это зернышко… А этот орешек… А эта почечка…
И тут они заговорили, все разом:
– Чирик-чирик, дилинь-линь, фить-фить, тирлибом, т-р-р-р-рям, ля-ля-ля, лю-лю-лю…
Я ничего понять не мог, кроме изредка проскакивающего «Молчун», а в ушах у меня зазвенело. Нава, видимо разглядев мою растерянность и готовность потерять сознание, подставила энергично свое плечо и, обхватив за талию, повлекла меня обратно.
– Погуляли, и хватит, – ласково бормотала она. – Эти пичуги и здорового человека с ума сведут. Ты лучше на цветочки да ягодки полюбуйся, лесным воздухом подыши, а то что за воздух в доме? Бродило да припасы…
«Да испражнения больного», – добавил я про себя, но вслух не стал портить девушке настроение своими глупостями.
Звон потихоньку стал покидать дурную голову. Что ж это я такой слабый?… А не бейся головой!…
Она подвела меня к дому и прислонила к березе:
– Постой, Молчун, немножко, только не упади, крепче держись, я сейчас.
Я ухватился двумя руками за ствол. Так было совсем не трудно стоять. Даже приятно, как будто здоровый. Во всяком случае, ноги не пытались подогнуться. Листочки негромко нашептывали что-то на ушко, и от этого шепота в голове совсем не нудело и не звенело, а, наоборот, образовывалась блаженная тишина. Ненадолго.
Из дому выскочила Нава с табуреткой в руках. Поставила ее рядом со мной под березой и сказала:
– Садись, Молчун, твои ноги хорошо поработали, можно и отдохнуть.
– И то верно, – согласился я. – В усталых ногах правды нет.
И, потихоньку соскальзывая руками по стволу, присел на плетеную табуретку. Откинулся спиной на березу, вытянул ноги вперед, возложив пятки на торчащий из почвы заскорузлый корень, и освобожденно вздохнул:
– Эх, хорошо! Спасибо тебе, девочка! Хорошая ты у меня.
– Я не девочка, – неожиданно для меня возразила Нава. – Я уже почти женщина, девушка. Вот стану тебе женой – и буду женщиной. Я же уже могу быть женой? – покрутилась она передо мной, демонстрируя свои девичьи прелести.
Пышными прелести назвать было трудно, но все было на месте и очень даже привлекательно смотрелось, так что возразить было нечего.
– Ты можешь быть замечательной женой, – ответил я искренне. – Счастлив будет тот, кто назовет себя твоим мужем.
– Эй-эй, Молчун, ты что такое говоришь?! – опять возмутилась она. – Ты что еще задумал?… Ты мой муж! И мне не надо никого другого! Или ты думаешь, что я тебя для другой женщины выхаживала? Никому не отдам!
– А мне никто другой и не нужен, – поспешил я на попятную. – Ты самая лучшая!
Нава улыбнулась довольно:
– Тогда не говори больше так!… Думаешь, ты просто так с неба свалился? Ты свалился, чтобы стать моим мужем! Иначе зачем тебе было сваливаться и ударяться головой о дерево?
Ее доводы звучали очень убедительно. Я не нашел что возразить. Да и не хотелось мне возражать. Настроение у меня было хорошее.
Нава села на траву у моих ног и пристроила голову мне на колени. Я, с ощущением изнутри согревающей нежности, погладил ее по волосам. Они были шелковистые и приятные. Ладонь ощутила нечто знакомое, хотя, честное слово, делаю я это всего второй раз, если только в бреду не грешил, что очень сомнительно. Это было ощущение из долговременной памяти, которую мне начисто отшибло, и я лишь по импульсам подобных озарений догадывался о ее существовании. Были в моей жизни и голова на коленях, и ощущение нежности, делающее ладонь почти невесомой.
Невероятно, но Нава замолчала! Обхватила мои ноги руками, наверное, чтобы голова не сползла, и затихла, почти не дыша.
Остановись, мгновенье, и не дрыгайся!…
– Эй, Нава! Эй, Молчун! – донесся хрипловатый мужской голос, обладателя которого видно не было.
– Колченог! – встрепенулась Нава.
– Э-эх! – откровенно разочарованно вздохнул я.
– Эй, вы где? Не прячьтесь, мне сказали, что вы только что на площадь выходили… Или вас прыгающим деревом зашибло? Да нет – они от человеческого жилья подальше держатся, а у нас тут вона сколько жилья, и на какое ни плюнь, человеческое окажется. Нечего здесь прыгающим деревьям делать… Или вы спрятались, чтобы главным супружеским делом заняться?… Хорошее дело, молодое… Я и кричу, чтобы у вас было время себя в порядок привести. Хотя какой сейчас из Молчуна муж? Такой же, как из меня прыгун. Я на ногу колченог, а он всем организмом стукнутый. Уж хорошо, что ноги передвигать научился, а то, когда его Обида-Мученик на себе тащил, я все гадал, что первое отвалится, голова или нога – и то и другое на сопле висело. Слышь, Молчун, а тебе вместе с ногой основную мужскую примечательность не оторвало, случаем? Вполне могло… Хотя, когда тебя раздели, что-то такое там в крови мелькало… Ну, так нога могла прирасти, а эта самая примечательность – штука тонкая, нежная; ее лишний раз посильней ударишь, так и прощай любовь, побеги и цветочки-ягодки… Да где ж вы?
На этом вопросе он показался в поле зрения. Ну точно – его я и видел, когда из бреда выскакивал. Бородатый, кудлатый, на одну ногу припадает. А глаза хитрющие, но не злые, с огоньками.
– Фу-х-х, Молчун, что с тобой? – воскликнул он, заметив меня. – Я сомневался, не мертвяк ли ты, а тут гляжу – в уроды подался! Ты чё, спиной к дереву прирос, как урод?
– Как-то колченого ты думаешь, Колченог, – выскочила из травы Нава, перепугав гостя. – Вроде нога у тебя колченогая, а говоришь, будто головой повредился. Ну разве Молчун похож на урода? Где ты видел таких красивых уродов?
– Да мне б их и вовсе не видать, страхолюдин этаких, то ли человеки, то ли деревья, то ли из мяса, то ли из дерева? Лешаки, ну форменные лешаки!… Нет, Молчун не похож, тогда зачем он спиной к дереву прирос?
– Раскрой глаза, Колченог! – засмеялась Нава. – Прислонился он к дереву, а не прирос! На табуретке сидит, красотой любуется, меня по головке гладит… Ух как приятно! После мамы меня никто по головке не гладил, а ведь хочется… А тут ходят всякие колченогие, глупости болтают и удовольствие получать мешают.
– Ну, я ж специально громко говорил, чтоб вы удовольствие свое мне не показывали, потому что нельзя мне его показывать. Я увижу и тоже захочу, а хотеть мне бесполезно – со старухи удовольствия, как с березы яблок, а другие женщины все разобраны. Вот и Молчун себе какую отхватил…
– Ну, не тебе ж, Колченог, меня отхватывать, – засмеялась Нава. – Стар ты для меня. И сам во мне женщину не видишь. Я же помню, как ты со мной по лесу бродил, пытаясь у воров дочку найти и на меня обменять. Только воры на такие обмены не идут, они бы и твою дочку забрали, и меня. Им сколько ни давай – все мало. На то они и воры, что воруют и не отдают. А если б ты во мне женщину видел, ни за что бы никому не отдал.
– Да не хотел я тебя менять, – смутился Колченог. – Просто у тебя глаза молодые, зоркие, а ноги быстрые, я и надеялся, что, может, разглядишь, где следы дочкины, которую Кулак не уберег, муж называется, самому бы ему промеж глаз да по кумполу и чтобы шерсть на носу выскочила! А если б ты воров заметила, убежала бы быстро. Им тебя не догнать, а я с ними бы поговорил. Вдруг уговорил бы вернуть дочку. Или заставил бы… Мы и с Обидой-Мучеником, у которого мертвяки двух жен подряд утащили, ходили дочку искать. Теперь ему никто дочку не доверит, а я обещал, что если поможет мою найти и освободить, то ему отдам, а не Кулаку. Пошли за дочкой, а нашли Молчуна. Для тебя, получается.
– Это ты молодец, что Молчуна нашел. Может, ты и на самом деле не собирался специально меня менять, а если б пришлось – поменял бы. Я тебя понимаю – дочка же, жалко. Вот мама меня тоже под ноги затолкала и вытолкнула из круга, в который нас мертвяки взяли. Темно было, а в темноте мертвяки плохо видят. Вот я между всех ног и выскользнула, и убежала, а мама и другие остались, и больше я их не видела. Я и от воров убежала бы, это ты верно сказал, Колченог. Я только от Молчуна не убегу, а от остальных убегу.
– Ох и повезло тебе, Молчун, – позавидовал Колченог. – И за что тебе повезло? Голова чуть не отвалилась, и нога чуть не оторвалась, и сам не то мертвяк, не то чудак, не то урод, а такую жену отхватил!… Ты береги ее. Только не так, как Кулак мою дочку, хорошо береги.
– Пока из меня берегун никакой, – вздохнул я. – А вот на ноги совсем встану…
– Встанешь, – пообещал Колченог. – С такой женой обязательно встанешь, да уж встал почти. Немножко осталось. А я что пришел, я пришел посмотреть, как вы тут – по ветру стелетесь или иголки распускаете… Вроде вы вполне даже цветете и благоухаете. Этот факт надо спрыснуть. Я захватил с собой… У Навы такого нет, женщина она, а женщины не понимают в этом. Они называют наш нектар «пьяный жук», а мы его меж собой кличем «жучара». Очень радостный напиток, но его надо уметь приготовить. Женщины не умеют. Они суют пьяных жуков в ягодно-травяную настойку без чувства момента и знания процесса. А жучару надо чувствовать и знать. Неправильный момент может все испортить.
– Эй, Колченог, – вдруг напряглась Нава, – ты что, пришел моего мужа спаивать?
– Не спаивать, а отметить радостное событие выздоровления, – с торжественной физиономией поправил гость.
– Так не выздоровел он еще, – покачала головой Нава. – Рано ему еще вашу жучаровку хлобыстать. Не всякий здоровый после нее на ногах удержится, а он и так без моей помощи на них не стоит. И голова… Она хоть и приросла, только в ней еще совсем не все в порядке – иногда такое говорит, что страшно. А после твоего «пьяного жука» он и сам может в жука превратиться. Нет, Колченог, ты хороший человек и спас Молчуна, так побереги его вместе со мной. Вот когда совсем поправится, тогда сам будет решать, что и с кем ему пить, а пока я его выхаживаю. Хочешь поговорить – говори, но без жучаровки.
– Да ладно, – легко согласился Колченог. – А то я не найду, с кем пожучарить! Только свистну – жукохлебы наползут. Только я свистеть не стану, я подожду. Когда Молчун поправится, тогда и пожучарим от души. Я что, жужурик, что ли? Нет, я приятный разговор люблю. И тоска у меня. Как дочку вспомню, так и тоска…
И я вдруг почувствовал, как его тоска в меня перетекает. Или это моя собственная проснулась? Подругу поблизости учуяла и проснулась… Нехорошо мне стало, тоже жучары захотелось.
Нава стрельнула в мою сторону глазами и, кажется, что-то почувствовала.
– Знаете что, мужики, – сказала она. – Жучары вам нельзя, я это точно знаю, а ягодной наливки принесу. У меня как раз подоспела. Я тоже думала, что, когда Молчун поправится, можно будет понемножку, чтобы напряжение снять. Мужики жучарят, а женщины наливаются, – хихикнула она. – Наливкой… Я мигом.
Она убежала в дом, а Колченог присел рядом со мной на корень:
– Ты это как – ничего, что я приперся?
– Наоборот, хорошо, – ответил я. – Мы же с Навой пошли к тебе. Я поблагодарить хотел за то, что вытащили вы меня с Обидой-Мучеником. Но сил не хватило, вернулись.
– А что благодарить? Мне когда в дупле ногу скрутило, я тоже сам идти не мог. Меня Кулак допер, хрен дубовый, меня допер, а дочку не уберег. Ну и дочка ему подсобляла. Тогда он на нее глаз и положил. Да я и не стал отказывать. Хороший мужик. Показался. А ему как воры по кумполу палкой врезали, так мужик и кончился. Очухался, а дочки моей, жены его, уже и нет, как не было… Э-эх… Ты Наву не слушай, не хотел я ее у воров на дочку обменивать. Воры не меняются, тута она права; они все, что им нужно, забирают. Кулак им был не нужен, вот и не забрали, а дочку мою прихватили, чтоб рукоед им руки отъел! И ноги тоже. Чтоб их крокодил болотный проглотил!… Своих дочек вырастить не могут, а чужих воруют!… Ну, я могу понять: женщин своих нет – воровать приходится. Так береги! Рожай с ними детишек, воспитывай, живи по-человечески. Так нет – используют бедняжек до смерти и в болото выбрасывают. Видели люди, рассказывали. Уж не знаю, лучше бы мертвяк утащил дочку-то; непонятно, зачем они их таскают, им-то женщины без надобности – сразу видно.
– Наверное, не для себя таскают, – предположил я.
– Да уж, не для себя, – согласился Колченог. – Ясное дело, не для себя. Но и не для воров. У воров с мертвяками война. А нам и те и другие – враги.
– Значит, хозяева у мертвяков есть, – стал я обнаруживать в себе способность к рассуждению. – Если не для себя, то для кого?
– Да мало ли, Молчун, в лесу непонятного творится?! Все эти Одержания, Великие Разрыхления и Необходимые Заболачивания с Поголовной Борьбой на севере и на юге, Славные Подруги какие-то, о которых Слухач без конца долдонит, а Старик повторяет. А кто их, этих подруг, видел? Никто не видел. Утопленниц видели, а подруг – нет. Может, мертвяки женщин таскают и в озерах топят? А зачем? И нам плохо, и женщинам плохо… Что хорошего быть утопленным? А кому тогда хорошо? Так не бывает, чтоб никому хорошо не было. Если одному плохо, то другому обязательно хорошо. Иначе зачем ему кому-то плохо делать? Если крокодилу хорошо, то проглоченному им кабанчику плохо.
– Надо хозяев мертвяков найти! – воскликнул я, не понимая, почему никто из лесных жителей не догадался до такой очевидности.
– Да это и рабочему муравью ясно, и жуку пьяному понятно, что надо найти, только найдун не находится. За мертвяками не угонишься – они и по зарослям, и по болотам, где ничто живое не пройдет, с такой скоростью шастают, что все найдуны с носом остаются, если крокодилам на корм не отправляются.
– А верхом на мертвяке? – выкрикнул я.
– А верхом один попробовал, так у него яйца в яичницу превратились! – зло хмыкнул Колченог. – Обжигают мужиков мертвяки. Верхом никак невозможно.
– А вот и я! – выскочила из дому Нава, неся в одной руке, похоже, тяжелую сумку, а в другой – два складных плетеных сиденья.
– О-о-о! – воскликнул Колченог.
– Ты не окай, Колченог, – откликнулась она. – Ты лучше сиделку свою забирай да садись, а то у меня рук всего две, а надо бы четыре, а лучше шесть.
– Да-а, – мечтательно согласился Колченог, забирая стульчик. – Женщина с шестью руками – это было бы нечто… Это гораздо лучше, чем три женщины с парой рук…
– Стар ты, Колченог, о женщинах шестируких мечтать, – хмыкнула беззлобно Нава.
– И старый дуб кому-то люб, – наставительно ответил мечтатель. – Хотя молодые рябинки да березки стараются держаться подальше. Вам нас не понять… Молодой предпочел бы трех женщин, а старый точно знает, что одна лучше – хоть с двумя руками, хоть с шестью. Да ты-то что разволновалась? У тебя две руки, и больше тебе взять неоткуда.
– На, держи свой пивень, – протянула она извлеченный из сумки деревянный стакан.
Я такой уже рассматривал – он был изготовлен из ствола березы, дно у него оставалось деревянным, а емкость была образована корой без ствола. Как извлекали этот кусок ствола изнутри, я догадаться не мог. Разве что снимали всю кору, а потом всовывали в дно затычку. Я и это осуществить бы не сумел. Но тоже получил свой пивень.
– Мой тоже подержи, – доверила Нава мне свой сосуд, сунув в другую руку.
А сама достала из сумки бутыль из тыквы и, вынув пробку, принялась разливать напиток по пивням. Красиво лилось темно-красное с желто-огненным, просвеченное солнечными лучами, проскочившими меж листиков березы. И пахло вкусно – лесом, благоуханной его частью, потому что и вони в нем, как я успел унюхать, предостаточно.
– А ведь мы с тобой близнецы, – вдруг пришло мне в голову, и я тут же сообщил свое открытие Колченогу.
– Как это? – удивился он.
– Ты – Колченог, и я – колченог, – хихикнул я.
Он недолго смотрел на меня, переваривая мою мысль, и ответил тостом:
– Так выпьем же за то, чтобы в этом лесу стараниями Навы стало на одного колченога меньше!
– Хороший тост, – кивнула Нава, не замечая двусмысленности.
Из моей головы двусмысленность исчезла после первого глотка. Слегка затуманилось в голове, зато постоянный нудящий шум исчез, и я стал воспринимать их разговоры без каких-либо отрицательных ощущений.
– Колченог, – спросил я, – ты сможешь найти место, где меня подобрали?
– Конечно смогу, – подтвердил он. – Это в Тростниках, Ну, в болоте около Тростников. Мы, вообще-то, с Обидой-Мучеником на Муравейники нацелились, но промахнулись, заплутали и к Тростникам вышли, а тут вдруг как загрохочет наверху, сквозь сросшиеся кроны деревьев ничего не видно, но грохот был страшный. Потом что-то завизжало так противно и тоже страшно, на миг затихло, а потом ка-ак ухнуло, рухнуло, булькнуло, чмокнуло и чавкнуло в болоте, и под эти звуки из кроны вылетел ты и прямиком макушкой в дерево, будто кто тебя из лука, как стрелу, пустил – весь такой в стебелек вытянутый… Шмяк, хрясть, хрусть… И сполз ты по стволу к корням, совсем уж грустный, даже тоскливый… Голова не то есть, не то нет, нога ступней в другую сторону смотрит, и все в кровище, будто тебя вот этой вот наливкой облили. А почему, сказал тогда Обида-Мученик, он из деревьев вылетает, хотя видно, что не птица, и в ствол головой бьется? Человек так не умеет делать. Почему на нем одежда, какая в лесу не растет и расти не может, потому что не лесная? И почему у него бороды нет? У всех мужиков есть, а у него нет. И волосы совсем короткие. Не лысый, а видно, что обрезанные коротко. Почему грохотало, а потом перестало грохотать?… Не родился еще человек, который может на все вопросы Обиды-Мученика ответить, потому что на каждый ответ у него рождается еще десять вопросов. Ну, я и сказал: давай его в деревню отнесем, мужикам покажем – может, кто чего знает? Он сказал: давай, только его так не донести, кровью истечет. И заткнул твои раны мхом, кровь останавливающим, и листом клейким заклеил. Язык у него глупый – глупости болтает, а руки умные – делают, что надо. Ну, я-то со своей ногой нести тебя не мог, а Обида-Мученик здоровущий – взвалил на спину и понес, а из тебя все что-то страшное сыпалось. Я сначала подбирал, думал, пригодится, да и мужикам показать, а то ж не поверят, но потом так страшно стало, что я все в болото и выбросил. Ты уж не обижайся, а такое в деревню страшно нести – мало ли что. Еще вырастет что-нибудь эдакое и вред деревне нанесет.
– Ладно, Колченог, – вздохнул я, совершенно не представляя, что потерял. Потому и жалко не было. – Спасибо, что меня в болото не бросили.
– А тебя мы и не думали бросать. Если б мертвяк был, то бросили бы. Я еще сомневался, мертвяк ты или не мертвяк, а Обида-Мученик сказал, что ты не обжигаешься, значит, не мертвяк. А если не мертвяк, то человек, а человека, если он не вор, нельзя в болото бросать.
– Так покажешь то место? – переспросил я.
– А что не показать, в Тростниках это. Мы на Муравейники нацелились, а попали на Тростники…
– Хорошо-хорошо, – поспешил я вмешаться в его речь. – Вот когда Нава меня поставит на ноги по-настоящему и я смогу много ходить, ты меня отведешь на то место?
– Отведу, почему хорошего человека не отвести, не каждый день летающие человеки с неба падают… Может, там место такое: придем – и еще кто-нибудь упадет? Интересно же. Обязательно отведу, только ты сейчас не дойдешь, а когда на одного колченога в лесу меньше станет, тогда и отведу… Налей-ка нам, Нава, еще твоей сладенькой водички, очень вкусно.
– И для здоровья полезней этой вашей жучаровки! – заметила, наливая, моя хозяюшка.
Я так и уснул, прислонившись к березе, как рассказала Нава, с улыбкой на губах. Она тоже задремала на моих коленях.
На следующий день Колченог принес мне крепкую палку с поперечиной для ладони, чтобы я мог на нее опираться при ходьбе. Нава, правда, чуть обиделась сначала:
– Мне и самой нетрудно подставить ему плечо. Неужто я хуже палки?
– Ты гораздо лучше палки, – улыбнулся Колченог. – Это я тебе как знаток женщин говорю, поэтому тебя лучше употреблять для иных целей. А в кусты он может сходить и с палкой. Я сам с ней заново ходить учился. Теперь вот, гляди, бегаю.
– Пусть и к тебе лес добрым будет, – смилостивилась Нава, но не сдалась: – А в кусты и мне его отвести нетрудно.
– Я знаю, что нетрудно, – кивнул Колченог. – Только для семейной жизни лучше, когда мужик в тебе женщину видит, а не костыль или палку. Кстати, костыль ему уже твоими стараниями не нужен, я вижу, потому и не принес.
Я примерился и сделал, опираясь на палку, пару шагов. Пока не очень резво получалось, но не упал и боли в ноге не почувствовал.
– И с палкой он быстрей сам ходить научится, – добавил Колченог. – Ты ж его на себе носишь, а ему надо нагрузку на ноги давать, мышцы укреплять. По себе знаю. Колченог колченогу – друг.
– А Нава? – спросила она.
– А Нава – подруга, – хихикнул Колченог. – Подружишь, подружишь да и положишь с собой рядом.
– А и положу, когда захочу, – вдруг неожиданно покраснела она. – Потому что он мне сказал, что я ему жена… А он мне муж. Я сразу поняла, что муж, когда еще и не знала, будет он жить или нет.
– Эх, люблю, когда девицы краснеют, – обрадовался Колченог. – Такие трепетные, прям цветочки-лепесточки. Бабочки-стрекозки… Так и хочется опылением заняться, попорхать вокруг… Женами становятся – сразу корой покрываются да иголками ощетиниваются. И не краснеют уже, а только зеленеют от злости.
– Эт с кем поведешься, от того и нахлебаешься, – пожала плечиками Нава.
– Да, девочка, что вырастишь, тем и по горбу получать будешь, – легко согласился с ней Колченог. – Так ведь жизнь она какая? Она трудная – приходится и кору наращивать, и иголки оттачивать… Просто грусть-тоска-кручинушка одолевает, когда видишь, например, тебя, вспоминаешь, что и своя старуха такой была, и представлять не хочется, что и ты станешь ежом бревенчатым.
– А я и не стану, – засмеялась Нава.
– Все так говорят, – вздохнул умудренный мужик.
– А я – не все.
– Эт почему это?
– А потому, что у меня муж Молчун, – гордо объявила она. – Разве ты не видишь, что от него никакой корой защищаться не захочется, а про иголки и вовсе думать глупо. Он же сам беззащитный, будто и без кожи…
– Видеть-то вижу, но как бы тебе, девонька, не пришлось за двоих кору наращивать да иголками шпынять.
– Ты что же, Колченог, полагаешь, я жену свою защитить не сумею? – уже не мог я не вмешаться в бурное обсуждение моей персоны.
– А леший тебя знает, Молчун. Чтоб защитить, жизнь понимать надо. А ее и мы понять не можем, хотя родились здесь… Куда уж тебе!…
– Оно верно, – не мог не согласиться я, непроизвольно насторожившись от слова «леший», но не возникал, потому что разговор своей линией шел. – Но, возможно, тут взгляд со стороны требуется, чтоб разобраться. Когда с рождения одно и то же видишь, то уж и не замечаешь ничего особенного.
– Ну-ну, гляди, Молчун, со стороны гляди… – покивал заросшей со всех сторон головой Колченог. – Только долго ли ты в стороне будешь?…
– А мне кажется, что всегда, – заметила Нава. – Если б он не с неба свалился, а из Выселок, к примеру, пришел или еще из какой деревни, то да – недолго, со всеми перезнакомится, жучаровки вашей нахлебается до падения ствола и осыпания листьев, сразу взгляд со стороны потеряет. А тот, кто с неба свалился, оттудошним и останется. Тем более что головой о дерево ударился.
– А леший, кто это? – наконец решился я спросить – очень мне показалось знакомым слово, даже что-то внутри зачесалось от него.
– Леший-то, – принялся объяснять Колченог, – это лесной человек одичавший, который из деревни ушел и сам по себе живет. У него с лесом свои отношения, а с людьми почти никаких и нет. Он почище чудаков будет – не только прирасти к дереву может, а и превратиться в дерево, или в пень трухлявый, или в кучу листьев прошлогодних, с иголками перемешанных, а потом обратно в человека, то есть в лешего. Какой он человек? Не человек он уже вовсе, существо лесное. Наверное, про лес он все знает, а про людей вряд ли. Неинтересны ему люди. Поэтому и говорят: леший знает – бо он знает то, что нам неведомо, отчего он от людей ушел, а к лесу пришел. Уж и мы зверя чувствуем. А он и сам зверь. Леших и крокодилы боятся.
– А ты откуда знаешь? – хмыкнула Нава. – Сам, что ль, из леших?
– Если б сам, то ты со мной сейчас бы шутки не шутила… Народ сказывал, а народ по крохам знание собирает: один – кроху, другой – крошечку, так и получается, что человек не знает, а народ знает… А ты что так лешим заинтересовался?
– Да слово знакомым показалось, только то, что ты про него рассказал, совсем не про него. Не про это слово. Что-то оно для меня другое значило, а что… леший знает, – хмыкнул я.
– Пойдем к моему одежному дереву, – предложила мне Нава, когда я уже почти свободно научился передвигаться с палкой.
И мы нанесли визиты всем деревенским уважаемым семьям, где Нава радостно объявляла, что я ее муж, а она моя жена. Мне не жалко, хотя я не совсем четко понимал, что она под этим статусом понимает. Спали мы на разных лежанках.
– И ты научишь меня выращивать одежду? – обрадовался я.
– Попробую, – пообещала Нава. – Меня мама научила, а я тебя научу. Твоя мама не учила тебя выращивать одежду?
– Я не помню, – честно признался я. – Я не помню свою маму и не помню, чему она меня учила.
– Тогда я буду тебе не только женой, но и мамой, – обрадовалась Нава.
«А кто же мне будет дочкой?» – спросил я про себя.
Мне почему-то больше всего нравилось мысленно называть ее дочкой. Но вслух я это слово произносить не решался, понимая, что оно ее расстроит. Он хотела быть женой, а не дочкой. Да и то верно, что отец из меня никудышный, – это она нянчится со мной, как с малым ребенком. Мамуля…
И мы пошли. Наш дом был крайним в деревне, дальше начинался лес. Впрочем, он и в деревне начинался, но его время от времени отпихивали, заливая траву травобоем, чтобы можно было относительно свободно передвигаться от дома к дому и особенно когда устраивали общие собрания на площади, то есть на большой поляне, свободной от кустов и деревьев. Правда, кроны их все равно сходились над ней куполом, и солнцу в безветренную погоду было трудновато пробиться.
Мы пошли в сторону от деревни. Нава торила тропинку, ориентируясь по своим особым приметам.
– Ты запоминай, запоминай! – требовала она. – Как от дому отошел, сразу идешь вот к этой старой ели, видишь, какой у нее ствол изогнутый? У елей так редко бывает, поэтому легко запомнить.
Я и запомнил, кажется.
– А от ели в левую сторону, ну, в которой сердце стукотится, во-он к тому дубу коренастому. Ты на другие деревья-то не обращай внимания, а только на те, что я тебе показываю, а то в голове все перепутается.
– А чего это они? – опешил я, увидев, как чуть сбоку от траектории нашего маршрута три дерева неопределенной породы (я вообще в породах деревьев слабо разбираюсь) вдруг присели, изогнувшись стволами, словно по «большому» нужду справить решили, да так и застыли, почуяв нас.
– Я ж говорю, не отвлекайся, – возмутилась проводница. – Голова кругом пойдет… Это прыгающие деревья, прыгать собрались, да передумали. Она не любят, когда за ними наблюдают. Осторожные. Ведь такое дерево, пока оно не укоренится, легко свалить и пустить на распил и хозяйственные надобности. У нас есть охотники за прыгающими деревьями. Занятие опасное, но почетное. Только мне не нравится. Если мы их валить будем, то они от нас совсем упрыгают. А это нехорошо. Это не только наш лес, но и их. Вполне можно и без прыгающих деревьев прожить. Мне кажется, просто мужикам скучно жить становится, вот они дурью и маются… Отвернись, не смотри!
Однако это было превыше моих сил. Я так и выворачивал голову, пока оставшиеся в полуприсяде прыгающие деревья не скрылись из поля зрения. Прыжка их я так и не увидел, только громкий шорох вскоре послышался с той стороны.
– Насмотришься еще, – пожалела меня Нава. – У нас это дело обычное. Если сильно не шуметь и спрятаться, так и увидишь прыжок. А мы, женщины, с ними и разговаривать умеем, можем попросить спрятать, например.
– Как это? – удивился я.
– А любить надо уметь, – посмотрела мне в глаза с вопросом Нава.
– Научи…
– Научу, – пообещала она.
Одежные деревья росли, оказывается, совсем недалеко. Оно и понятно – не набегаешься, если далеко. Но если и совсем рядом, так любой может использовать. В этом деле в деревне был порядок: каждой семье выделялись свои одежные деревья, чтобы друг к другу привыкали. Наве тоже выделили те, что остались от семьи, жившей в ее нынешнем доме. Жену мертвяки унесли, а муж за ней отправился и не вернулся.
– Мне их долго приручать пришлось, – объяснила Нава. – Сначала не хотели слушаться. Но за тебя я попрошу. Коснись их ладонями…
Я положил ладони на гладкий ствол. Ощущение от него было не совсем древесное, а будто слегка живое, то есть животное, – живое-то все, и растения тоже.
– И я рядышком, – прикоснулась к стволу двумя руками она и сообщила: – Это мой муж, мы с ним теперь вместе будем тебя просить нас одеть, ты уж не отказывайся. Он хороший, молчит много, но все равно хороший, ты его и без слов почувствуешь. Ты же тоже молчишь, только шелестишь. Так и Молчун шелестит, я чувствую. Он похож на тебя… А ты, Молчун, представь себя деревом, представь, как сливаешься с этим стволом, как по тебе из земли соки поднимаются, а сверху солнышко греет.
Хорошее пожелание. Странно, но меня оно не удивило. Я знал, что умею перевоплощаться и представлять себя: хушь камнем, хушь бревном, а деревом и подавно, покачаться на ветру очень даже приятно. Вдруг мне показалось, что руки проваливаются в ствол, а за ними и все остальное. Щекотно стало под кожей, и впрямь будто соки древесные по мне потекли.
– Ну-ну! Ты не увлекайся! – пресекла мое вживание в роль Нава. – А то уродом станешь – не то человеком, не то деревом… Что-то ты слишком быстро с ним сроднился, – насторожилась она. – Может, ты и на самом деле урод?
– Ну вот, – я сделал вид, что обиделся, – то говоришь, что красивый, то вдруг – урод.
– Так не в красоте же дело, Молчун! – воскликнула Нава. – Если б дело в красоте, то да, но дело не в красоте. Урод тоже может быть красивым, как дерево или цветок, даже как человек. Все может быть красивым. А урод означает, что он не уродился таким, каким должен был уродиться: человеком, или деревом, или крокодилом, а уродилось незнамо что. Потому и уродом кличут, что не уродилось. А красивым, что ж, красиво – это совсем другое.
– А кто меня знает? – пожал я плечами. – Может, и урод. Ведь не совсем такой, как вы, или совсем не такой.
– Да нет, на урода ты не похож, – почему-то решила она. – От тебя дух человеческий идет, а от уродов я не знаю, какой дух идет, я к ним близко не подходила. Хотя и видела несколько раз, но лучше бы не видела – потом сны плохие снились. Ты лучше не будь уродом, потому что на урода ты не похож.
– Сама же сказала мне представить себя деревом, – улыбнулся я.
– А ты и обрадовался – так представил, что чуть было не стал им.
– А я что, правда в ствол провалился или мне показалось?
– Не ты провалился, а оно тебя признало, – непонятно объяснила Нава. – Но это и хорошо – теперь оно будет для тебя одежду растить. Не думала я, что так быстро у тебя получится. Ты все-таки, наверное, наш, лесной, хотя и с неба свалился. Может, ты на дерево влез и оттуда свалился? Нет, Колченог говорит, что точно летающая деревня пролетала и ты оттуда… А может, ты урод из летающей деревни?… Нет, ты мой муж. Поэтому уродом быть не можешь, – окончательно решила Нава, твердым тоном закрыв вопрос. – Дерево тебя приняло. Давай заниматься одеждой. Это очень просто: надо представить одежку, какую ты хочешь получить от дерева, и послать ему ее образ. Только представлять надо подробно, а то получишь, например, штаны без дырок для ног. Со всех сторон надо представлять. Лучше всего представить, как ты ее надеваешь на себя… И руки на стволе держи, чтобы оно тебя чувствовало, как себя. Только проваливаться не надо.
А я давно уже представил то, чего хочу от дерева. Лежал на своей лежанке и конструировал. Это занятие показалось мне знакомым. Видать, в прошлой жизни, которую я не помню, мне доводилось им заниматься. Правда, чаще видения рисовали мне Наву, срывающую с дерева результат моих фантазий. И дерево я представлял не совсем таким, но не очень далеко от реальности. Дерево оно и есть дерево: ствол, ветви, листья или иголки. У этого не было ни листьев, ни иголок, а только почки или что-то типа почек. Откуда-то должно вылазить…
– Сначала я, – распорядилась Нава. – А ты смотри.
Она положила ладони на ствол и закрыла глаза. И надо же, замолчала!… Все-таки творчество требует сосредоточения. Создание одежды – тоже творчество. Даже в лесу. А может, только в лесу? Хотя нет, она что-то шепчет, вон губы шевелятся, только неслышно. Наверное, они и представлять молча не умеют, шелестящие на ветру жизни.
Конечно, я урод: говоря или внимая говорению, ни связно думать, ни фантазировать не умею.
Ну, помолилась она на дерево и ко мне повернулась:
– Теперь ты.
Я поменялся с ней местами. Посмотрел на дерево, по человеческой привычке пытаясь найти его глаза, но у людей много дурных и вредных привычек, от которых следует избавляться. Я избавился и погладил ствол ладонями. Это было необязательно, но мне захотелось. Дерево не возражало. Мне даже показалось, что оно откликнулось. Глаза пришлось закрыть. Все так делают. И правильно: если хочешь увидеть то, чего нет вокруг тебя, закрой глаза, позволь включиться внутреннему зрению. Я вспомнил, что нафантазировал на лежанке, мечтая о будущем, и оно четко прорисовалось на моем внутреннем экране в мельчайших подробностях: каждая складочка, рюшечка и финтифлюшечка. Даже облачил, кого хотел, в то, во что хотел. Дал дереву полюбоваться. Мне показалось, что ему понравилось. Хотя я сомневался, что ему по силам мои фантазии. Поживем – посмотрим. Может, даже и примерим.
На обратном пути прыгающих деревьев уже не было. Упрыгали.
– Молчун! Эй, Молчун! – раздался зов снаружи. По голосу – Колченог.
Я вышел. У дома топтались трое мужиков: Колченог, Кулак – зять его вдовый – и Хвост, мужик нестарый, но какого возраста, определить было сложно по причине повышенной мохнатости. Он и волосы на затылке в хвост завязывал, отчего, наверное, и получил прозвище. Или это имя?
– Вот и Молчун, – обрадовался Колченог. – Что ж ты, Молчун, сам просился на Тростники сходить, посмотреть, где тебя нашли, а сам в доме сидишь? Это ты должен меня кричать: «Колченог! Колченог! Отведи меня туда, где меня нашли…» Хотя зачем тебе туда, не пойму. Мы уж с мужиками несколько раз ходили, ничего интересного не нашли. Если что и было, все болото приняло. Но если тебе так хочется, давай сходим. Почему бы с хорошим человеком к Тростникам не сходить? Очень даже хорошо с хорошим человекам к Тростникам сходить, а можно и на Выселки или на Глиняную поляну. А может, и правда, Молчун, на Выселки сходим? Чего ты забыл в Тростниках? А на Выселках в деревне уже невесты созревают, скоро кого-нибудь женить будем. Заодно и посмотрим: созрели или почему.
– Не, – сказал Хвост, – я на Выселки не пойду, мне невеста не нужна, у меня жена есть. И дочка. Я на Тростники хочу, там в озере рыба хорошо ловится на шевеление пальцев. И сами поедим, и сюда в семью принесем. Молчун пусть ищет что хочет, а я рыбу пойду ловить.
– Правильно, Хвост, – поддержал Кулак. – Нечего нам на Выселках делать, только душу травить.
– Конечно, – мстительно прокомментировал Колченог. – Кто за тебя дочку отдаст, если у тебя жен воры воруют?
– Кто старое помянет, у того корень завянет! – огрызнулся Кулак. – Тебе бы так по кумполу получить, шерсть на носу, посмотрел бы я, сколько бы ты дочек уберег… Молчуну в Тростники надо, вот мы и пойдем в Тростники, а в Выселки пусть молодые бегают.
– Спасибо, мужики, – прервал я их спор, с трудом вклинившись в непрерывный речевой поток. – Сейчас, только палку возьму.
Услышав зов, я выскочил, забыв про опору. Выходит, что уже не очень в ней нуждался, но путь неблизкий, надо для надежности взять.
– И я с вами пойду! – зашипела Нава, когда я вернулся в дом.
– Да зачем тебе? – отмахнулся я.
– Хочу! Хочу видеть, где тебя нашли. Я бы и раньше могла с мужиками пойти, но не могла тебя оставить.
– Ну, если хочешь, пошли. – Я не видел особых причин возражать.
Из дому мы вышли вместе.