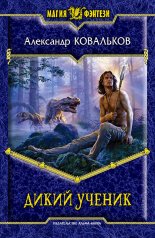Лицей послушных жен (сборник) Роздобудько Ирэн

Она была уже взрослая. Но я сразу узнал ее. И она узнала меня. Мы пошли друг другу навстречу так, будто я только что вернулся «с того края леса», а она просто быстро выросла.
Мы продолжили прерванный тогда разговор без малейшего удивления.
– Ну, и как там, в мире? – с улыбкой спросила она.
В этот момент я почувствовал, что тиски, в которых находилась моя грудная клетка, ослабили свое давление и в нее входит воздух, и его запах показался мне таким свежим и густым, как аромат первого майского меда.
– Завтра сюда придет продотряд… – сказал я.
Так состоялась наша окончательная встреча.
Мы стали жить, как умели, – не здесь.
На кораблях и во дворцах, на вершинах гор и в садах, во всех возможных и невозможных временах и измерениях!
В Зальцбурге обедали с Моцартом, в Руане спасали Жанну д’Арк, в Африке охотились на тигров, ловили рыбу на берегу Тихого океана и каждую ночь наблюдали, как небесные светила собираются в хоралы, чтобы пропеть для нас свою осанну.
Мы жили так тысячу лет. Я жалел только об одном: что мои десять лет из этой тысячи не принадлежали ей, что я сбежал на «тот конец леса», не понимая, что самое главное давно уже встретил на своем пути именно здесь, у себя под носом. Если бы…
Если бы знать, я бы подарил ей десять лет реального счастья – в виде… тарелки с куриным бульоном и куска белого хлеба, о которых мы запрещали себе говорить.
Она таяла у меня на глазах, и, хотя от этого становилась все красивее, я не мог этого допустить. Я знал, что где-то в стенах поместья должно быть золото. Тщательно пряча от других свои намерения, я планомерно простукивал каждый миллиметр своего бывшего дома. И однажды наткнулся на глухой звук, доносящийся из давно умершего камина.
У меня появилась цель: достать нам документы и выехать отсюда, ведь на дорогах все чаще встречались тела умерших от голода, а большинство сельских домов стояли пустыми – от них пахло свежей смертью.
Я сказал, что вернусь как можно скорее, и однажды ночью пошел в город, чтобы выменять драгоценности на важные для нашего побега бумаги. Золото могло творить чудеса. Но мне это только казалось…
Я добыл всего лишь один кусок хлеба.
Возвращался, не зная, как посмотрю в ее синие глаза. То ли время шло медленно, то ли мои ноги стали ватными, но вернулся позже, чем обещал. Последние километры до села дотягивал чуть ли не на четвереньках и чем ближе подходил, тем яснее понимал, что, в отличие от моего восприятия, здесь время скакало, как безумный всадник на сумасшедшем коне: покойников на дорогах стало втрое больше, а дома уже смердели застарелой смертью, как разрытые могилы.
И везде кружилось воронье.
Она тоже лежала на дороге. В разодранной рубашке и – без своей роскошной косы, как будто какой-то зверь разорвал ее на куски, просто так, ради забавы. Теперь она и вправду была не здесь.
Я лег рядом.
И мы лежали так еще тысячу лет.
Разница между нами была только в том, что ей уже было хорошо…
Потом было разное, но мне уже стало все равно.
Я воевал в штрафбате, отсидел в Печорском лагере, смертельно болел, нарывался на нож. Но почему-то всегда выживал – я же был счастливчиком и, как всегда, приносил всем удачу!
Всем.
Кроме нее…
Даже комендант нашего лагеря после встречи со мной пошел на повышение. Тогда за мной и закрепилось прозвище Бит-Бой.
Впервые я услышал это имя в свой адрес от бригады женщин, которая работала рядом с нами на лесоповале.
– Он счастливчик – Бит-Бой!
Так или примерно так прозвучала реплика, пронзившая меня электрическим током. Кто-то из этих бледных, изможденных, отчаявшихся теней мог знать героя нездешних гриновских рассказов!
Я всегда знал истину своего неизвестного учителя: если у тебя в душе есть хотя бы зерно веры в чудо, оно приходит к тебе само – рано или поздно, в горе или в радости, во тьме или в свете. Хотя бы раз в жизни оно вырастает перед тобой, как свежий розовый куст, и обдает своим пьянящим и подлинным ароматом.
Такой куст возник передо мной среди лютой зимы и распиленных сосновых бревен. «Кто мог знать о Бит-Бое?» – лихорадочно думал я, сохраняя в себе и смакуя, как вино, этот неожиданный аромат свежих цветов среди зимы.
Я снова, как учила моя дорогая девочка, оказался не здесь, и тиски, которые теперь стали неотъемлемой частью моей грудной клетки, еще раз ослабили свое давление.
Можно только представить, каким было удивление и какой глубины боль, когда я узнал, что здесь, в лагере, в его женской части, находится та, у кого было столько необычных имен. Ассоль. Тави Тум. Молли. Дези.
Но в одном лице ее звали просто – Нина. Нина Николаевна Грин. Жена моего так никогда и не увиденного учителя…
И она была здесь! В этом мраке. В этой обезумевшей «каперне», куда не доходят ни один корабль и ни одно живое слово.
При первой же возможности (наша бригада пилила дрова, а женщины собирали и сносили их в кучу) я нашел способ заговорить с ней, хотя мой язык в почтении прилип к нёбу.
Если бы не вертухаи – так мы называли надзирателей, – я должен был бы упасть на колено и поцеловать край ее фуфайки. Но она все поняла и так!
Столько лет я шел к загадочному Грину, но нашел его в образе этой женщины с открытым и добрым лицом, которую обвиняли в «пособничестве немецким оккупантам». Она тоже была из той небольшой человеческой стаи, которая умела жить не здесь.
Постепенно, урывками я узнал все, что меня интересовало. И реальность совпала с моими представлениями, только она была еще прекраснее и трагичнее. Обо всем этом вы можете узнать и сами, если захотите…
Удивительно было то, что, путешествуя по стране, я шел по его следам, но попадал в них на два-три шага позднее.
Если бы не эти два-три дня расхождения во времени, я бы мог познакомиться с ним, быть рядом и, возможно, чем-то помочь. По крайней мере, показать, что он не один…
…На протяжении всех этих лет я слышал вопрос к себе: «Где ты?» Так спрашивали случайные спутницы, которые попадались на моем пути, и немногочисленные друзья. Почти такой же вопрос я слышал от своего разношерстного начальства на множестве производств, где работал. Так спрашивали соседи, управдомы, работницы ЖЭКов, кондукторы, милиционеры, продавщицы, клерки, вахтерши, дети. Даже моя канарейка – царство ей небесное! – иногда смотрела на меня своими глазками с тем же немым вопросом: «Где ты, где ты, где ты?»
Весь мир как будто сговорился спрашивать меня об одном и том же, упрекая в моем отсутствии в активной общественной и личной жизни. А я не мог объяснить, что, несмотря на все прошедшие годы, я все еще лежу ТАМ – рядом со своей любимой. Я и по сей день лежал бы на той дороге, если бы…
…Он снова надолго замолчал. И я больше ни о чем не могла спрашивать – только терпеливо ждала. Притихла, как археолог, который, раскапывая Древнюю Трою или разыскивая золото инков, наконец натолкнулся на элемент бесценной находки – и боится копать дальше, чтобы не испортить ее. И этой находкой была я сама…
Он посмотрел на меня, заметил мое волнение и впервые улыбнулся, продолжая рассказ.
– …если бы не встретил эту девочку – здесь, сейчас. Живую, веселую, здоровую, с теми же синими глазами и растрепанными косами. Такой, какой я увидел ее впервые в свои шестнадцать лет на берегу пруда. Она сидела на скамейке в соседнем дворе последней в длинном ряду своих ровесниц и щелкала семечки. Я сразу узнал ее, ведь сходство было потрясающим!
С того времени я начал наведываться в тот двор, садился на скамейку и наблюдал за ней. Это может показаться старческим маразмом, кощунством или безумием, но она действительно была похожа на Марию.
У меня осталась старая фотография, которую я нашел в ее доме на хуторе уже после того, как он опустел, и это было лучшим доказательством того, что я не ошибаюсь. Она сошла ко мне с той фотографии, словно успокаивая на исходе жизни.
Потом случилось то, что окончательно убедило меня в существовании бесконечности.
Как-то девочка сама подошла ко мне и спросила:
– Вам плохо?
И голос, и манера заглядывать прямо в глаза, и косы, небрежно откинутые на спину, а главное, тот же вопрос вернули меня в тот далекий день у пруда, в мои шестнадцать лет…
Собственно, в детском вопросе не было ничего удивительного. Я старый человек, а старым людям часто бывает плохо.
И все-таки вопрос прозвучал именно так.
И я ответил так же, как тогда, поскольку никогда не забывал тот разговор:
– Да, мне плохо…
– Почему?
Теперь я знал слишком много разных ответов.
Но снова растерялся, выбирая какой-нибудь более-менее понятный для девочки девяти-десяти лет.
А потом решил ответить то же, что сказал тогда:
– Потому что мне тесно…
Она протянула руку, положила ее мне на грудь, слева, на сердце, и просто спросила:
– Здесь?..
Конечно, у старых людей всегда тесно на сердце.
Наверное, она знала и об этом.
Но в ее жесте я услышал: «Тесно здесь – или в мире?»
А потом она сказала, что ей тоже тесно, поэтому она хочет знать, что есть за пределами ее двора, улицы и там, «где заканчивается река».
…Теперь у меня есть радость – наблюдать за ней и оберегать ее. Когда она убегает из дома на другой конец города или прыгает с турника вниз головой, когда выходит из дома, растрепанная или голодная, у меня сжимается сердце.
Я не знаю, сколько мне отпущено оберегать ее. И поэтому хотел бы научить тому, что умел сам, – не бояться жить! А если будет слишком тяжело, научиться жить не здесь! А это значит мечтать, верить и… любить.
Он вздохнул и добавил с лукавой улыбкой:
– Прошу простить меня за сентиментальность. Это все, что я хотел вам сказать. Так как, думаю, вы хотели больше узнать обо мне, чем о ней, не так ли?..
Часть вторая
11 июня
Я лежу у себя дома.
С диагнозом «совсем рехнулась». Его поставил Мирослав, как только я переступила порог квартиры.
Интересно, какой бы диагноз он поставил себе, если бы сделал такой скачок, как я: от того гастронома, где он, девятнадцатилетний, стоял в очереди за кофе, до сегодняшнего дня, когда увидел на пороге ту самую «неизвестную» женщину, учившую его зубрить тезисы давно умершего генсека!
А для меня это было прямо «вчера»!
Увидев Мирося таким, каким он был теперь, я и вправду захохотала как ненормальная и бросилась в ванную, на ходу сдирая с себя грязные вещи. Несколько раз он кричал мне, все ли в порядке, угрожал немедленно вызвать Томочку (видимо, для подтверждения своего диагноза) и спрашивал, что со мной делают в этом профилактории – не применяют ли электрический ток в голову?
Теперь, после ванной, я лежу в нашей пока еще общей кровати, уставившись в потолок. Заснуть не могу. Просто лежу и смотрю, как по потолку ползут тени и скачут цветные зайчики. И думаю, думаю…
Нет, не о своих проблемах – к ним я вернусь в свое время. На это у меня есть в запасе почти два дня. Два дня до представления, которое я пропустила много лет назад. И два дня на то, чтобы здесь сыграть свою самую важную роль.
Я думала о другом.
О том, как быстро у людей пропадает память.
Или как быстро человек забывает плохое.
В принципе, и то, и другое – одно и то же.
Помним только хорошее. Колбасу за «рупь двадцать», молоко в стеклянных бутылках за двадцать две, конечно, копейки… Полный покой, остановка посреди истории под названием «застой».
Только два события колыхались на поверхности того жаркого лета – Олимпиада и смерть Высоцкого.
У кого ни спрашивала – называют только это.
И цену на колбасу…
Правда, некоторые отклонения в воспоминаниях граждан все-таки остались.
По крайней мере, наш сосед, крепкий старикан, проводящий дни и ночи на скамейке, вспомнил еще одно знаменательное событие – сто десятую годовщину со дня рождения Ленина, выпавшую как раз на тот год, и грандиозный субботник в честь этого праздника, в котором приняло участие сто пятьдесят миллионов человек. И три бутылки водки, полученные за то, что они с дружбанами вывозили мусор за город.
Мои, наверное, в то же время вскапывали палисадник и белили стволы деревьев во главе с тетей Ниной. Болтали о хорошем, пили водку, закусывая домашними огурцами и бутербродами в деревянной беседке, пели, чувствовали себя счастливыми, верили в лучшее…
А тем временем Сахаров уже был в ссылке за критику вторжения СССР в Афганистан и выступления в защиту «узников совести»: «Надежда человечества – активные, открытые, умные действия людей доброй воли во всем мире, вдохновляемые высокими моральными принципами. Произволу, беззаконию, ограничению прав человека не должно быть места на планете, так же как войне, голоду и бедности…»
Сейчас разбуди какого-нибудь красноречивого представителя власти среди ночи, и он скажет еще лучше, с той только разницей, что не будет верить ни в одно свое слово.
И за это его не лишат должности, звания и родины.
Вот о чем я думала, уставившись в потолок.
О своем личном анабиозе и равнодушии – анабиозе массы умных людей, которым все стало до фени и по фене. Кроме того, чтобы упаковать свои квартиры едой и тряпьем.
Моя душа давно уже покрылась толстенным панцирем и разучилась плакать.
Последний раз это случилось в период после Оранжевой революции, когда я по телевизору видела, как отвоеванный народом (уже бывший) президент награждает орденами и должностями тех, кого должен был сместить раз и навсегда. Теперешний анабиоз – результат этих действий.
Анабиоз тридцатилетней давности выглядел более обнадеживающе.
Поскольку в стае довольных рыб были те, которые выпрыгивали из зацветшей воды на поверхность и этим зажигали других или хотя бы будоражили застойную воду.
Могли написать так: «Господин Брежнев, вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрывал престиж советского государства. У советского государства благодаря усилиям его руководителей и Вашему личному вкладу никакого престижа нет. Поэтому по справедливости Вам следовало бы лишить гражданства себя самого»[1].
Или так:
- Как обезьяна в стае обезьян
- живу, и грешным лбом с печатью грусти
- о твердокаменные стены бьюсь я —
- их грязный раб, общественный изъян.
- Вокруг – лишь обезьяны, чередою
- проходят важно, смотрят свысока.
- Свихнуться легче мне, чем быть собою,
- ну, ни зубила нет, ни молотка.
- О, Боже Правый, тяжкая докука —
- принять умом слепорожденным суть:
- ты в этом мире – только сгусток муки,
- замлевший и разжиженный, как ртуть[2].
Или так:
«Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии»[3].
Кто знает, сколько людей сейчас живет с этим пятаком в кармане, думая, что владеет миром!
Наверное, это были запоздалые и несвоевременные мысли. Я должна думать о другом.
Но во мне действительно назревала та «душевная лихорадка», о которой говорил мой странный и старый собеседник. Мой друг, заронивший в меня ростки этой лихорадки и нездешности.
Мысли скакали, как бешеные кони. Что касается прошлого – там мне осталось несколько суток, чтобы разгадать загадку своей болезни. Что касается настоящего, я все уже решила.
Я приму предложение Олега. Через два дня после того, как одолею свое заикание, скажу ему «да». И буду бороться против этого анабиоза, сколько и насколько смогу. Если шуты изображают из себя умников, а умники шутов – кому нести истину?
…В комнату заглянул Мирось, я закрыла глаза, сделала вид, что сплю. Хотя бы с часок я должна была отлежаться как зверь в логове – отдышаться, зализать царапины, упорядочить мысли. Я лежала на мягкой широкой кровати какой-то иностранной фирмы, на водном матрасе, покрытом шелковой простыней. После ванны с пеной-кремом на основе масла авокадо и мытья головы австрийским шампунем, «увеличивающим объем вдвое».
И все это казалось более далеким и не менее удивительным, чем это удивительное лето. Сгрести бы все причиндалы в большой пакет и вынести туда, где запах зубной пасты «Поморин» и «Бадузана» в пластиковой фигурке в виде уточки были символами безусловной детской радости. Бросить бы это все посреди захламленной кухни и сказать – вот, разбирайте! Вот то, ради чего протекают ваши бездумные и безнадежные дни. Потому что дальше этого «дражайшего пятака» не распространяются мечты и желания половины амнезированного населения…
Кровать прогнулась – Мирось сел рядом.
Пришлось открыть один глаз.
Я представила, что он у меня сейчас похож на глаз напуганной лошади, если его увидеть вблизи, – большой и безумный.
– Сейчас придет Тамара, – усталым голосом сообщил Мирось. – Принесет что-нибудь успокоительное.
Конечно, к кому же еще он мог обратиться, как не к нашей «скорой помощи»!
Я хотела поблагодарить за заботу, успокоить его, что со мной все в порядке, но вместо этого из моих уст неожиданно вырвалось:
– Мирослав, я тебе изменила.
Заполняя достаточно длинную паузу, возникшую между этим сообщением и первой реакцией, скажу, что у меня давно назревало острое и весьма хулиганское желание произнести такую фразу – просто так, ради интереса.
Как-то Томочка, которая не оставляла свою социологическую практику, рассказывала, что с удовольствием провела бы такой эксперимент: люди из разных уголков мира произносят признание в измене (причем его лучше всего произносить безосновательно), а потом фиксируют ответы. На основе этого эксперимента можно написать множество социологических исследований. Это самая лучшая фраза, чтобы проверить, кто на самом деле живет рядом с тобой и что он (или она) о тебе думает.
Томочка считала, что угроза развода может проявить человека во всей его красе или уродливости. Многоопытная и весьма серьезная Томочка приводила массу разных жизненных примеров, самым ярким из которых была история образцовой супружеской пары, в которой все строилось на дружеских, партнерских отношениях, цивилизованно и гуманно до того момента, когда жена неожиданно попросила развод, а получила… нож в живот. Причем – мгновенно, без единого слова. Просто разговор состоялся в кухне, а нож лежал на столе. В другой истории – муж выставил свою любимую зимой на лестницу, сорвав с нее одежду. В лучшем случае обманутая половина переходила на ненормативную лексику. Одним словом, больше половины таких «исследований» из частной жизни наших обычных граждан не вызывали надежды на цивилизованность. Но раньше провести такой самостоятельный опыт у меня не было никаких оснований. А врать я не люблю.
Теперь у меня были основания не врать и воплотить эксперимент в жизнь в чистом виде. И я, затаив дыхание, ждала ответа.
Он был настолько банален, что мне показалось, будто я стала героиней какого-то сериала.
Сначала Мирось произнес задумчиво-угрожающее и довольно глубокомысленное: «Да-а-а-а…» Потом сказал, что он в этом и не сомневался, уж слишком неожиданно я «подалась лечиться». Затем шло еще несколько коронных фраз по поводу моего морального облика, который именно сейчас проявился, так как мое воспитание «всегда хромало на все ноги».
Была еще парочка уколов насчет черной неблагодарности за все то, что он для меня сделал (перечень был гигантский – за всю жизнь не отработать и первых пяти пунктов!). Как окончательный вердикт прозвучало то, что не зря Бог шельму метит. Мирось даже попробовал передразнить мое заикание, но плюнул, схватил меня за плечи, вдавил в матрас, несколько раз хорошенько встряхнул и шесть раз повторил вопрос: «Кто он?!»
Я подскакивала под его сильными руками, но была уже не здесь, потому что поймала себя на том, что способна видеть все со стороны и при этом – думать!
В такой вот ситуации! Я думаю и страшно удивляюсь тому, что, как оказалось, у человека «не было никаких сомнений» насчет меня. Никаких! Все десять лет – никаких сомнений в том, что пригрел на груди змею.
Это было так странно.
Просто странно, и больше ничего.
Но и обидно – а если бы это была только шутка, розыгрыш, тот дурацкий эксперимент, о котором говорила Томочка? Как бы он смог вернуть все назад после сказанного?
– Спасибо, – сказала я. – Спасибо…
И начала одеваться в первое, что попалось под руку. Он выдергивал вещи и снова забрасывал в шкаф. Я доставала другие.
За этим веселым занятием нас и застал звонок в дверь. Закрыв шкаф на ключ, Мирось бросился к своей «скорой помощи».
В коридоре зазвучали голоса – его новый, незнакомый, слишком звонкий, истеричный и тихое щебетание Томочки.
Потом все стихло.
Пошли в кухню, закрыли дверь.
Я села на кровать, тяжело дыша и думая, как бы мне выбраться отсюда, ведь они там, наверное, заняли «круговую оборону».
Но через минуту в спальню вошла Томочка. Вошла как в палату к больной – с сочувствующим выражением лица и красными от волнения щеками.
Я посмотрела на нее новым взглядом. Она до сих пор была похожа на Одри Хепберн, даже выглядела намного лучше ее в ее годы, ведь Одри умерла от рака и на последних фотографиях была чересчур высохшей и утомленной.
Томочка села рядом и взяла мою руку, как хороший врач.
– Это правда? – спросила она.
– Что именно?
– То, что ты сказала Миросику?
– Воплотила твою идею в жизнь, – усмехнулась я. – И могу сказать, что ты была права: человек лучше познается при разводе.
– Значит, это не правда? – обрадовалась она.
– Нет, это правда, – сказала я. – Когда будешь записывать свои исследования, не забудь указать, что такие эксперименты нельзя проводить безосновательно.
Она провела рукой по моей взлохмаченной голове:
– Я тебе не верю.
Я была тронута: оказывается, Томочка не считала меня пригретой змеей. Она сказала и сделала то, что должен был бы сказать и сделать Мирось. Но его поезд уже был далеко позади.
– Это правда, – повторила я. – И я хочу развестись, пока не поздно. И пока у него есть ты.
Она покраснела еще больше.
– Не мели ерунду! У вас хорошие многолетние отношения, стабильные, подкрепленные материальными и духовными ценностями…
– …XXV съезд КПСС определил дальнейшую программу последовательного подъема материального и культурного уровня советского народа на основе пропорционального и динамичного развития народного хозяйства… – скороговоркой подхватила я.
– Что? Да ты больна! У тебя горячий лоб!
– Разве не помнишь, как я тебя учила? – захохотала я и добавила вполне серьезно: – А про свою дыру в сердце тоже забыла? Дыру, в которую я влезла всей пятерней несколько лет назад, а? Ведь если бы не я…
Томочка смотрела на меня широко раскрытыми глазами и молчала. Почти так же, как тогда, в гастрономе. Но теперь ее лицо не светилось таким безупречным бело-розовым фарфором, и уголки губ давно уже опустились вниз. А в роскошной и аккуратной прическе я заметила серебряную нитку седины, которой раньше никогда не замечала.
– Вот теперь есть шанс все исправить… – тихо сказала я. – Человек не может жить с дырой в сердце – рано или поздно это заканчивается дырой в голове.
Она покачала головой:
– Прошлое исправлению не подлежит. А все уже давно в прошлом…
– Подлежит! – весело сказала я. – Если мы этого захотим! Стоит всего лишь найти нужную лазейку…
Можно только представить взгляд, которым окинула меня Томочка. В нем была неподдельная взволнованность – но не тем, о чем я сказала, а скорее состоянием моего психического здоровья. Если так пойдет дальше, то она полностью убедится в том, что надо вызывать «скорую».
Она неловко молчала, переваривая мое предложение. Конечно, решение должно прийти к ней не сегодня и не завтра – я ее не торопила, но знала, что оно наверняка будет. И поэтому даже обрадовалась, когда она перевела разговор на то, ради чего сюда и примчалась.
– А кто он, где вы познакомились – в больнице? – спросила она.
Вопрос, сформулированный почти так же, как его задал Мирось, прозвучал мягко – на него хотелось ответить.
– Это было давно, в 80-х… А он до сих пор живет один, без меня. И это тоже надо исправить.
– То есть ты хочешь сказать, что в детстве у тебя был друг, которого ты встретила сейчас?
Я просто диву далась, насколько четко и просто Томочка сформулировала такую запутанную историю. Внешне все выглядело именно так – достаточно обычно и понятно.
Я кивнула:
– Да, в детстве у меня был друг… Настоящий большой друг. Но его давно уже нет. Зато я нашла другого. И он есть.
– Я ничего не понимаю, но ты уверена, что поступаешь правильно? – тихо спросила Томочка.
– Я уверена, что поступаю правильно в отношении тебя, – сказала я. – А в отношении себя уверена только в одном: я знаю, что такое любить.
Больше я ничего не сказала.
Дала понять, что разговор окончен, отвернулась лицом к стене. И тактичная Томочка, бросив на меня растерянный взгляд, ретировалась из комнаты.
Пока она здесь, пока будет успокаивать Мирослава, у меня есть шанс незаметно выскользнуть из квартиры. Я больше не чувствовала ее своей, быть здесь стало нестерпимо. Все в ней говорило о моей временности. Здесь не было ни одной вещи, которая бы стояла на том месте, на каком хотела бы я, – все обставлял Мирось. И не дай Бог было сдвинуть с места хотя бы тумбочку или стул или поменять занавески. Сначала я бунтовала, потом смирилась, а позже все переводила в шутку. И старалась больше времени проводить на работе…
Я без сожаления закрыла за собой дверь.
У меня было еще одно важное дело. Оно должно было поставить окончательную точку в сомнениях по поводу реальности происходящего.
Я взяла такси и поехала в университетский сквер.
Было почти то же время, в которое мы договаривались встретиться с Олегом несколько дней назад, а точнее, целую вечность назад, когда все в жизни казалось мне сплошным бредом, хаосом и потеряло всякую ценность.
На улице также стояла жара, но теперь я ее не замечала. Сквер был почти пустой, – наверное, люди поняли, что эта аномальная погода все-таки не шутки, и спасались от солнца за занавесками своих жилищ.
У меня была надежда, что пожилые люди не изменяют своим привычкам, и я не ошиблась: фигурка в черном, как сухая ветка, торчала на той же скамейке.
Внизу кружились и ворковали голуби, лениво склевывая с горячего асфальта крошки хлеба.
Аделина Пауловна!
Врач четвертого управления.
Пенсионерка союзного масштаба…
Как только я опустилась на скамейку, она оторвалась от своего занятия – и на меня взглянули знакомые, выбеленные временем глаза. Я подумала, что мне нужно напомнить о себе, но старушка дружески улыбнулась:
– О! Приятно видеть вас. Помню: вы не любите голубей…
– Да, это я, Аделина Пауловна, – сказала я.
Она осмотрела меня с ног до головы профессиональным взглядом.
– Вы похудели? Да, да, очень похудели. Но это вам к лицу. Кажется, вы жаловались на болезнь? Как чувствуете себя? Давление? Температура?
Еще секунда, и она оттянет мои веки пальцами, заставит показать язык – «А-а-а!» – и постучит по согнутому колену ребром ладони.
– Спасибо, – поторопилась ответить я, – все в порядке. Я не была больна. Если помните, вас заинтересовало то, что я заикаюсь…
Кстати, произнося это, я заметила, что говорю почти нормально, и продолжила:
– Вы дали мне совет. Так вот, я им воспользовалась и…
– Что за совет? – с любопытством спросила старушка.
– Ну как же? – растерялась я. – Вы сказали, что всегда практиковали этот метод со своими пациентами – возвращали их в точку отсчета начала болезни…
– Неужели? – снова бойко перебила она меня.
Я терпеливо пересказала ей суть нашего прошлого разговора.
Она слушала и смотрела на меня с неподдельным восхищением.
Наконец в ее глазах засветилось понимание, и она сказала:
– Точно! Это мое изобретение, которое я назвала «ситуативная медитация»! К сожалению, оно нигде не зафиксировано. В те времена было достаточно трудно пройти патентную комиссию… – Она тяжело вздохнула. – Поэтому я практиковала свой метод только с теми, кому доверяла.