«The Coliseum» (Колизей). Часть 1 Сергеев Михаил
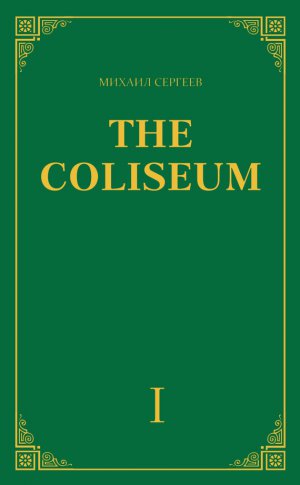
– Надежды на несбыточное похоронили немало политиков… – Анатолий Борисович снова улыбнулся.
– Я не из них. Однако некто, назовем его господин «N», считает, что продешевили и уже.
– Кто?
– Получатели дивидендов. К тому же, напомню, что за месяц до развала Советского Союза никто даже в кошмарном сне не допускал такого. А история любит посмеяться дважды… а то и трижды.
– Вы о Донбассе?
– Об Украине. Сами же просили.
– Возврат?! Крутизна глиссады ваших мыслей впечатляет!
– Лучше бы впечатляли успехи национальных движений. Кое-кто в Европе пришел бы в себя и понял, что нельзя давлением и силой авианосных группировок делить страны на «цивилизованные» и «не очень» – читай тех, кто имеет право получать блага и тех, кто должен смириться с долей их поставлять. Что формы и методы поддержки «бесчеловечности» множатся. Сейчас и на глазах… Вот это – впечатляет! Анатолий Борисович, неужели не замечаете?.. – Борис Семенович с досадой смахнул мнимую пыль со стола. – Некий Сергей Савельев, доктор биологии – уже из наших, рвется к патенту на «Церебральный сортинг» – отсев по признакам гениальности, причем, в детстве! И грозит объединить всё достигнутое на этом пути под одним «новым»!., крылом, полагаю, только лозунг позаимствуют: «Каждому своё»! Целое движение в перспективе. Партия! Уже была одна с патентом… на свободу своих членов от такого досадного понятия как совесть!
– Обычное дело. Хотя и гадкое, согласен, – собеседник, морщась, кивнул. – Многообразие подходов свойственно миру.
Другой «доктор» озаботиться уже низкой рождаемостью русских. Но как только человека увлекли подобные вопросы и касательно именно титульной нации – его смело можно причислять к националистам. А «здорового» национализма не бывает. Так же как и нравственного патриотизма, успешного политика, достойного соперника. Даже великого спортсмена. Ну а уж гениального художника и подавно. Бывает «оголтелый» патриотизм, всегда «несчастный» политик, непримиримый соперник и обманчивая гениальность – этакая ползучая «фрау». Шипя, навязывая и жаля. Вот причины гибели таланта, обесчеловечивания лица!
Метелица отодвинул и придвинул ручку на столе.
– Но! Все одинаково непреклонны в своих целях. А потому одинакова и кровь, в финале любого.
– Пожалуй, с натяжкой, но соглашусь и здесь. Однако и повторюсь – многообразие свойственно миру.
– Искаженному человеком миру. А не тому, в который пустили нас… А здесь проще – фора недобиткам прошлого. Не насилием и призывами, а «наукой»!., как в первом случае, заставят одних мириться, других ликовать, третьих – ненавидеть! Вполне интерактивный подход! И внешность-то у профессора благообразная! – палец Метелицы почему-то уперся в хозяина кабинета.
Дверь тихо приоткрылась и вопросительный взгляд секретаря заставил обоих на секунду отвлечься.
Анатолий Борисович отрицательно покачал головой, женщина исчезла.
– «Всё идет по плану», как говаривал один мой знакомый, – уже спокойнее продолжил Метелица. – Но цель-то одна и ее не скрыть… Одно не получается у них – ни сильным мира, ни его отверженным не удается совершить немыслимое – убить в человеке «начало». Не выходит!
Борис Семенович медленным движением вытянул руки на столе и, шлепнув ладонью по нему, заключил:
– К чему я всё это? В такой «свободе» всерьез опасаюсь за жизнь моих детей… Знаете, в довоенной Германии тоже находились отцы, думающие как я. Однако услышали почему-то «Савельевых». Выяснилось, что таких «докторов» и тогда учили не тому и воспитывали не так. Но у меня-то с памятью всё в порядке! Хоть вы прекратите помогать им, Анатолий Борисович…
Хозяин кабинета, слывущий, не без оснований, человеком умным, откинулся на спинку кресла:
– Вы что же? Отрицаете гениальность?
– Гении просто люди. И гениальность ничего не искупает, но и простить за нее ничего нельзя. Наоборот! Гениальность, как и власть, обязывает. Становится оковами! Вы на руки-то свои посмотрите. Лучше быть простым и нужным кому-то. Просто жить. Не дай нам бог, гениальности-то! Не расплатишься.
Собеседник Метелицы внимательно и шутливо осмотрел ладони:
– Полагаю, ваши опасения напрасны. И потом, я все-таки говорю прежде всего об обществе. Ведь именно оно образует государство, а государство, как известно, есть форма развития личности.
– Но, но! – прервал гость. – Осторожнее с такими утверждениями. Иначе приведу слова другого классика: «Чье государство? Нерона или Чингисхана». А от себя добавлю: а может, которое называлось «Третий Рейх»?
И, усмехнувшись, добавил:
– Или Украина образца четырнадцатого?
Собеседник недовольно потянул щеку, прищурил глаз, но тут же продемонстрировал, что зависть способности аргументировать вызывает у оппонентов не зря:
– Да назовите хотя бы один наш шаг, который вел бы от свободы? Про которую говорите. Свободы общества, людей. Люди-то – попечение ваше – стали зарабатывать в России несравненно большие деньги. Жить лучше. Остановите любого, не богача, а рядового горожанина да спросите – было лучше? Посмотрите сколько на улицах «авто»? Они получили возможность отдыхать за границей, не спрашивая никого! Ни о чем подобном в Союзе и мечтать не могли! Их интересует именно такая свобода! О чем мы ведем речь?!
– Вот в «несравненно» больших деньгах и есть ваша свобода. На них и заканчивается. Узко. Нетерпимо узко! И преступно перед человеком. Нет. Ценить «такую» свободу заставили их вы. Навязали. Конечно, надо было открыть границы. Кто хотел – уехали бы, а вы лишились бы решительного аргумента в споре. Но призрачного! Что касается «рядовых», довольных своим положением, тогда их было гораздо больше. А вот недовольны они были в той же степени. Недовольство – постоянная величина. Но первых точно было больше! Я, простите, жил тогда.
– Да как вы не поймете! Ускорились бы процессы гибели старого. Вот и всё.
– Нет. Возможно, еще и сохранились бы отношения. Людские отношения. Они дороже всякой «гибели». А их сейчас нет. Есть и такая правда… и тоже оболганная.
– Стройте их… отношения. Кто мешает? Мне кажется, каждый сам определяет, быть ли ему человеком, – хозяин испытующе посмотрел на гостя. – На западе – построили.
– Ложь. Не удалось им. Вывороченный, искореженный какой-то получился у них человек. «Черным» африканца называет в угоду политкорректности и – улыбаясь. Но про которую сразу забывает, бомбя их города, убивая во стократ больше, чем обвиняет властителей этих стран.
Метелица отвернулся, борясь с отчаянием.
– А нам… кто мешает нам строить людские отношения?!
– Да как же «кто мешает»? Вы лукавите. Деньги! Заковали людей в оковы пострашней железных в древнем Риме. Там раб хоть стремился освободиться, мечтал! А от ваших оков – хрустящих, звенящих, сверкающих – никто и не думает освобождаться! Наоборот – руки тянут! Лес рук! Взывают… заковать-то!.. – с сожалением добавил гость. – Ни за что не поверю, что вы разделяете идею правления мира золотом. Ни за что! – Борис Семенович легко ударил ребром ладони по столу и окинул взглядом кабинет. – Иначе… мы не поймем, друг друга… – Глаза вернулись, он вздохнул: – Э-э-х! И лес рук-то этих, к вам тянется, Анатолий Борисович… к вам милейший. Вы – инструмент порабощения духа человека… Подмены звона колокольного, монетным! Вот только чей инструмент? Не задумывались?
Было видно, что он расстроен разговором.
– Надо помнить, вызубрить, рабство существует только в одном месте – в рамках собственного представления о нём, и в одном измерении – в себе. Находить, искоренять рабство в других может только сущность, подпавшая полностью под его влияние сама. Опасный для общества неврастеник. В простонародии – маньяк. Они ведь тоже, между прочим – «освобождают». Землю – от «недостойных», себя – от комплексов, общество – от забот. Вы, простите, Анатолий Борисович, от забот? Или от недостойных?
– Ну к чему так строго и жестоко? Я не заслужил.
– Еще раз, простите.
Метелица понимая, что последние слова были лишними, оправдываясь, произнес:
– Неужели не чувствуете, как носитель, отец идеи похихикивает за спиной? А смрадное дыхание? Куда же вы… человека-то? Куда? Ну, уважаемый, трижды мной уважаемый друг!
Лицо откровенно выражало отчаяние. Борис Семенович прикусил губу и неожиданно поменялся в лице:
– Вы, конечно, удивитесь, к чему мол, я… но Толстой, давал три четких признака «искусства» и первый, другие трогать не буду – нравственное отношение художника к «предмету». Кстати, Мопассан, по его же словам, напрочь был лишен именно его.
– К предмету? – Собеседник о чем-то задумался, будто вспоминая, и вдруг воскликнул: – Стоп, я забыл фразу: «Ну, вы даете!»
– Я произнес ее за вас. А «предмет» – события, которые описывает, поступки героев. Оценка автора должна быть ясной, а не скрытой, понятной, а недвусмысленной!
– Не поверите, – хозяин кабинета выставил локти на стол и сложил руки в замок, – но я действительно удивлен! Вспомнил! Я читал об этом в одной книге.
– Верю. И напомню: в моей книге.
– Возможно… – тот смутился, что случалось крайне редко, но сразу пошел в наступление: – И к чему? Я не Мопассан.
– Мопассан не Мопассан… Все мы… – Борис Семенович склонил набок голову, задумавшись на секунду, – хотел сказать «немного», но скажу… в разной степени «Мопассаны». А напомнил к тому, что каждый поступок человека, будь он чиновником, простым работягой или бизнесменом, и есть его маленькое произведение. И каждый из этих трех… каждый!., обязан задаваться вопросом своего отношения к детищу. Есть «обычная» радость приобретения – ее видят все и можно пощупать, а есть «тихая», когда сжимается сердце и только для тебя. Только-то она и приводит туда. – Он кивнул вверх, поставил тоже руки на стол и опер подбородок. – Это… когда нет в кармане приготовленной мелочи… и ты оставляешь бродягу ни с чем… Но вдруг остановился и вернулся… Знаете – ни с чем не спутать. Ведь и возвращаешься не к каждому! Вернитесь, Анатолий Борисович, вернитесь…
Хозяин умел слушать. Умел ценить. Умел ошибаться. Он умел всё, потому и не был похож на коллег, как две капли воды напоминавших своих предшественников – поступками, делами и финалом.
– Однако пора… – гость посмотрел собеседнику в глаза уже по-другому. – Вам известно моё отношение к вам. К честному, порядочному человеку. Немного найдете таких в своем окружении… думаю, не ошибаюсь. Потому как цените преданность вашим взглядам, а не общества, ругательства которого игнорируете. Не формирует что-то ваше государство личность с большой буквы, уж, простите. Не растут грибы… Но и вы пример… и еще какой!., пример, как можно желая обновления жизни, невольно цеплять и душу человека. Правда, и до вас бывало… пестрит история-матушка великими покойниками. Да с живого спрос особый – собственный. И неизбежный. Если допустите на мгновение, а умом, повторю, не обделены – что не то несете в мир… поймете, кто союзник…
– Ну, по Александру третьему вообще союзников только два – армия и флот! – попытался отшутиться статный, симпатичный человек, кабинет которого всегда преображался, гордясь и принимая своё новое место.
– Это у России, а не у вас.
– Ну, наверное, не всё так печально, господин писатель, – на лице хозяина появилась улыбка. Та единственная, искренняя, и которая, если сберечь, решает всё. Последнее мужчине удалось.
– Знаете, в чем тотальное, я бы сказал, непреодолимое расхождение между писателем и властью?
– Такое уж непреодолимое?
– В том, что вы хотите сделать жизнь людей лучше, а я – самих людей добрее.
– Обе цели достойны.
– Нет. Это как идолы и храм в одном месте.
– Это радикализм!
– Это христианство! Исаак Сирин – безмерно уважаемый святой! Если быть точным, он сказал: «Правосудие и милосердие – что идолы и храм в одном месте».
– В любом случае странная фраза.
– Лакмусовая бумажка!
– Чего?
– Близости к Единосущному. Степень понимания этих шести слов и есть степень такой близости.
– А как вяжется правосудие к нашему разговору?
– Его вершили вы. И вершат сейчас. Я же просто не вижу. Так вот, если поймете… слова-то, для вас даже вид из кабинета изменится!
– Ну, друг мой, тогда расхождение точно непреодолимое. Мне значимость их недоступна.
– Но ваша цель тогда – недостижима.
Глаза гостя уперлись в стол.
– Можно завалить людей гамбургерами, гаджетами, роллс-ройсами – они будут сыты и тщеславны. Жить будет удобнее, но… жить ли? Ведь и падать. Сытым – точно легче второе. Только голодный поймет такого же. Только больная душа почувствует боль другой… пораненной. Вы хотите дать им, что есть у каждого миллиардера, однако счастливым себя не назвал еще никто! Никто! Услышьте это!
Борис Семенович вздохнул, расстроенный резкостью тона и уже тише добавил: – А вот, если мы станем дороги друг другу, ваша цель отпадет, будет достигнута одномоментно…
– Так не станем! Миллиарды!
– Станем. Я – близок. А вы – не хотите сделать и шагу. Хотя бы ко мне. Начните, Анатолий Борисович, прекратите отступление… от своих близких. Они не в убеждениях. Убеждение – среднего, неопределенного рода. Это не семья, и не…
Хозяин вздрогнул, протянул в сторону гостя руку, пытаясь возразить… но не успел.
«Динь-динь-динь». На аппарате с гербом России зажегся огонек.
– Простите, Кремль.
– Привет соучастникам… – пробормотал Борис Семенович, тяжело поднялся и неторопливо направился к выходу.
Уже у лифта его догнала секретарь:
– Куда же вы… куда? Анатолий Борисович просит вернуться.
Метелица посмотрел на нее:
– Обязательно вернусь. Непременно. У меня теперь и выхода нет – так и передайте.
Створка лифта бесшумно скрыла спину от глаз удивленной женщины, которая с тех пор, неслышно заходя в кабинет шефа замирала, неизменно видя того стоявшим у окна.
Тот разговор Борис Семенович еще долго вспоминал, сожалея, что не решился на него раньше, но сейчас перед глазами всплыли… очертания самой знакомой комнаты…
– Прямо так все и было?! – голос Крамаренко заставил вздрогнуть уже его.
– А я… что?., рассказывал?., сейчас?.. – Борис Семенович медленно приходил в себя. Друг улыбался.
– Я даже любоваться начал. То «вы», то «тебе»… мешать, думаю, не буду – дослушаю. Да… такого состояния не испытывал… Про Достоевского что-то бормотал…
– А-а-а… Борис Семенович, будто от усталости, выпрямился. – Ты помнишь, где сидит Достоевский в Москве?
– У «Ленинки», где же еще? У «Российской государевой библиотеки», по-нынешнему. Да ты прямо спроси: что такое Достоевский эф-эм?
– Зачем, – насторожился хозяин.
– Так половина молодых отвечает: радиостанция! – Он расхохотался, поднялся и хлопнул друга по плечу.
Тот оставался серьезным.
– Ты пойми… нельзя рассматривать и оценивать наследие человека вне его жизни, поступков. Этим и занимаются «профи» от искусства, аналитики истории, власти, ну, и всяких шоу-идолов. Тут не просто обман, тут вызов! Преступление! Если это не так, то… помнишь, в той самой книге, автор предлагал водрузить на постамент кое-какие пейзажи фюрера – ведь был художником… баловался кистью-то. Кстати, самый известный вегетарианец. Однако «художества» в жизни явно перевесили труды. Но, смею утверждать, вышли оттуда! А вегетарианство не помогло, как и нынешним аскетам. Порыться, так какой-нибудь критик еще и хвалил. Никому в голову не придет выставить картины на обозрение. Как и безвестную пьесу динамитного короля Нобеля. Столь почитаемого за деньги… Во, как славу купил! А замаскировал! И ведь берут! Мечтают! Унизительней награды не придумать. Удивительно понятное продолжение судьбы… И того, и тех, кто мечтает. – Он вопросительно посмотрел на гостя. – Трумэны, Буши, Саркози – приемники особого Союза художников… тоже побаловались… кистью, только пейзажи выходили одного цвета. Красного. Как тебе самый большой вернисаж в мире? Какие уж там «виноградники в Арле»! В этот раз медленно сползаем в яму-то… с каким-то нарастающим страхом в той медлительности. Обозначен новый подход к делению людей. Пора вырубать профили в новой скале! Печатлеть! Ну и, само собой – поклоняться! Думаю, родился уже тот, кому дано принять эстафету и утопить пару континентов в крови. А сколько инфицированных ими? Да, да! Из Союзов тех художников… много нынче наплодилось. Масштабы потрясают! Вот как работает оценка «вне» поступков! Или объявить их образцовыми! Вот как надо закрывать глаза! Вот как нужно убивать в нас человеческое! А скольких уродов мы слышим, смотрим и читаем сегодня? За кем идут наши пацаны на площади? Кого выталкиваем вперед? Вдумайся! Почище холерной палочки – та убивает тело, эти – травят псами образ и подобие в нас! Загоняют в угол, там, внутри. – Метелица вздохнул… – И уступает он место псам, и превращаемся мы в манекены… Тоже, между прочим, подобия… догадываешься кого? – Эх, да что там говорить! – Мужчина отчаянно махнул рукой. – Работягу судят за кражу и то, читают характеристики с работы. Имеет, знаете ли, значение! А тут выносят «сладостные» приговоры направо и налево, умиляясь и аплодируя при этом. И серьезно!.. – он погрозил пальцем, – серьезно!., обсуждают «достоинства» в телепередачах и трудах! Не дай бог, оказаться рядом и возразить – затопчут! Печатать Сорокина можно и дальше, но какую еще мерзость должен сказать Ерофеев о нас, о России, чем должен плюнуть ей в лицо, чтобы гной ненависти избавил его холеность от своего присутствия. Не-е-т, нужен… надвигается новый подход! Назрел! Нарыв вот-вот лопнет! Только надрежь!
– Ну, и ты, конечно – в хирурги?
– В самые беспощадные! Без анестезии! Чтобы помнили!
Крамаренко резко повернулся: – Тогда режь первым Достоевского!
Метелица ошеломленно посмотрел на него и опустил голову. Прошло несколько секунд.
– Зачем ты так… Виктор…
– Ну… дорогой, всё по-честному… – Тот смутившись развел руками и снова присел.
Часы пробили два. Минутная тишина разбудила иные мысли, иные воспоминания.
Хозяин поднял на гостя глаза:
– Знаешь куда он смотрит? От «Ленинки-то»?
– Хм, – гость усмехнулся, понимая, что высказался не к месту, – как-то не думал. На спуск от… башни, по которому поляков в смуту гнали. Не любил их… классик-то наш, вместе с евреями. А теперь мост под присмотром. Ни за что бы, ни обратил внимания…
– Э, нет… бери выше… на восток он смотрит, на восток. – Примирительным тоном возразил Метелица, кивнул в сторону окна, и, наклонившись, взял со столика газету:
– Далеко, далеко, – он бросил на друга загадочный взгляд, – за пять тысяч километров от Москвы, с горы Пикет, что в Алтайском крае, смотрит на Россию Василий Шукшин. Как же велик тот художник, что повелел ему быть дозором над совестью нашей… Сидя, задумчиво глядит русский человек на просторы родной земли под ногами, на сотни верст вокруг. Верст и весей, впитавших потерянные деревни, церкви и родники былой России, дух ушедших людей и судеб. Мало подобных мест, по охвату взглядом, найдется на Руси. Потому и смотрит не вдаль грустный Достоевский в центре первопрестольной, что смотреть ему там некуда. Да и не на кого. Уже давно. По-разному искали они правду. По-разному понимали. Один разглядел ее в людях, другой – в духе земли. Но тайны коснулись оба. И теперь навек застыли воины слова. Непонятые, ненавидимые, как и родина их, но принимая поклон народа русского. Застыли, далеко-далеко, но рядом. Плечом к плечу. Заслоняя, как и при жизни, Россию от ворога – один с востока, другой с запада. Потому как главный ворог – внутри!
– Ну ты пригнул! – Крамаренко восхищенно поднял брови, хлопая в ладоши. – Могёшь!
– Да какой там, «могёшь»! Думаешь, все эти новые русские диссиденты, озвучивают новую идею? Отнюдь. Просто объявляют новую цену крови. Существенная дефляция! Цена – падает!
– Но, согласись, коррупция, чрезмерная вертикаль власти, одиозно предсказуемый парламент… раздражают. И, прости, никто не говорит о крови.
– Да, да. Добавляй загрязнение Арктики. Перечисляй уж всё, за что зовут побороться. Раньше – «за пролетариев всех стран». Сегодня цели пожиже, потому и умалчивают, что цена – жизнь. Именно за это они спрашивают: готовы? Пролить кровь?
– Ты не слышишь. Никто этого не требует!
– Еще как! Нахраписто, открыто, злобно! Жаждут! Жертвоприношения-то! А не слышишь – ты. Но это не беда – беда, что твои слова используют эти «новые», и молодежь идет за ними. Ты посмотри к чему катиться на Украине! Еще успеешь подискутировать с собой. Только мне и без примеров ясно – увлекут, приволокут и бросят на съедение. Матерей бы, убивающихся по ночам, им вместо роговиц. Чтоб пожизненно смотрели! Куда тянут-то!
– А вот еще, – хозяин развернул газету: – Соколов Нил Евгеньевич. 1894 года рождения. Заведующий отделом редких книг. Фотографии нет. Ушел добровольцем в сентябре 1941. Через три месяца пропал без вести. Жил, работал, грел. И исчез. Страшно подумать, к чему привыкали люди, к чему вообще может привыкнуть человек. Ведь такое случалось каждый день! Какой блок, какая защита стоит в нас? Уберегает от сумасшествия? Как удается ей разделить утренний восход и тлен еще вчера протянутой руки? И глядя на свою, ощущаешь вложенное, отданное. Но она такой же тлен, только отложенный. Ты пожал ему руку, а завтра… пустота, небытие, безвременье. Не человек, исчезает что-то другое… заботливо поставленный в холодной комнате чайник, доброе слово, улыбка. Это они отражаются в глазах, которые ты помнишь. Но в них и боль… как обидел его, нагрубил… не извинился. Отложил на потом. Тлел. Но прощение в тлене не живет… Сколько таких вокруг тебя? И сейчас… Не откладывай. Не забирай с собой долги.
– И всё это после бормотания-то! И к чему? – Виктор Викторович Крамаренко развел руками.
– А к тому, что ты сейчас на той части святой земли русской, которая еще родит… «греющих» – Сибири!
– Эко тебя плющит, Борис, последнее время. Лучше скажи, как с книгой? Скоро издание? Давненько не отмечали твоих гонораров, – и с удовольствием потер ладони.
– Книга… Книга? Книга! Я бы ее как учебник в литинституте ввел. И предмет новый заодно – прикладная литература.
– Даже так? В каком смысле?
– Вот прикладная математика служит применению в производстве. А литература обязана в жизни. Главная цель обучения! Ты об этом студентам говорил? Хоть раз?
– В опосредованном смысле – да.
– Ну, опосредуй дальше. Метод и пестует «посредственных».
– Хочешь меня обидеть?
– Хочу привлечь. К исполнению своих замыслов.
– Тогда лучше ответь, скоро гонорар? – Крамаренко снова потер руки. Способность находить позитив во всём, взяла верх и тут.
– Деньги? Виктор… о чем ты… – собеседник вздохнул. – В последнее время, как ты говоришь, со мной происходит удивительная метаморфоза. Все более неважным становиться отношение общества к написанному, и всё более значимым для меня самого.
– Вот как?
– Скажу больше. Писать в стол, используя перо как инструмент исправления себя – вот христианский путь таланта. Без соблазнов публичности, без лести и похвалы. Без критики рождающей озлобление. Лишь бы текст не отвергал своего творца и принимал замечания только… оттуда, – и медленно поднял голову.
Крамаренко закатил глаза кверху, покачал головой и тут же опустил их, одарив собеседника озорной улыбкой:
– Ну, дружище, я уже не студент лет тридцать пять и таким параллелям предпочел бы, скажем… ушицу из омуля, о которой обмолвилась твоя жена… раз уж гонорара не дождаться, – настроению гостя можно было позавидовать. – Не отказался бы и от ста грамм. – Он рассмеялся.
Последнее означало: разговор хорошо бы закончить, и перейти к известному, впрочем, не только друзьям, ритуалу.
Хозяин – Борис Семенович Метелица – понял. И к разочарованию некоторых читателей, не вскинул вверх руки и не стал изображать возмущенного Короля Лира. Тем русские персонажи всегда и отличались от других, во все времена. Правдой в душе, а не постановкой ее на сцене.
Через пять минут на кухне запахло рыбой и хорошим настроением.
Ангара
Полина была в растерянности. Не сейчас, не в эту минуту, а вообще. Вчера, во второй раз за эти дни, она потеряла подругу. Лена исчезла. Куда? Как? Просто не вернулась домой. Крамаренко говорил с мужем, надеясь найти женщину у них, чем и поверг в ступор еще и супруга. Лишь звонок матери, чтоб не теряли, что в аэропорту и скоро вернется, давал какую-то надежду.
Полина повернула ключ зажигания, «ягуар» как обычно рыкнул, однако на полпути, посреди моста ее потянуло вправо. Выйдя из машины, женщина увидела спущенное колесо и только… Но события, время, и место не бывают случайными.
– Ваше степенство! Ваше степенство! Оно уходит! – маленький бесенок тыкал корявым пальцем в шину. Колесо шипело, выпуская натруженный воздух.
Старый черт, склоняясь над насосом, пыхтел и обливался потом.
– Уйди, уйди молодежь! – зло повторял он.
– Так без пользы! – скакал вокруг бесенок… – я ее хорошо…
– Дурачье! Вам за грошик всё! За монету! Вдаль не смотрите! Дальше рыльца не видите!.. – он манерно выругался.
Бесенок рассмеялся.
– И спускаете им! Если б только колеса! Эдак-то! Тьфу! – черт устало повернулся к молодому и оставил насос. – Упустил… пропади всё пропадом… опоздала, опоздала дамочка. Эх! Улетит…
Наша героиня, увидев только последствия, расстроилась окончательно и села в машину ждать «аварийку». В беспомощности, опершись на руль, она провожала взглядом монотонный и одинаково равнодушный ко всему поток автомобилей. Их хозяева ушли недалеко. То же самое делал и понимал только старенький «ягуар». И хотя ниточка жила, теплилась, Полина поймала себя на мысли, будто что-то мешает ей всякий раз в эти дни добежать, пересечь финишную ленту; что никак не может найти ключи, которые открыли бы в закоулках ее опыта маленькую комнату, где лежали все ответы. Не раз, натыкаясь на ту дверцу, в раздумьях странной недели, стоя перед ней, женщина шагнуть дальше не могла. Что-то мешало. И если раньше она хотя бы «шарила» по карманам, тем же закоулкам и сумочкам, то сегодня поняла – ключи потеряны. А состояние на потерянность, обрекала мысль, что нечего было сказать домашним, убитой горем Галине Николаевне, да и знакомым, которым тоже придется всё как-то объяснять.
«Виновата ли ты в этом? Нет!» – давала твердый ответ женщина. «Да!», – настойчиво пытался пробиться другой голос. «Брось, – говорил третий, – займись реальными проблемами – своими». И все были правы. Но такое случилось впервые. Состояние ни подавляло, ни раздражало. Сознание, вспомнив «право» уставать, вяло отдыхало, лишь иногда реагируя на вопросы.
К чему и куда унесли его мысли, путался даже автор.
Полина была не только продвинутым пользователем гаджетов с разными примочками вкупе, но и правильно, как считала, ориентировалась в здоровом образе жизни – новом фетише, новых идеях. К примеру, она точно знала, что диеты приносят больше вреда, нежели пользы. А фитнесы с тренажерами – приманка и плата за «воздух». Как и покупка средств для похудения, биодобавок и прочего. Ведь польза от здоровья, с чем она соглашалась, зависит вовсе не от денег и аптеки, а от ума – в чем и утвердил ее знакомый мужа, доктор наук и врач.
«Прямой путь к целлюлиту – бросить занятия в фитнес-клубе, – говорил он. – Достаточно перерыва в два месяца, чтобы потерять нажитое годами нагрузок и столько же прибавить после шести. Никогда не поднимайтесь по эскалатору! По той же причине».
Она помнила наизусть разговор с год назад. Мужчина оказался балагуром и весельчаком.
– То есть нагрузки требуют постоянства?
– Это главная тайна клубов. Как и страшная тайна табачных компаний – курить бросить нельзя. Их тщательно скрывают. – Последнее она знала. – Представьте, с самого начала вам говорят, что назад пути нет… это как игла. Начнете? И я бы нет. Один мой друг, после таких доводов пытаясь возразить, вспоминал кто «по жизни» бросил курить. Не смог. А ему под шестьдесят. Назвал многих… «завязывали» и на три, и на пять лет. Брат отца, по-моему, не курил пятнадцать – и начал! В клубах же, учтите, девять из десяти инструкторов от сохи. В лучшем случае – «качок» с физкультурным образованием. Подумайте, кому доверяете себя. «Особенности национальной охоты» широки, как и просторы любимой родины. А особенности реакции тела, дальше бицепсов из голливудских поделок, их не интересуют. Им нужны только ваши деньги! Только!., деньги!
– Но говорят другое!
– Многие верят! – он рассмеялся. – Его смазливость и образцовое тело – доход для хозяина клуба. Что гораздо важнее знаний, которых никогда и не было. Именно персонал – реклама, главный фактор на разводке. И тут, как заметила одна пациентка, уже с проблемами – хреново быть бестолковой, простите за прямоту. Читать надобно-с. И не детективы с романчиками, которые не жалко оставить в вагоне. Здоровье потеряете… – припечатал врач.
– А как же… – Полина начала перечислять знаменитостей, которые не разделяли такого мнения.
– Да все инвалиды! – отрезал тот. – Но кто ж в этом признается? Покопайтесь милая хотя бы в «инете» – много интересного найдете. Только представьте вечно бегущую бабу. Что от бабьего-то в ней остается? Ни ласки, ни отзывчивости, ни заботы. Всё оставила там и тем. Где на массаже, а где на тренажере, – и снова рассмеялся, не стесняясь намека. – Деловитость, решительность и упорство – вот, чего добьешься. Оно вам надо? А бросишь – задницу разнесет. Так же и беготню по эскалаторам. Ловушки для идиоток.
– А как же с фигурой?
– Не надо жрать после шести.
– И всё?
– Всё.
– Неубедительно…
– Тогда ведитесь на бабки!.. Та же самая пациентка – слова ее из опыта. Поняла, что там много таких. Душенька, великий миф о «гиподинамии» великого технического переворота – не первый способ добычи денег из «воздуха». Напомню, что дворяне не занимались никакими фитнесами, а жили долго. Монархи, писатели, служители муз. Вы не первая с таким вопросом, даже пометил, – он наклонился, достал из стола листочек и прочел: – Тютчев, Толстой, Россини, Вагнер, Лист – все за семьдесят прожили. А Репин, Ренуар, Моне, Штраус, да и современники: Корней Чуковский – за восемьдесят, а Михалков – за девяносто… да, тот самый, автор нашего гимна, – и, заметив удивление, покачал перед нею пальцем: – Нет, нет! Не потому долго прожил, что автор, – мужчина лукаво посмотрел на нее, – а потому что размеренность ценил! Потому и стал автором, повторно. Так-то!
– Ну, а Бертран Рассел, – добавил он, – потомственный аристократ – девяносто семь. Кстати не раз сидел в тюрьме за пацифизм – черное пятно на совести Британии двадцатого века! Причем второй половины века!
– Я слышала об этом от знакомого, – Полина вдруг вспомнила Андрея. Ее удивляла не только уверенность, но и способность собирать, стягивать и бросать в собеседника самые неожиданные факты. Из разных времен и эпох. В чем-то оба казались схожи.
– Заметьте, ни один не бегал, не копался в огороде, – продолжал тот. – Не разбивал суставы, не садил позвонки, а просто жил. Полагаю, и зарядку-то не делали. Размеренность и спокойствие – вот рецепт тысячелетий! Этакая элегантная неторопливость. И побольше романов.
Доктор хихикнул.
– Каких романов? – насторожилась женщина.
– Книжек, книжек, дорогая моя. На ночь. А не выяснение отношений с мужем.
– Ну, с этим-то я согласна. А вот…
– Думаете, жены их спортом увлекались? – «весельчак» уморительно хмыкнул. – Увы… А «этим», – он кивнул в сторону окна, – нужны только ваши деньги!
Все это напомнило Полине нынешнее состояние: была уверена в одном, а случилось другое. Казалось, жила, вышло – толкалась на полустанке. Опять ошиблась. Только правильность «другого» никто не преподнес… оно само говорило с ней. Пока тихо, пока неуверенно.
Следующим утром она долго сидела за чашкой чая, и вдруг спросила мужа: «Послушай, а у нас всё в порядке?». Затем, оглядев комнату, которая тоже удивлялась необычной тишине утра, добавила: «Я имею в виду необходимое… всё, что у нас есть, и было… и будет нужно…».
Валентин Львович, уже в пальто, вернулся из прихожей:
– Квартира? Мебель?
– Да, да… – рассеянно ответила Полина, – мебель. И шторы, люстры, диваны…
Муж в недоумении нахмурился. Конечно, он понимал ее состояние, но замотался с комиссией из главного офиса, и по утрам старался не отягощать головную боль от вечерних застолий. Однако, мирясь и жалея, посильно принял участие.
– Я бы на твоем месте уехал в «Электру» – так называлась, если не ошибаюсь, база отдыха, по дороге на Байкал. Ну, где вечные семинары. Помнится, там, в прошлую осень уже лежал снег в это время. Отдохни, развейся… да от лишних вопросов подальше. И не забудь, сегодня театр! Ладно… я пошел.
Он повернулся, уверенный, что его помощь состоялась, как уверены все мужчины, поднимая ноги при уборке квартиры супругой.
Полина не услышала ничего. Она поставила в раковину чашку, прошла в гардеробную и остановилась в нерешительности. Перед ней висели манто, шубка из меха альпийской козы, два плаща, еще что-то, еще и еще…
«Какой сегодня день?» – попыталась вспомнить «оставленная» всеми, но ничего не вышло. Отпуск, теперь уже ненужный и бессмысленный, продолжался. Женщина усмехнулась. В более глупое положение наша героиня не попадала – жизнь научила ее планировать каждый шаг, взвешивать каждое слово. Почти каждое, как и многих из женщин. Пока не останутся с кем-то наедине, где потеря головы, случается, необходима.
Через два часа она медленно шла по бульвару Гагарина от того самого банка, где Лену видели в последний раз, к острову «Юности». По крайней мере, такое название помнилось с детства. То, что с подругой случилось вовсе не потеря памяти, или не просто потеря, – Полина избегала слова «ужасное», – было вне всяких сомнений и напрягало. Но и сомнений в причастности самой к этому тоже не было. Она даже не могла представить с чего начать разговор при встрече с матерью Елены, чем успокоить. И потому не торопилась. Не звонила. Не напрашивалась. Всё выглядело настолько нелепо, даже гадко… будто бы она сама, именно сама влезла во всю эту историю, дабы подтвердить, снискать лавры… которые сейчас виделись сомнительными. Её активность, которая несколько дней назад казалась единственно верной, обернулась неосторожностью. Излишней и показной. «Муж и жена – одна сатана, – Полина поморщилась, – полезла в чужую семью… как медведь в посудную лавку, – так перефразировали уже другую поговорку в крае, где выросла, родила сына и жила. – Попридержать некому. Всё ясно, понятно… что делать – знаю. Вот всегда так. – Ей тут же вспомнился случай, когда ругала себя за то же самое. – А ясно ли? Понятно? Чему хотела помочь? И так ли искренне? Да… хорошенькое дело! Еще полиция затаскает».
Полина с раздражением достала платок и высморкалась: осень, обманчивая ласка ветра и расстегнутый плащ делали свое дело.
«Думать надо было, а не играть. Ведь ты сама, да, сама, там, в кемпинге, слушая и злясь на подругу, разве не оставалась эгоисткой? Да разве хоть один твой поступок, и не только сейчас, был до конца честным? Считать виновной одну Елену в отчаянно-растраченной жизни, которую подруга именно так и представила тебе в недолгие часы откровений? Но только ее, Елены, откровений. Наслаждаться беспомощностью близкого человека. «Вкушать». И «бить», напоминая. Ты, шагающая по бульвару, и не думала ответить тем же. А ведь она ждала!» – эта мысль больно резанула по самолюбию. Резанула, потому что не была оправданием. А место «удобных» мыслей, в логике шагов, решений и оправданий, давно стало определять последнее.
И в «странной» болезни, свидетелем которой Полину сделала именно эта логика, женщина вычеркивала себя из причин такой растраты. Делала неприкасаемой, завидуя потери памяти несчастной. Растрата, казавшаяся окружению благополучием, ее не касалась. Но окружению можно простить – ему всегда известна лишь улыбка, маска. Полине же «выскользнуть» не удалось… потому что известно было и другое.
Донаслаждалась! Завидуя. «Какое странное сочетание чувств», – мысль, оседая, открывала новые для нее рельефы разума, – «наслаждаться, завидуя». Подумать только!., получать удовольствие от нравственного мазохизма». Полина вдруг поняла, что ей нет никакого дела до подруги. Что «болезнь» совершенно ей безразлична. Что если бы результатом всего стало самое худшее, она спокойно бы перенесла финал… и продолжала жить.
«Вот и всё твое отношение к людям. Как ты до этого дошла? – женщина чертыхнулась. Но мысли, проклятые стражи совести, добивали: – Ведь ты одобряла все поступки дочери Галины Николаевны и участвовала. Согласись, в половине из них даже улыбкам не находилось места – оно было занято лицемерием. Почему одобряла, для чего участвовала? Да ради себя. Прежде всего, ради себя. Примеряла порядочность… наряжалась… Чтоб не испортить отношения с влиятельными родителями подруги, чтоб не поссориться, не дать повода. Трусиха! Гадкая трусиха! Нет, ты знала, что не могут такие люди мстить, даже просто обидеться! Не вяжи их сюда… ищи другое! В своей «серости», в лживых комплексах. Да оно на ладони!.. – ты желала, стремилась участвовать и «одобрять», чтобы заглушить ту липучую, мелкую зависть не только к ее положению, благополучию и карьере, но и к доброте Галины Николаевны, деликатности отца, глубине его мыслей. Непонятных и далеких даже для близких. Ты и получив всё, после замужества, не справилась с этим чувством, а лишь запрятала, затолкала в угол и приказала – молчи! Ведь была же не согласна со многим в принципах Елены – всё «тверже» стоявшей на ногах женщине. Кстати, как и Борис Семенович. С ее «способами» выживания. Но молчала. Не ты молчала – совесть. А ведь рядом был союзник твоей честности… – старший Метелица. Ты и его оставила в одиночестве! А он понял бы, да что там – был бы благодарен! – Полина резко остановилась. – Так он видел меня насквозь!., конечно! И ждал! Боже! – Она в отчаянии зажала рот кулаком и закрыла глаза. На лбу выступили складки. – Нет, нет! В этом моей вины нет! Он просто погиб. Только не это!»
– Женщина! Что случилось? Вам нехорошо? – прохожий, пожилой мужчина с тростью, заглядывал ей в лицо.
– Спасибо… все в порядке, – она уже вытирала слезы.
– Да разве ж может быть всё в порядке, – сожалея, тихо пробормотал тот, и уныло, побрел дальше, а Полину мысли вернули назад, осыпая градом прежних вопросов:
«Да и после замужества, «приобретя», ты не справилась… Когда нужно было пристроить Люду Уткову – племянницу из далеких Богдановичей – в университет, ты просила об этом Елену. А мужа?., в выездную лабораторию столичного кардиоцентра? «Пристраивала» всё! Нужных людей, свои чувства, чужое, но «веское» для тебя мнение, теряя и забывая об уважении к собственному. И «собственным» уже считала «пристроенное». Та просьба была, конечно, без унижений, подобострастия и лести. Прежнее ушло. Ты превратила ее в обыденный разговор. Но позволить себе могла, лишь твердо зная, чем заслужила право на такой тон. Сменой статуса. Однако он всегда требует измены себе… и ты пошла! Да разве только это можешь ты сейчас вспомнить?» – Полина раздраженно перебросила сумочку в другую руку.
Так, злясь, в легком смятении, она двигалась вверх по набережной. Сейчас женщина понимала, что всё было оплачено. Всё. И ею. Не только университет, семья, положение, но и многое другое. Даже отношения, позволяющие вести себя так. Неравенство – вот что болючей занозой сидело внутри. То, с чем боролась, старалась забыть, вычеркнуть, преодолеть, хотя бы внешне. Тщетно. Потому что борьба та была не с собой.
Полина усмехнулась: «Ты, прямо, как «новый русский», бросив торговать джинсами и освоив алюминий, начал срочно восхищаться Моне, заставляя и жену без запинки выговаривать слово «импрессионизм». Нет, не выкорчевать и не вырваться. Не убедить. Стать равной «по плану» – не получится. Есть статус, который не купить – он несравненно выше, и дан каждому. Не продаются права, возможности быть снисходительной к нужде других, отзывчивой к несчастному, переживать с томящимся. Такой путь туда закрыт». И тут же услышала возмущенный первый голос: «Да разве надо тебе это? Оставайся и надменной… когда надо. Когда требует жизнь… она не ошибается! И снисходительной, если нужно. И доброй, и вежливой, если на виду. Обманывать себя можно! Ведь не других же!»
Полина остановилась. Она уже слышала этот голос… «Где?., когда? Нет, нет! Я не согласна! Было бы не так! Не так! Я искренне помогала бы людям, всем, чем могла бы… стань такой же, как Ленка. Равной. Я не повторю ошибок. Мне нужна самая малость. Я поняла. Матисс для статуса не нужен! А «Очарованного странника» я читала вовсе не для этого! Не в них дело!..»
Тут она вспомнила о событии неделю назад, которое, как понимала сейчас, было «первой ласточкой». Женщины бродили по выставке – привезли часть работ с московского «биеннале». Тогда же Полина впервые искренне удивилась… но не экспозиции, а подруге. С работами было всё ясно, как и каждому, кто бродил вдоль полотен и конструкций, заложив руки за спину, или стоял, глубоко задумавшись. Позы и движения посетителей были маской, как и магия имен обмана.
Она помнила тот момент… Может «изменения» начались тогда? Говоря что-то восторженное у одного из «творений», Полина заметила на себе странный взгляд Елены, которая, чуть погодя, спросила:
– А тебе важна виртуозность мастера, способность передать сходство? Манера? Или своеобразие видения, как у поклонников абстракции? Что ближе?
– Да, в общем, интересно всё.
– Короче, просто считаешь долгом? Побывать? Чтоб не ударить в грязь лицом?
– Да ладно, – засмеялась она тогда. – Сама же учила: способность поддержать разговор, как и показать ум, прямо зависит от упругости кошелька.
– А я принимаю искусство только в одном случае… с некоторых пор, – Елена вдруг опустила глаза.
Это движение никак ни вязалось со словами, брошенными секунду назад. Да что слова – с привычным образом подруги. И пока удивленная Полина мерила ту взглядом, «изменения» продолжались:






