«The Coliseum» (Колизей). Часть 1 Сергеев Михаил
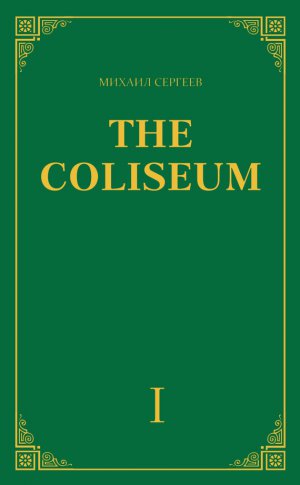
– Боже, какая же из них привела меня сюда?! Неужели перепутала!
«Другого у меня ничего нет, – понимая бессмысленность вопроса, подумала Елена. – Одна – вернуться во дворец. У кого она теперь? А вторая? Куда ведет вторая?
Что случится со мной? Ладно, хуже не будет!» – женщина выдохнула и резко дернула струну.
Путешественница поневоле, она стояла на проспекте посреди современных зданий. Слева, вдали, шумело Садовое кольцо, и просматривались купола церкви.
«Москва! Значит, вторая, – наша героиня облегченно повертела в руках струну, – но что же это было?..»
«Сухаревская башня, Пьер Безухов – ее любимец, украденный Людкой Толстовой, которая сходила с ума от романа. Минуту назад здесь, на Мещанской, Троицкой – нынешнему Проспекту Мира… впереди обоза ехал умирающий Андрей Болконский… а Наташа не подозревала… но Толстова уверяла – знала. Говорила, что Наташа знала? Или знала сама? – пыталась вспомнить Елена. Мысли путались. – Зачем мне всё это?»
Так, размышляя, женщина двигалась вдоль домов. Через пару минут она достигла цели.
– Вы сегодня уже второй человек, кто интересуется. С утра-то я был в управлении, а мой заместитель приняла женщину… Тоже очень интересовалась. Впрочем, сейчас древности в моде, – директор усмехнулся.
– Так, о книге… – Елена не обратила внимания на последние слова.
– А что книга? Её привез много лет назад, точно никто не знает, один из несчастных, что обрел здесь пристанище. Самого-то помнят, потому как прозрел. Уникальный случай. Однако без странностей не обошлось, – директор с любопытством смотрел на посетительницу, как бы раздумывая, интересно ли ей всё это.
– Да, да, я слушаю, рассказывайте, рассказывайте! – спохватилась Елена, уловив взгляд.
– Помниться, проклинал какой-то замок грез. Всё, конечно, похоже на вымысел, этакую притчу… – директор смутился. – Бабка тут одна была, сторож. Лет пять, как померла. Всю жизнь проработала здесь… да еще с отцом ребенком захаживала. От него место и приняла. – Он помолчал. – А вы, что занимаетесь топонимикой?
– Да нет… надо. Очень, – на лице женщины было такое отчаяние, что тот не задавал больше вопросов.
– Но раз интересуетесь, – директор пожал плечами, продолжая свою мысль, – может доля правды и есть. Тогда в приюте была церковь «Равноапостольной Марии Магдалины»… ее разрушили после революции. Да… привез-то он точно из Ливадии, дворец там царский, ну вы слышали, Ялтинская конференция сорок пятого… Сталин, Рузвельт, Черчилль. А тогда был бардак, простите за грубость. Места мне те памятны, часто ездил отдыхать с детьми. Так вот батюшка считал книгу-то чудотворной. И завещал беречь, хранить. Это ж та императрица, при которой государь завел вторую семью, – и, видя недоумение в глазах гостьи, пояснил: – Я на историческом учился… Как умерла, тот и обвенчался, ну и через год его убили. Как по приказу. Наша старуха так говаривала. От нее и про книгу узнал. Крепкая бабка была. Кладезь. Помнила все события и даты. Ей бы преподавать… В миллениум девяносто лет чествовали, домой ездили. А зачем он привез? Кто знает? Церковь разрушили… купола, говорят, были необычными – свет в окна от заката давали, а с керосином сами знаете, в те времена.
Он снова замолчал.
– До войны был институт слепых.
– А книга?! Где адрес-календарь?!
– Может, с библиотекой… раздали. Таким же. У нас – особая литература. Специальная, для чтения пальцами. А эта никому не нужна. Перед закрытием отсортировали, много ветхого было, пришлось утилизировать. Впрочем, тоже, только слышал. Да и положено.
– Так она точно ветхая! Позапрошлый век!
– Я же говорю… ненужная вещь в институте слепых-то.
– Боже! – Елена закрыла лицо руками. – Всё кончено. Всё пропало… – Она медленно побрела к выходу.
То, что произошло с ней за последнее время, подсказывая и направляя, привело, наконец, к главному. Тому, где крылась разгадка. И вдруг это же самое, невидимое и непонятное, будто бы издеваясь, оборвало нить. Всё рухнуло. Где и как искать таинственную книгу в огромном мегаполисе. Да еще сообщая помощникам, найдись такие, что пропала книга не вчера и не тридцать лет назад. Да ее просто поднимут на смех. Елена была в отчаянии. Дверь показалась очень тяжелой…
– Постойте! – увидев совершенно нежданную реакцию на безобидное сообщение, директор подошел к ней. – Знаете, тот священник, а всё происходило при нём… понимал «ненужность»… мог отнести, скажем, на сохранность… А куда? Кому-то из надежных знакомых… скорее, в церковь. А ближайшая – «В листах», на Сретенке, обратитесь. Знаете?
Женщина закивала.
– Заместитель сегодня вашей «коллеге» так и посоветовала. Если у них – считайте, повезло… не теряют. Не в пример нам, грешным. – С виноватой улыбкой, но чувствуя важность догадки и оттого радуясь, мужчина посмотрел на нее. Находя, правда, несколько странной.
Елена бросилась на улицу.
Отец Боян, настоятель храма, вел службу размеренно и чинно. Слова разобрать было сложно. Но это не мешало многочисленным верующим креститься и отдавать поклоны, когда батюшка делал это сам. В том нехитром труде и состояла обязанность внимающих. Так они считали всегда. Так считали их деды и прадеды. Но последние еще и понимали для чего. Ведь они читали «Очарованный странник», а не билборды.
Служба закончилась. Священник, качая головой, говорил что-то мужчине, который совсем измял руками кепку. Елена подошла.
– Да нет, батюшка, и деда-то не помню, а прадеда – и не знаю, кем был… Прямо «Иван не помнящий родства… – услышала она.
– Да кто ж сказал-то вам такое? – священник укоризненно смотрел на него. – Разве же в памяти родства добродетель человеческая? От лукавого все ваши «Иваны». От родства до родовитости – один шаг. А как же быть с детдомовскими? С сиротами? Какая же это беда? А кто укоряет… сам родословную забыл… а она у всех одна – человече ты… Помнить надобно, что не животным, не зверем каким родился… А с этим, ох, как худо, ох… худо нынче. Брат на брата, отец на сына… не слыхивал? А в семьях до чего доходит? Матерей задушить готовы. Таких-то забывчивых и спросят там, – он указал глазами наверх и перекрестился. – В Царстве-то Небесном не все узнают друг друга. Там родство не по крови, а по духу. По духу соединяются люди! – повторил он. – Да и на земле такое родство единственное. Тогда и любовь, и семья, и дети настоящие. А коли тут не случилось – и там не сыщется. А вы… «Иваны»…
Тут отец Боян заметил ее. Несколько секунд священник стоял неподвижно, вперив взгляд в прихожанку.
Елена не помнила, что говорила.
– Да вы же сами ее и забрали!!! – даже стоявшие поодаль оглянулись. – Вынес-то показать… так вы ж – как схватили! И бежать! Скандал-то, господи какой был! – он снова перекрестился. – Принесли?!
– Что?! – в свою очередь воскликнула Лена.
– Книгу!
Двелекции
Андрею третью ночь не спалось. И не оттого, что он прочёл письмо – с ним было всё решено, и даже не оттого, что странное отношение к нему после гибели тестя, которое находило в его мыслях прежде хоть какое-то объяснение, сейчас исчезло. А оттого, что причину исчезновения такого отношения он, наконец, попытался найти не в людях окружавших его, а в себе. В том, что недавно узнал. Люди эти – Виктор Викторович, Лена, ее мать, знакомые, словно по команде, по какому-то молчаливому сговору вдруг стали относиться к нему с тем тактом и заботой, которые совершенно естественны совершенно в других, счастливых, как ему казалось семьях. Но не в его. Это-то и делало состояние молодого человека странным. По крайней мере, для них. Он чувствовал. Однако круг близких относил всё на не совсем здоровое состояние Андрея. Что не скрывалось… Нотки сочувствия, незаметные просьбы дать зятю отдохнуть или приглашение к ужину – звучали иначе. Иначе, чем прежде. Мужчина и сам был готов поверить в свою немощь, лишь бы не расстраивать близких. Старался без возражений слушать далеко неслучайные разговоры с председателем, уже понимая другое – даже легкое несогласие с другом семьи было ненужным в том, что начинал строить в себе, менять, на что надеяться. Порой ему казалось, будто лепестки невероятно большой сказочной розы, медленно расступаясь, приглашали подойти поближе, присмотреться, еще раз свериться, заглянуть в даль, которую заботливо прикрывали от него прежде. И мучаясь, постоянно размышляя об этом, он пытался найти, что забыто, не сделано им, перед тем как решиться на задуманное. А последствия могли быть чрезвычайными. Галина Николаевна уже в годах, даже более того. У Елены что-то не ладилось на работе, да и в малопонятных ему отношениях с «благотворителями». И потому мужчина не удивился, когда посреди ночи ему вспомнился разговор Пьера с князем Андреем из толстовской эпопеи. Он знал его почти наизусть – отношения двух совершенно разных людей были важной частью его диссертации. Отношения бывающего злым и резким Болконского, руководимого непомерным тщеславием, и Пьера. Отношения дворянина, все воззрения на мир которого состояли в снисходительной надменности к салонным тиражам человеческого типа и которые изменились одним днем сражения, видом купола неба, бездонного и всего лишь красивого, как думал раньше, и страшной картиной изуродованных тел – чудовищным результатом ущербности духа кумира миллионов, как понял потом… с близким человеком, другом – большим, сильным, хрупким и наивным. Отношения разумного героя и неразумного участника памятного разговора – трогательного сердцем, но абсолютно ненужного той жизни, в которую вытолкнула его мать. Именно Безухову, и только ему, нужен был Болконский. Именно он, и никто другой, нуждался в нем искренне. И князь чувствовал это, становясь настоящим, «внесалонным», «несветским», неизменно «упрощаясь», когда они были близки.
И эти тройственные «отношения» – Андрея с Еленой, её окружением и князя с Безуховым, сойдись они в одну точку, соединись с тем самым «бездонным», – образовали бы «настоящее», то, что и надо бы называть человеком. Но причудливый симбиоз двух Андреев, жены и Пьера не складывался. То ли знания «наизусть» великого романа было недостаточно, то ли его героям не хватало личной оценки мыслей и поступков современников… его, Андрея, современников. А может, просто от несогласия с неустроенностью жизни здесь и сейчас, от неумения «ходить» по-иному или нежеланием по-прежнему. Нежеланием даже просто сожалеть или отвечать за сделанное самим… и, конечно, с богатейшей палитрой нравственных оценок своих поступков, потому что второй Андрей, в эполетах, всей непомерностью и напором, которыми обладал, входил в него, первого Андрея, эти три ночи, становился между ним и лепестками, отодвигал и вытеснял мужа, зятя, сына. Оставляя только окружение – расплывчатое и зыбкое, без трех первых. Но определяющее. Окружение, которое никак не хотело меняться со времен эпопеи, не сомневаясь в полезности придуманных «новых» взглядов, «новых» ценностей. Сменить же его, как это удалось, пусть на время, «хрупкому» и «наивному» герою прошлого, и уже в этом романе, Андрей никогда бы не решился.
Таковым и виделся молодому человеку калейдоскоп сомнений, ошибок и безнадежности, посреди бурь человеческого счастья. Счастья, которое он порой видел в улыбках и веселии вокруг. Счастьем причудливым, непонятным, неизменно ускользавшим от нашего героя. Но и призрачным, ненастоящим. И вот он, он!., один из смертных, решил разобраться с этим. Решил бросить вызов обману, который душил… Освободиться от «полезности», «напора» и «непомерности». Надышаться ароматом сказочной розы.
Наконец, Андрей заснул. Но назвать это состояние тем привычным, знакомым каждому словом было нельзя. Никогда еще, ни наяву, ни в сновидениях, он не испытывал того, что пришло к нему этой ночью, настолько странным, невероятным казалось событие потом… Будто кто-то любит его сильно, сильно… но страшно. Именно страшно. Это не был чей-то порыв, протянутые руки или немой восторг, нет. Но чья-то обволакивающая воля. Кого? Или чего? Кто желал слиться, принять его, ощутить согласие? Ни один образ, известный ему как человеку, не подходил. Но все они были частью личности, поражающей своей глубиной и силой, чьей-то всепроникающей воли, частью неведомого, которое прикрывалось великим чувством, маскируя и заслоняя им свое ужасное начало. Сон длился недолго. Но именно длился… он хорошо это помнил. В отличие от «обрывочного» и редкого, как бывало прежде.
Такого страха Андрей не испытывал никогда. Потом, уже проснувшись, он долго думал… Отчего страх присутствовал в любви? А что это была она, молодой человек не сомневался. Любовь заявляла о себе не как результат увиденного – он ничего не видел, не как следствие чьих-то действий, хотя «нечто» двигалось, обозначая себя, и обращалось к нему, а как чувство, которое спутать ни с чем нельзя. Ибо если предположить, что ты ошибся в нем, то и понимание, кто ты есть сам, должно отойти на второй план, уступая определению любви этой волей… ее приговору. Холодная, абсолютная, она исходила из чего-то непостижимого разумом. Незнакомый прежде опыт, заявив себя, приводил в смятение. Как рыбка из аквариума моряка, выращенная заботой и любовью, уверенная, что весь мир и есть стеклянные стены ее дома, вдруг по хозяйской небрежности попадает в океан, и в смятении цепенеет. Страх и ужас приходят потом. Так и Андрей, в какое-то мгновение почувствовал, что раздавлен. Не уничтожен, а раздавлен и подчинен.
И вдруг… освободился. То было не облегчение. Сравнение не подходило. Рождение, жизнь! Возврат обратно. Обретение знакомого, привычного, несовершенного, порой отталкивающего, но родного. Кто-то дал Андрею, почему-то только ему, почувствовать разницу – где бы мог оказаться человек, не имей защиты… И где может оказаться, отринув ее. Защиты покровителя, объявившего когда-то о нем миру.
И все беды, горести и преступления, насилия и смерть, все страсти земные отошли, потеряли значение и смысл, как испытания, как терпимое зло, которое ни с чем уже и никогда бы не спутал.
А потом он видел себя молодым, жизнерадостным… даже юным. Студентом, подающим надежды, и не только преподавателям. Впрочем, не только надежды, но и сомнения, как и однажды, на лекции.
Тема «Гений и злодейство» не особо заинтересовала студентов – настолько была затаскана. Предложение написать к этому дню эссе также не нашло откликов, кроме одного. Профессор снял очки, положил в футляр и произнес:
– А теперь послушаем другие соображения… я надеюсь. Один из вас их подготовил, остальные, возможно, выскажутся по ходу. Прошу, – он кивнул Андрею, сделал шаг к столу и присел, уступая кафедру.
Пока молодой человек спускался, кто-то из сокурсников, под смешок соседа, выкрикнул:
– Сколько не пиши, Пушкиным не станешь!
– Во-первых, я пишу прозу, – нашелся тот.
– Уже?! – не уступал весельчак. – И как оценивают во дворе?
По аудитории прокатился смех.
Однако докладчик не обратил на это внимания и, раскладывая памятки, добавил:
– Во-вторых, не хочу быть как Пушкин. С его комплексами, тщеславием и даже непониманием мелочности своих поступков.
Зал загудел.
– Поконкретнее! – раздался чей-то возглас.
– О чём? О чём он?!
– Я о мстительности, лицемерии.
– Ну-ка, ну-ка? – профессор вернул очки в руки – место, предназначенное для особых ситуаций, – и откинулся на спинку стула.
Андрей осмотрел аудиторию. Любопытство одних мешалось с ухмылками остальных. Отведя взгляд в сторону, и как бы обращаясь к невидимому слушателю, на лестнице у стены, он начал:
– В битве при Бородино главный удар по багратионовым флешам пришелся на дивизию графа Михаила Семеновича Воронцова. Дивизия погибла. Вся. Триста оставшихся от девяти тысяч раненных солдат и пятьдесят офицеров, вместе с проткнутым в штыковой атаке самим командиром, были перевезены в его имение, где и выздоравливали. Вместе. Как и воевали. Подобные отношения – между чиновником такого уровня и простым человеком – не повторились уже никогда в нашей истории. Именно отношением людей друг к другу, а не военной наукой решился тогда исход сражения.
Зал притих, но тишина была настороженной.
– При Краоне, уже во Франции, случай поставил Воронцова один на один с армией Бонапарта, двукратно превосходившей его корпус. Два соединения, спешившие к месту сражения на подмогу – опоздали. Воронцов выстоял. Не сдвинулся ни на шаг… Там же, на чужбине, женился на знатной польке – из Браницких. А от поляков, как известно, все беды на Руси – то в Киеве засядут, то во Львове, то в Москве, – он уже смотрел прямо в зал.
Тот снова загудел. Докладчик повысил голос:
– Будучи назначенным командовать оккупационным корпусом во Франции, перед тем как по приказу покинуть страну, – продал имение и расплатился по всем долгам русских офицеров. А в Париже их сделать легко, сами понимаете. Брал Варну. За пятьдесят лет до окончательного изгнания турок с Балкан. Одесса, по сути, отстроена Воронцовым. Крым обрел дороги и города во время именно его губернаторства. Воистину, за державу не щадил живота своего. Это вам не сегодняшний чиновник. Один из двадцати шести лучших людей империи, отлитых на памятнике тысячелетия Руси в Великом Новгороде. Между прочим, на пожертвования граждан. А среди них Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Петр, Екатерина… Но в большевистскую теорию не вписывался – причину скажу ниже, если успею. Прекрасное образование, полученное в Лондоне, воспитание в традициях верности отечеству дома, сделали Воронцова настоящим гражданином. Примером всем русским.
Он помолчал, будто чего-то выжидая.
– И вот, именно об этом человеке Пушкин написал:
- «Полу-милорд, полу-купец,
- Полу-мудрец, полу-невежда,
- Полу-подлец, но есть надежда,
- Что будет полным наконец».
Это к вопросу совместимости гения и злодейства, поднятом в литературе поэтом. О вместимости гением мелочности и мстительности, которая нивелирует различие между людьми, стоят ли они на монументах, или носят к ним цветы. Снимающая такой вопрос вообще. Добавлю: неспособность заметить и обобщить это, уравнивает дважды. В то время как строки – дважды разделяют. Разорвал, углубил пропасть автор – между Пушкиным человеком и Пушкиным поэтом.
Андрей умолк. Курчавая голова наследника «гнезда Петрова» привиделась каждому понуро опущенной… С ладонью прикрывающей глаза. Зал умер. Но тишина имела власть над ним, ровно до мгновения, когда лестное каждому «уравнивание», было попрано выползающим наружу рабством язычества, которое никуда не делось и не ушло, но точно знало, сколько можно позволить выжидать лести. Родственной, чудовищно родной и к тому же – женщине, властвующей над всеми персонажами жизни и этой книги без исключения.
Спины слушателей распрямились – мгновение пришло.
– А чтобы стихи не родились, – отчеканил Андрей, – Воронцову предлагалось всего лишь… отдать свою жену. Гению. Тот практически уничтожил героя. Вот и вся правда. Она миновала закомплексованного Александра Сергеевича и во многих других эпиграммах. Уже через год, и уже другой даме – Анне Керн, поэт писал: «Я помню чудное мгновение…» Начал с Воронцова, а кончил нелицеприятной, оскорбительной издевкой над Екатериной Великой. Тоже, между прочим, женщиной. И так много раз… Кому интересно – подойдите после.
Зал очнулся.
– Хочешь сказать, если бы поэт волочился за женой Багратиона, мы не знали бы и его? – голос с галерки заставил всех обернуться.
– Именно. Пушкин устраивал большевиков неизмеримо больше графов и князей, среди которых были достойнейшие люди России. Иначе, в их теории произошла бы нестыковка. Не останься в Ялте дворца графа Воронцова, о нем бы вообще никто не вспомнил. Такие уж мы ничтожества. Если поднимаем, так до небес, но топя и забывая правду. Как и между собой, и сегодня, – он оглядел аудиторию. – А потому… всё, что нам выпало… и выпадает – поделом.
Наверху зашептались.
– Займу еще минуту, – Андрей достал из кармана лист. – У Бенкендорфа, шефа жандармов, которого оболгали большевики, было около пяти тысяч агентов. Во всей империи… со всеми тайными и прочими. – Он поднял глаза. – А Пестель – идеолог декабристов – планировал сто двенадцать тысяч. Весь Кавказ хотел переселить в Сибирь, царскую семью вырезать «под корень», до последних троюродных племянников. Куда до него Сталину! Но на допросе выдал больше всех. Несостоявшийся палач, не выжил. Попытка зла удалась только через сто лет.
Реакции не было.
– А вот боевой генерал от кавалерии Васильчиков герой «Бородина», так же оклеветанный и забытый большевиками, и тогда решительно защитил Россию, спас ее от «декабристов» и катастрофы. Ведь государь сомневался – применять ли силу.
– За противление злу насилием?., что ли?!.. – раздался возглас.
– В точку! Надо, надо идти на баррикады и митинги супостатов. Крушить их. Сейчас они уже не красные, а разноцветные. Сбивают с толку колоритом. Таким же лживым, как идеи учителей.
– Так вывод-то?! Какой вывод?
– Простой. Если негодяй и подонок захватывает власть – получаются «Гитлеры» и «Сталины». Их бесчеловечность становится видна всем и без «Пушкиных» – из инструмента – самой власти. Когда иссякнет возможность скрывать. Если же человек со всеми комплексами и недостатками, недугами и червоточинами духа становится поэтом, художником – они выливаются на страницы, картины, труды. Что гораздо хуже, потому как власть – преходяща, а последние – на века. Как и человек. Он остается прежним, собой перед грядущим. Кем бы мы его не объявили. Но увидеть это «прежнее» мы стыдимся. За редким исключением. Поражает общая доверчивость к навязанному. Особое отношение к их мнению. Прощение всего ради «величия» наследия. Хотя никакой «особости» в них нет. Как и у каждого. Оно ошибочно. История не знакома ни с одной исключительной «особью» среди нас. Она знает лишь претензии! Вот им-то – нет числа! Ну, еще нашим уверениям в чьей-то исключительности… Поразительное упорство в самоунижении. И завидное постоянство. Если властитель дум сказал: «Это плохо, а то – нет» – верим, пока не узнаем, что философия братоубийственна. А если поэт – пока кто-то не откроет глаза. И никакое «учитывание» заслуг не может быть оправданием! Если его нет для простого смертного. Потому что не может быть никакой привилегии, ни у какой биографии, ни у чьей роли, или места в истории. А памятник – всего лишь мертвый камень. И холодный. Мы, – он рукой обвел зал, – точно не хуже! Если – поэт, значит, чего-то другого не делал. Например, землю не пахал. Я не вижу большей заслуги писателя перед планетой, чем у пахаря, который его кормит. Потому как заслуга та не в труде над страницами, или на земле. А в труде над собой, в чем Александр Сергеевич – явный аутсайдер. Да уж прямо скажем… неудачник. Как, впрочем, и тысячи его собратьев, что на устах миллионов. Вот и всё.
– Значит, все-таки протест? – профессор с любопытством подался вперед, переводя взгляд с аудитории на Андрея и обратно.
Студенты насторожились.
– Смотря какой и кого. Вон, Бертран Рассел – потомственный английский аристократ, лорд, Кембридж, математик и философ, пацифист двадцатого века – постоянно сидел за взгляды. Англичане ох как не любят это вспоминать! В шестьдесят первом за то, что устроил митинг в годовщину Хиросимы – посадили в очередной раз. Одну из своих книг продавал за шиллинг! Безупречное отношение к деньгам. Ему важно было другое – мысль должна была дойти до каждого на земле! Мир перевернется, если дойдет до каждого! Но… был атеистом, и финал печален – в конце жизни «ухнулся» в свободу половых отношений для каждого из супругов. Годы протеста против ядерного оружия, работы до самоотречения, оказались прожитыми зря. Умнейший, образованнейший человек, в чьем желании помочь людям, миру, нет никаких сомнений, стоит у истоков движения, которое через ребенка из «пробирки», через суррогатное и черт знает какое еще в будущем материнство, приведет к чудовищной катастрофе. Перед которой все ядерные бомбы отнесут ко временам «господства» морали. Так определят последователи «новый» путь! Рассел не пришел к «озарению» Пушкина, которое прощает тому всё: «Среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Понимаете, всё! Ведь это Эверест «человеческого» не только в поэте, но и в каждом! Заметьте, как только атеист – в конституции морали появляются сноски! Да что Рассел! Сколько «мелочи» суетится на том пути от «оранжевых», «болотных» и прочих… с феминистками!.. куда ж без них!.. – до уродов покрупнее, значительнее и нахрапистее. Правда, финал у всех один, – Андрей обвел глазами зал. – Кого-то успокаивает?
– Это вопрос? – рыжая девчонка улыбалась.
– Главный.
По залу пробежал шумок.
– Да… безжалостно. Так все-таки протест? Или смирение? – профессор лукаво усмехнулся. – Я не услышал ответа.
– Протестовали крестьяне деревни Богучарово, в романе «Война и Мир», когда отказались подчиниться своим господам и решили ждать французов, чтобы продать им фураж и провиант, а не призывающие раздеваться, где попало, а спать – с кем угодно. Думаю, мало, кто обратил на эпизод внимание, хотя случай был не единичен.
– Вопрос в лоб! Отвечай! – выкрикнул кто-то из зала. – Протест? Или предательство?! А то…
– Конечно предательство! – перебил другой голос.
– Думаю, нет, – молодой человек держал удар. – Их просто учили получать выгоду сами же господа. – В противном случае, вся Франция во вторую мировую, вместе с другими странами, состояла почти сплошь из предателей. Чехия, к примеру, произвела почти половину танков «Вермахта». Да так усердно работала, что наместник Моравии хвастался производительностью труда на заводах – она была выше, чем в Германии. Кружку пива и сосиску в подвальчике покупали тем вечерком «лишними» жизнями русских солдат, раздавленными этими танками. И чехи всё забыли. Зато помнят шестьдесят восьмой. Где по бездумью и глупости, иначе не назовешь, с обоих сторон погибли пятьдесят человек. Мы же – благородно не вспоминаем ничего. Сейчас оплачиваем «благородство». «Правда» имеет неприятное свойство – для кого-то она досадна. А дальше на очереди такое досадное понятие как совесть. Политики многих стран и уже сегодня освободились от нее публикациями и голосом в парламентах. Этакая игра в поддавки. Богучарово выступило лишь против слома привычного уклада и предъявило обвинения за такой слом власти. Которой тоже верят и всегда – зря. Не допускайте нарушения – не будет и протеста, одна из форм которого – согласие с врагом.
– А может лучше верить ей? Власти-то? – полюбопытствовал с сарказмом худенький студент с галерки. – А то совсем запутал.
– Тогда беспорядки.
– Получается, и выхода нет! – не унимался тот.
– Никакого. Власть в кресле, пока народ заблуждается. А как прозревает – сметает. Сам или с помощью извне. Власть порочна по природе. В любой стране, во все времена. А другой кажется только в креслах. Предмет «История человечества». Безнадежный круговорот.
– То есть всякий протест оправдан?!
– И всегда обоснован, заметьте. Ведь он – отказ от слепой веры. Да что ходить далеко… вон на днях президент подписал указ о повышении зарплат депутатам до трехсот тысяч. При минимальной оплате труда – пять по стране. Первый, в силу отсутствия государственного мышления, не понимает безнравственности подписанного. А вторые безнравственно делают вид, что достойны. Тлеющий протест существует перманентно – власть всегда и везде обоснованно недолюбливают. Его можно разжигать, как в примере, и не только литературном, но и примером дня сегодняшнего. Или дезавуировать, отвлекать, перенаправлять – но это уже талант. И тогда страна относительно спокойна. Но плата – насилие над свободами. Протестная суета свойственна всему миру. Исключений нет. И в Америке, и в Европе, и в Индонезии. В Китае или России. Всё одинаково. А если первые, кто не любит побольше, сливаются в кучки, то и получались «Богучаровы» двести лет назад, Пугачевы – триста, или даже районы в «Великую Отечественную». Ну и лозунги «Долой самодержавие!» в семнадцатом.
– Или Майдан!
– У меня к докладчику вопрос, – профессор знаком попросил тишины и встал. Заложив руки за спину, он сделал несколько шагов к рядам, затем повернулся. – То есть, не существует обстоятельств, уничтожающих протест?
– Отчего же? – Андрей вскинул брови. – Вот в тех отношениях, солдата и генерала, простого человека и графа он не востребован. Замечу, при огромной разнице в доходах. «Человечность» побеждает всё. Дух становится выше имущественных различий.
– Да это новаторство в революционных теориях, милейший! – воскликнул преподаватель, поправив седую прядь. – Вы отрицаете единственно общее, что их объединяет – движущую силу масс и мотив – разрыв в уровне жизни! Ведь нищета одних и богатство других – взрывоопасная смесь! Так было всегда. Маркс!
– Устарела теория. Задолго до рождения. Тупиковой ветвью прогресса ее сделал Воронцов.
– Нет, помилуйте, давайте о сегодняшнем дне! Ни крестьян, ни князей нет. Есть «бизнес» и работающие на него. Как убрать противоречие здесь?
– Да очевидно – как. Следовать примеру Воронцова. Он заставил, подчеркиваю, заставил себя спуститься к человеку. Встать с ним под пули, штыки, и остаться вместе потом. Что мешает бизнесу стать с человеческим лицом? Стать под пули его не зовут. Жадность. Ведь не пропить, не проесть, не сносить всех костюмов. Ну не может быть человеческой, человечной… цель набивать карманы. «Всех денег не заработать» – банальная догадка посещает… пусть некоторых. Остается шажок. В нём, в маленьком движении, а не в строительстве «силиконовых долин» или разработке арктических шельфов обещанное будущее. По-настоящему светлое. И шагнут, и примут его, и откликнутся. Это и есть идея двадцать первого века. Его предназначение… соломинка перед катастрофой! Ну, понял, увидел же Эндрю Карнеги смертельное жало богатства. И раздал почти всё.
«Если человек умирает богатым – он умирает в позоре» – его слова. Михаил Семенович Воронцов оказался жив в нём. Отношения к человеку шагнули через крепостное право, каторжный труд, зависть и злобу, как следствие… и попрали теорию Маркса. Но никто не заметил. А ведь жестокостью молодого Карнеги к рабочим пугали детей!
– Значит… взрывная смена власти не одобряется? То есть библейское «Всякая власть от бога» – вы все-таки оправдываете? – спросил профессор.
– Хорошо отвечал на этот вопрос автор «Воскресения», добавляя: «Очень может быть», но просил уточнить: «Чья власть? Екатерины или Пугачева?»
Профессор хмыкнул.
– Ну да… Сталина или Романовых? – и бросил взгляд в зал: – Будут вопросы?
– А я не согласен, – прямо перед кафедрой, в центре аудитории, поднялся длинноволосый парень.
Все повернулись.
– Всякая власть привязана к месту, и потому во времени их может существовать несколько…
– Интересно, интересно, продолжайте Миронов, – профессор одобрительно кивнул.
– Я имею в виду, что в конкретном месте – под тем же Оренбургом – власть Екатерины отсутствовала… была неочевидна. А Пугачева, там же и в то же время, существовала бесспорно. И вообще, власть реальна лишь в проявлениях и на конкретном месте… она ничто без них. Так вот, проявления власти Екатерины… в том месте, не замечалось. А значит – не было, – студент пожал плечами.
– И что с того?! – крикнул кто-то явно недовольный заключением.
– А то, что библейское выражение верно. То есть существовали одновременно две власти, но в разных местах. Как и тысячи ежечасно и повсеместно. Коллективные или индивидуальные.
– Так всякая от бога? – не унимался возмутитель.
– Выходит так, – студент вдруг резко повернулся на голос: – Ее много и всегда. Взять преступные группы – там власти признанной законом нет. Но есть «свои» законы и своя власть. Да так на каждом шагу, начиная с семьи. И всякая из них закон пишет для себя. Если же кто-то его не соблюдает – сразу же рождает власть новую. Собственную. И нет оснований считать, что она призрачна.
– Во, загнул! Оппонируй, Андрюха! Защищай Толстого!
Зал зашумел. Профессор выглядел довольным – такого серьезного обсуждения известной любому школяру темы он предвидеть не мог. Наконец, все успокоились. Андрей поймал на себе взгляд преподавателя, все еще ждущего ответа, и повернулся к залу:
– Не буду… защищать. Я подумаю… Возможно, оппонент прав… великие имена, великие заблуждения…
– Вот это ревизия! – тот же голос явно провоцировал углубление полемики.
Но все почему-то молчали.
– Да и Эндрю твой – раздал-то почти всё… – весельчак сверху уже не смеялся. – Зажал, шельма.
– Никто и не заставляет всё, – Андрей развел руками. – Оставьте необходимое. Уверен, каждый удивится малостью необходимого. Но победа стоит того. Над собой, не над конкурентом. А демонстрация собственного благополучия – Иудин комплекс неполноценности – мерзкий вызов окружающей нищете. В общем, – он сделал паузу, – «победа» и есть вера в Бога. Люди же оценят другое – понимание, что нет их вины в нужде, как и заслуги «раздающих» в «благополучии». Тогда слова «человек человеку друг, товарищ и брат» станут не лозунгом, а комментарием к заповедям.
– Ну вот, докатились! Проповедник нашелся! – откровенно возмущенный голос из самого угла, тоже наверху, заставил всех обернуться.
Но, к удивлению Андрея, единомышленников оказалось много.
– Достали! Теперь и здесь вещают!
– На постриг собрался, Андрюха! Сознавайся! – весельчак снова уловил настроение.
Докладчик не выдержал:
– Что, ближе лозунги, которыми морочат людям головы?! Кровушкой Волгу до краев? Или Днепр?! В очередной раз?! Так не забудьте – вашей! Ну, сговорившись, перевернут, ну, завладеют… – перекрикивая зал, продолжал он, – демагогия, демонстрация преданности друг другу в кучке… До времени. Всякую власть сваливает другая, всегда! Без вариантов! Но вам… и шипов от роз не достанется! Ни от первого, ни от второго «междусобойчика»! Не надейтесь.
Зал чуть притих. Таким Андрея – «душку», как прозвали его девчонки, не видел никто. Но голос звучал уже ровно.
– «Местечковость» неизменно победит. «Своим» будут прощать всё! То и погубит. Было. И снова услышите возглас: Господа евреи! Завтракать! Всё начнется сначала. Жидко, мерзко и дурно пахнет.
Андрей насмешливо посмотрел на присутствующих.
– А они, – он провел рукой по верху зала, откуда возмущение начиналось, – такие же. Смена. И поступят так же. «Я сам обманываться рад» – опора для простоватых умом. Клюнут. И отработают. А на крючке-то прежнее: светлое будущее, справедливость, равенство… даже не меняют… недоумкам сгодится! Нигде их нет, не было и быть не может – равенства-то со справедливостью! В другом они месте… сказал бы… да в проповедники уже записали. А вот с револьвериков… очередную «семью» в Екатеринбурге – это запросто, у обещающих-то! Виноватых найдут потом. Уже новая смена. Появится «Пушкин». Вознесут «Дали». Оболгут Воронцова. Все пойдет по плану. – Он сделал паузу и повторил: – Всё идет по плану. Только я хочу – светлое настоящее! Сегодня и для себя! И оно будет у меня. Обещаю!
– Да это митинг какой-то!
Крики и возмущенные восклицания так и не дали профессору подвести итоги занятия. После нескольких попыток он развел руками, что-то сказал Андрею и, покачав головой, вышел.
– Вставай, Андрюша! – голос Галины Николаевны и тихое касание руки заставили зятя открыть глаза. – У тебя с утра лекция. И так не будила, Лена говорит, совсем неспокойно спал. Я уж завтрак два раза разогревала… да будить не решалась.
По пути в университет он несколько раз вспомнил запавшие в душу слова из работы одного из студентов журфака:
«Г-жа N, известный хореограф, опластичила “Pink Floyd”» – пишут в газете.
Мусорное слово – «опластичила». Значимое – «известный». Самое малозначительное – оно же. Всего лишь «известный». Хореограф ли он, писатель или режиссер, знает только сам художник. И тайну никому не откроет. Никогда. Потому что она ужасна. Но слаб человек и будет бесконечно слушать приятную ложь близких. Как и автор – композиция ему понравилась.
Не может быть ни хореографа, ни писателя, ни художника. Ни тем более «даровитости», «таланта» или «гениальности». Существует только человек. Вот он-то или есть, или нет… перед миром людей. Как и прежде, среди миллионов лишь пара чудаков живыми смотрят на нас. Но мы не замечаем взглядов. Не получается женщинам быть Наташами, чтобы узнавать в нас Безуховых. Да и мы не стараемся быть ими. Зато бьемся бедные за «ми-бе-моль-минор» – безысходную тональность внешней красоты. И всегда удается. Заслоняет лоск несчастным правду. Не слышны песни, а Соломон – уже просто имя. Полнится, полнится «хореографами» мир. Мир обмана, лести, лавров».
«Да, чудаки… чудаки… кто вы?., и где? Отзовитесь громче», – подумал он, подходя к дверям здания.
Через десять минут Андрей уже спокойным голосом доносил для студентов неочевидные вещи, пытаясь натолкнуть на размышления:
– Возьмите просто день. Каждый прожитый день – нечто придуманное, искусственное, некий спектакль, абсурд. Это явление, несколько в ином смысле, хорошо описал Довлатов. Разве можно назвать наши поступки осмысленными? Вдумайтесь, для чего человеку алкоголь, футбол, кандидатская степень?
– Для того же, что и героин, Рубенс или директорское кресло, – уверенно парировал кто-то сверху.
– Отличный ответ. Это наши предпочтения. Созданный нами некий суррогат удовольствия. Ими заполняется свободное время… которого не должно быть, – и, улыбнувшись, добавил: – Если время будет наполнять естественная радость.
– А когда она будет наполнять?
– Надо найти такое состояние или отыскать обстоятельства, в которых оно существует как «непременность».
– Утопия. Так не бывает! – раздались выкрики.
– А куда денутся неприятности, огорчения? – спросила девушка в синей блузе.
Кто-то тут же нашелся:
– Вован, ты не грусти по проваленному зачету, создавай обстоятельства! И ныряй в удовольствия!
– Только не захлебнись!
Студенты рассмеялись.
Андрей поднял руку.
– Опять верно – создавай. Но вы не подозреваете, что такое состояние в природе есть, уже создано. Более того – оно ее часть, без которой самой природы не существует. И есть… живут среди нас люди в таком завидном обществе. А вот всё остальное – неприятности, огорчения, – он кивнул девушке, – искажения природы, среды нашего обитания – которые создаем сами. Как и суррогаты удовольствий – алкоголь, футбол и ученые степени. Ну и власть! Они – ответ на первое вмешательство. Своего рода месть лесов, полей и гор. И трудимся тысячелетия.
– Действительно, Андрей Андреевич, для чего вам кандидатская? – раздалось сверху. – Надо бросить, наконец…
Кто-то прыснул смехом. Все заулыбались.
– Верно… отклонился. Для чего, для чего, – миролюбивый тон отвечал требованию минуты, – для престижа – этакий особый суррогат успеха, который, в свою очередь, есть суррогат цели. Этот лежит в основе любого отклонения. Любого! «Перекос» в разумности наступает при подмене цели, а на одной из производных, начинает называться нормальным мышлением. Ну, а мне-то, конечно, для более высокой должности, – видя «недоходчивость» своих аргументов, подытожил он.
– А прежней недостаточно?.. – «недоходчивость» тут же проявилась.
– Выходит… нет. Почему? Денег не хватает. Ясно. Значит для денег. А зачем, спросите? Есть статусы повыше. Слава, известность. И снова в бой! Разве не абсурд?
– Не абсурд, – прервал тот же голос, – все так живут… или стремятся. К деньгам и успеху – это нормально.
– Прекрасно! Но пробуем размышлять, исходя из противного. Итак, считаем поступок абсурдным. Но он не очевидно абсурден. В каждом дне такие сплошным потоком. А есть очевидные. Вот один мой знакомый поэт, варит пельмени в сковороде… с высокими краями. Не задумываясь, что это за посуда. Удивляется, когда его спрашивают. Значит, у некоторых степень абсурдности начинает переходить грань неочевидности. Вообще, убежден, если варишь в сковороде, делаешь шаг вперед. Приближаешься к пониманию жизни. Той, которая существует вне абсурда. Которая в достаточности малого. Ну, понимаете – можно и жарить, и варить. Чуть-чуть приближаешься, совсем чуть-чуть. Но путь верен. Настоящий поэт!
Лектор вдруг замолк, скользя рассеянным взглядом по аудитории. Прошло минуты три. Студенты начали переглядываться.
– Ну что? Абсурдно мое поведение? – неожиданно улыбнувшись, озадачил он слушателей.
Зал одобрительно загудел:
– Нет! Мы думали, вы с мыслями собираетесь!
– Вот вам простой пример рождения сомнения в адекватности. Как мало надо и как легко подступает сомнение. Но! – Андрей обратил ладонь к залу. Всё стихло. – Есть люди… кто постиг. Постиг! – повторил мужчина. – Наткнулся. А кому-то помогли, другим досталось… по причинам неясным, в необъяснимых ситуациях. Это может произойти когда угодно, к примеру, в молодости, поверьте, я это знаю. Я многое сейчас знаю… однажды… довелось… коснуться.
Девушки, занимающие, как и во всех аудиториях, первые ряды, подняли брови. Им, почитательницам и, чего греха таить, спонсорам кредиток астрологов, гадалок и прочих ловкачей, слова казались близки.
Лектор же, как ни в чем не бывало, продолжал:
– Кого-то осенило на восходе, или… помните, на кресте… как разбойника… в Писании… за мгновение до смерти… на закате. Таких людей совсем мало. И если они продолжают жить, то их жизнь для всех необычна, странна. Поступки немотивированны – ведь мотивы-то поступков людям знакомы. Алгоритм искажен давно и усвоен. И ненормальными считают уже тех, странных, с непонятным нам поведением. Безгневных, беззавистливых, всегда подставляющих другую щеку.
Все закивали.
– Корзина «ненормальных», а для кого-то «идиотских», простите, поступков полнится всё больше. Помните, когда женщины Европы начали считать оскорблением предложение поднести чемодан? Они возмущенно бросили в нее, «корзину», такую поведенческую установку. Потом «естественными» стали однополые браки. Сегодня и педофилию объявили нормальной, а возмутительным – ее запрет. Вы молоды и доживете до поведенческого надлома, когда начнут преследовать традиционные браки, традиционное рождение – детей будут раздавать на аукционах. Да, да.
Зал снова зашумел.
– И покатится, покатится. Но на самом первом уроке именно родители вкладывают камень в их душу: «Поступай так, потому что это принесет тебе то-то…» – говорят они. На самом деле уча «аукционам», как те свахи. С этого камня начинается новая церковь. Всё. Дальше работают другие силы, которые и задумали ее. Для вас. Исказителей. Всё идет по плану.
Андрей прошел к окну, чуть постоял и повернулся к студентам:
– И все-таки странные люди встречаются… Особенно интересен момент перехода их в нормальное состояние. Художник Николай Ге порвал с передвижниками. Царь Соломон написал книгу. Гоголь пожег «Мертвые души». Толстой стал христианином. Карнеги… – он вспомнил молодость, – человеком. Я… я тоже… – лектор осекся и, смутившись, опустил голову направляясь к столу. – Встреча, хотел сказать… с ними – почти всегда событие. Удивительно – они могут быть и нищими, и богатыми. Симпатичными и не очень. Не следить за одеждой, забывать бриться и даже пьянствовать. Более того – они могут быть книгой, картиной. Мы можем считать их талантливыми или бездарными. Им всё равно. Общее отношение к оценкам объединяет. Однако съеживаются от грубости. Не терпят хамства… да, да… книги! Разве не замечали? Одни хамят, другие – съеживаются. Неспособны подшутить над кем-то. Даже плачут… чаще других, – Андрей поднял глаза. – Сковородка – первый шаг. Но это не городские сумасшедшие или несчастные на помойках. Те удивления не вызывают. А оно – непременное впечатление от прикосновения к явлению… Вот вы много встречали необычных, кому удивлялись? Или держали в руках? Их содержанию, взглядам? Не понимали? Но тянуло, не хотелось расставаться? То-то.
– Ну ваши-то, кусают! Андрей Андреевич! – верх был самым активным.
– Ты необычных вспоминай, ботало!
– Да пожалуйста! Вон, Шкроптак, с параллельного потока, не вылазит из читалки, зубрит. Даже явление назвали – «шкроптачит»!
– Так он же кровный немец!
– Та нехай! Все удивляются! Не понимают! А странность вообще легко организовать, – тот, кто возражал, указал направо. – Леха с двести восемнадцатой, собирался на дипломную практику, так ему в чемодан сунули пять томов «философской энциклопедии». Минут десять, по приезду, был странным – вспоминал, для чего их брал!
Зал покатился от хохота. Преподавателю ничего не оставалось, как сделать то же.
– И все-таки, если тебе не удалось и не повезло… а посчастливилось встретиться, увидеть и замереть, – продолжая улыбаться, Андрей вернулся к столу, – твоя жизнь начинает также меняться. Настолько, что окружение часто перестает ее понимать. Не сразу. Сначала стараются… Списывают на трудности, обстоятельства. И только потом начинают подозревать… Иные плюют, смиряются. Другие пытаются поправить, наставить на путь. Третьи возмущаются… просят избавить… То есть продолжают заниматься абсурдом. Ничем. Стоять на месте. Смотреть «Новости», «Вести» программу «Время». Не чувствовать, что это «Время» набегает на них, а не сами движутся вперед. Что с другим «Временем» ушел тот – причина их беспокойства и возмущения. Получил другие «вести».
Взгляд лектора снова странно заскользил над верхними рядами. Казалось, он думал о чем-то близком только ему, переживая такую близость.
– А он, причина беспокойства, – просто начал жить вне абсурда. Люди провожают «Время» взглядом и думают о будущем… которого у них нет… потому что, повторю… – стоят. Стоят, получая еще одно образование, еще один дом, степень, должность или награду. Еще миллион. Наконец, большее признание…. Издают ту самую, «Новую философскую энциклопедию», не понимая, что ни философии, ни системы взглядов – не существует. Есть только вера… в Единосущного. И безверие – в философии.
В зале переглянулись и зашушукались.
– Насмерть стоят, считая это «развитием». Прикованы воспитанием. Родители попались разумные, прагматичные… правильные. Цели поставили. Просчитали. Убедили и увязали… все будущие поступки. А их не будет – ни поступков, ни развития, ни пути. Поступки я перечислил. Лишь сон. Глубокий, мертвенно спокойный сон под названием «жизнь». Кто тот великий фантазер, придумавший ему такое название?!
Лектор снова замолчал.
Всё время, пока он говорил, тишина не нарушалась. Именно такого Андрея Андреевича любили студенты. Именно в нем они чувствовали присутствие того, что не выросло еще в них, не взошло. Но было. Уверенность в этом нет-нет да заявляла о себе и у провалившего зачет, и у оскорбившего на раздаче блюд работницу. И даже устроитель вчерашней драки на дискотеке Серега Миронов, будто слепок с той, первой лекции, повзрослев в минуту, а такое возможно, вы помните, дорогой читатель, устыдиться многого, устраивая драки уже в Совете Федерации и уже по делу. Но точно с прежним мотивом – отстаивая, честь и совесть, чего не случилось бы, слушай он другого лектора, с другими взглядами.
Каждая тема неизменно превращалась в разговор с самим собой всех присутствующих. Парни и девушки, студенты других групп и факультетов, часто приходили послушать «необычного» преподавателя и всякий раз примеряли на себя его мысли, задавали себе вопросы, которые тот озвучивал, и которые говорили в нем, внутри привычного всем костюма. Но это не был, в те минуты, Андрей Андреевич, шагающий по коридору с улыбкой, приветственно кивая головой, или рассеянно, не здороваясь ни с кем. Наступало время говорить другому человеку. А оно учило, что «человеком» становятся не навсегда. Учило невозможности существования такого состояния в непрерывной форме. И тогда происходило удивительное превращение: «футболы» и кандидатские, грубость или ложь становились не просто «нужными», а необходимыми еще слабым перед миром молодым людям, для понимания своей «поврежденности».
Но постоянно слушатели задавали себе вопрос, который сегодня напрямую и коснулся темы: «Почему он говорит в «себя», отстраненно?» Не о себе ли рассказывает уже больше получаса? Не он ли и есть один из персонажей, о которых ведет речь? А значит, Андрей Андреевич, уважаемый и любимый ими, такой же лицемер, лгун и может оскорбить. И только старается не делать этого. Мысль уравнивала возраст и молодость, опыт и дерзость, принималась без колебаний и укрепляла доброту отношений. Как когда-то генерала и солдат. Только в нашем случае – молодого генерала и совсем юных солдат, дорогой читатель.
Впрочем, возвращался «оттуда» их любимец тоже легко.
– Скажите, Андрей Андреевич, – парень из третьего ряда поднял руку, нарушая тишину, – вы вот о славе говорили. О примазавшихся. Ну, что они к литературе, искусству никакого отношения не имеют. А корни явления… вы не закончили… где они? У человека? У общества? Откуда?
– Ну, во-первых, это технология не литературная, а политическая, – преподаватель отбросил волосы назад. Он снова был здесь. – И возникла с признанием кого-то из племени первым. То есть признанием власти! Так что власть и слава – две сестры, и в этом легко убедиться – следствие обстоятельств, а не прихоть человека. В их получении «тогда» не было зла. Другое дело, для чего даны ему такие обстоятельства? Ведь кто-то их определил? Надеюсь, понимаете, что не природа сама по себе? Так вот… здесь можно предположить, что слава, власть, успех – даны человеку как объекты борьбы с негативными последствиями их обладания. Самим обладанием! Запомните! Негатив – в нем! Позитив – в борьбе с ним! А не в существовании власти. И воля дана нам как инструмент такой борьбы. Борьбы за улучшения невидимой части себя. Но часть эта была невидима до появления веры, которая принесла определения добру и злу. То есть закон. До того злоупотребления властью не были преступлением. Ибо преступление – это «переступление», шаг через закон – некие нравственные постулаты. Христиане называют их заповедями, но такой свод можно было назвать как угодно.
– А почему вы считаете, что определение добру и злу принесла вера? – раздался снова тот же голос. – Разве до этого человек не испытывал радости, скажем, от рождения ребенка и боли, от смерти других близких? Или когда отнимали кусок мяса, разве он не понимал, что это плохо? А если давали – хорошо? Рождалась благодарность – то же ведь добро.
– А вы считаете давать кусок мяса – хорошо? В любом случае?
– Конечно. Получать необходимое…






