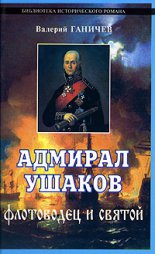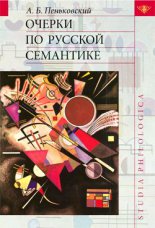Глоток зеленого шартреза Гумилев Николай
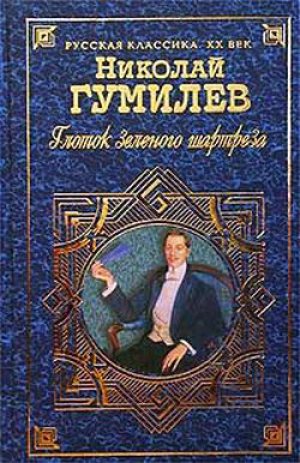
(Американцу, косясь на Дон Жуана)
- Пройдем сюда.
- Я вам скажу про Дон Жуана;
- Мне кажется, на путь труда
- Он вступит поздно или рано.
- Охотно водится с ним знать,
- Как свой он принят в высшем свете,
- Ну почему б ему не стать
- Адъюнктом в университете.
- Но он едва ль не слишком жив,
- Чтоб быть в святилище науки,
- Так, мысль о высшем отложив,
- Дадим ему мы дело в руки.
- Быть может, пригодится он
- Как управляющий в саваннах,
- Всегда верхом, вооружен,
- В разъездах, в стычках беспрестанных.
- Окажется полезен вам
- И может сделать положенье,
- Ему я это передам
- И как прямое предложенье.
- Американец бормочет что-то несвязное
Дон Жуан
(Американке)
- Я вас люблю! Уйдем! Уйдем!
- Вы знаете ль, как пахнут розы,
- Когда их нюхают вдвоем
- И в небесах звенят стрекозы.
- Вы знаете ль, как странен луг,
- Как призрачен туман молочный,
- Когда в него вас вводит друг
- Для наслаждений, в час урочный.
- Победоносная любовь
- Нас коронует без короны
- И превращает в пламя кровь
- И в песню – лепет исступленный.
- Мой конь – удача из удач,
- Он белоснежный, величавый,
- Когда пускается он вскачь,
- То гул копыт зовется славой.
- Я был в аду, я сатане
- Смотрел в лицо, и вновь я в мире,
- И стало только слаще мне,
- Мои глаза открылись шире.
- И вот теперь я встретил вас,
- Единственную во вселенной,
- Чтоб стали вы – о, сладкий час! –
- Моей царицею и пленной.
- Я опьянен, я вас люблю,
- Как только боги были пьяны,
- Как будет сладко кораблю
- Нас уносить в иные страны.
- Идем, идем!
Американка
- Я не хочу!..
- Нет, я хочу! О милый, милый!
Дон Жуан
(обнимая ее)
- Тебя я счастью научу
- И над твоей умру могилой.
Уходят.
Лепорелло
(оглядываясь)
- Но где мисс Покер, где Жуан?
Американец
- Наверное, в соседней зале.
Лепорелло
(хватаясь за голову)
- Ах я разиня, ах болван,
- Все прозевал, они бежали.
Американец
- Куда?
Лепорелло
- Да, верно, на лужок
- Иль на тенистую опушку.
- Тю-тю! Теперь уж пастушок
- Ласкает милую пастушку.
Американец
- Да вы с ума сошли!
Лепорелло
- Ничуть!
Американец
- Идем.
Лепорелло
- А шпаги не хотите ль?
- Ведь Дон Жуан не кто-нибудь,
- Он сам севильский соблазнитель.
Американец
- Но я их видел здесь минут,
- Ну, пять тому назад, не боле…
(закрывает лицо руками)
- Когда настанет Страшный суд,
- Что я моей отвечу Полли?
- Идем, идем скорей.
Лепорелло
- Ей-ей,
- Я твердо помню: Лепорелло,
- Желаешь – спи, желаешь – пей,
- А не в свое не суйся дело.
- И был я счастлив, сыт и пьян,
- И умирать казалось рано…
- О, как хотел бы я, декан,
- Опять служить у Дон Жуана!
Что селения наши убогие,
Все пространства и все времена!
У Отца есть обители многие.
Нам неведомы их имена.
Ф. Сологуб
Древние маги любили уходить из мира, погружаться в соседние сферы, говорить о тайнах с Люцифером и вступать в брак с ундинами и сильфидами. Современные – старательно подбирают крохи старого знания и полночью, в хмурой комнате, посреди каменного города вещими словами заклинаний призывают к своему магическому кругу духов бесформенных, страшных, но любимых за свою непостижимость.
Волшебный и обольстительный огонь зажег Бодлер в своем искусственном раю, и, как ослепленные бабочки, полетели к нему жадные искатели мировых приключений. Правда, вслед за ними поспешили и ученые, чтобы, как назойливые мухи, испачкать все, к чему прикоснутся их липкие лапки. Восторги они называли галлюцинацией извращенного воображения.
Никто не слушал их перед светом Высшей правды существования иных вселенных и возможности для человека войти в новые, нездешние сады.
Виденья магов принадлежат областям нашего подсознательного я, астрального существования, чей центр, по старым книгам, – грудь, материя – кровь и душа – нервная сила.
Искусственный рай рождается скрытыми законами нашего тела, более мистического, чем это думают физиологи. И нам хочется наслаждений более тонких, более интеллектуальных, радующих своей насмешливой улыбкой небытия. Таким наслаждением являются карты, не игра в них, часто пошлая, часто страшная, нет, они сами, мир их уединенных взаимоотношений и их жизнь, прозрачная, как звон хрустальной пластинки.
Чтобы понять все, что я скажу сейчас, вспомните рисунки Обри Бердслея, его удивительную Саломею, сидящую в бальном платье перед изящным туалетным столиком, и аббата Фанфрелюша в замке Прекрасной Елены, перелистывающего партитуру Вагнера.
Этими певучими гротесками, очаровательными несообразностями художник хотел рассказать людям то, что не может быть рассказано.
И всякий, знающий сложное искусство приближений, угадываний и намеков, радостно улыбнется этим смеющимся тайнам и взглянет нежным взором на портрет Обри Бердслея, как странник, который на чужбине случайно услышал родной язык.
Тот же способ подсказывания и намека я возьму для моей causerie [3] о картах.
Карты, их гармоничные линии и строго обдуманные цвета ничего не говорят нам о прошлом, не владеют чарой атавистических воспоминаний; к будущему человечества и нашего сознания они так же великолепно равнодушны. Они живут теперь же, когда о них думают, особой жизнью, по своим, свойственным только им, законам. И для того, чтобы рассказать эти законы, мне придется перевести их на язык человеческих чувств и представлений. Они много потеряют от этого, но, если кто-нибудь не поленится и в ненастный осенний день раскроет ломберный стол и, разбросав по нему в беспорядке карты, начнет вдумываться в определенную физиономию каждой, я надеюсь, что он поймет их странное несложное бытие.
Тузы – это солнца карточного неба. Черной мудростью мудрый пиковый и надменный трефовый владеют ночью; день принадлежит царственно-веселому бубновому и пронизанному вещей любовью червонному.
Все четыре короля рождены под их влиянием и сохраняют отличительные черты своих повелителей; но они потеряли способность светиться собственным светом, для своего проявления они прибегают к сношениям с картами низшего порядка, они унижаются до эмоций: посмотрите, как пиковый бросает украдкой недовольные взоры на шаловливого юркого мальчишку, своего валета; трефовый упал еще ниже: он тяготеет к бессмысленно-добрым восьмеркам и неуклюжим девяткам. Короли бубновый и червонный стоят много выше, но все же и на них заметна печать оскудения.
Дамы, эта вечная женственность, которая есть даже в нездешних мирах, влюблены в заносчивого, дерзкого бубнового валета, каждая сообразно своей индивидуальности. Пиковая обнимает его своими смуглыми худыми руками, и поцелуй змеиных губ жжет, как раскаленный уголек. Трефовая легким знаком приказывает ему приблизиться.
Бубновая, гордая chatelaine [4], раздувает свои выточенные нервные ноздри и ждет, скрывая любовь и ревность.
И стыдливая червонная счастлива от одной близости этого надменного мальчишки.
Юркий пиковый, положительный трефовый, избалованный бубновый и скверно-развратный червонный – таков мир валетов, мир попоек, драк и жестоких шалостей. Они любят издеваться и бросать нечистоты туда, в нижние ряды карт.
Там, внизу, уже нет жизни, есть только смутное растительное прозябание, бытие цифр, облеченных в одежду знаков. Но личность проглядывает и там. Один мой приятель обратил мое внимание, что пятерка имеет злое выражение. Я пригляделся к ним и заметил то же самое. Если когда-нибудь будет революция знаков против цифр, в этом, наверно, окажутся виновными пятерки.
Из двоек таинственна только пиковая, хорошо знакомая любителям покера.
Мэтр Паоло Белличини писал свое соло для скрипки. Его губы шевелились, напевая, нога нервно отбивала такт, и руки, длинные, тонкие и белые, как бы от проказы, рассеянно гнули гибкое дерево смычка. Многочисленные ученики мэтра боялись этих странных рук с пальцами, похожими на белых индийских змей.
Старый мэтр был знаменит, и точно, никто не превзошел его в дивном искусстве музыки. Владетельные герцоги, как чести, добивались знакомства с ним, поэты посвящали ему свои поэмы, и женщины, забывая его возраст, забрасывали его улыбками и цветами. Но все же за его спиной слышались перешептывания, и они умели отравить сладкое и пьяное вино славы. Говорили, что его талант не от Бога и что в безрассудной дерзости он кощунственно порывает со священными заветами прежних мастеров. И как ни возмущались любящие мэтра, сколько ни твердили о зависти оскорбленных самолюбий, эти толки имели свое основание. Потому что старый мэтр никогда не бывал на мессе, потому что его игра была только бешеным взлетом к невозможному, быть может, запретному, и, беспомощно-неловкий, при своем высоком росте и худощавости он напоминал печальную болотную птицу южных стран. И кабинет мэтра был похож скорее на обитель чернокнижника, чем простого музыканта. Наверху для лучшего распространения звуков были устроены каменные своды с хитро задуманными выгибами и арками. Громадные виолончели, лютни и железные пюпитры удивительной формы, как бредовые видения, как гротески Лоррена, Калло, теснились в темных углах.
А стены были исписаны сложными алгебраическими уравнениями, исчерчены ромбами, треугольниками и кругами. Старый мэтр, как математик, расчислял свои творения и называл музыку алгеброй души.
Единственным украшением этой комнаты был футляр, обитый малиновым бархатом, – хранилище его скрипки. Она была любимейшим созданием знаменитого Страдивариуса, над которым он работал целых десять лет своей жизни. Еще о не оконченной, слава о ней гремела по всему культурному миру. За обладание ею спорили властелины, и король французский предлагал за нее столько золота, сколько может увезти сильный осел. А папа – пурпур кардинальской шляпы. Но не прельстился великий мастер ни заманчивыми предложениями, ни скрытыми угрозами и даром отдал ее Паоло Белличини, тогда еще молодому и неизвестному. Только потребовал от него торжественной клятвы никогда, ни при каких условиях не расставаться со скрипкой. И Паоло поклялся. Только ей он был обязан лучшими часами своей жизни, она заменяла ему мир, от которого он отрекся для искусства, была то стыдливой невестой, то дразняще-покорной любовницей. Трогательно замирала в его странных белых руках, плакала от прикосновения гибкого смычка. Даже самые влюбленные юноши сознавались, что ее голос мелодичнее голоса ее подруг.
Было поздно. Ночь, словно сумрачная оратория старинных мастеров, росла в саду, где звезды раскидались, как красные, синие и белые лепестки гиацинтов, – росла и, поколебавшись перед высоким венецианским окном, медленно входила и застывала там, под сводами. Вместе с ней росло в душе мэтра мучительное нетерпение и, как тонкая ледяная струйка воды, заливало спокойный огонь творчества. Начало его соло было прекрасно. Могучий подъем сразу схватывал легкую стаю звуков, и, перегоняя, перебивая друг друга, они стремительно мчались на какую-то неведомую вершину, чтобы распуститься там мировым цветком – величавой музыкальной фразой. Но этот последний решительный взлет никак не давался старому мэтру, хотя его чувства были напряжены и пронзительны чрезвычайно, хотя непогрешимый математический расчет неуклонно вел его к прекрасному заключению. Внезапно его мозг, словно бичом, хлестнула страшная мысль. Что, если уже вначале его гений дошел до своего предела и у него не хватит сил подняться выше? Ведь тогда неслыханное дотоле соло не будет окончено! Ждать, совершенствоваться? Но он слишком стар для этого, а молитва помогает только при создании вещей простых и благочестивых. Вот эти муки творчества удел всякого истинного мужчины, перед которым жалки и ничтожны женские муки деторождения. И с безумной надеждой отчаяния старый мэтр схватился за скрипку, чтобы она закрепила ускользающее, овладела для него недоступным. Напрасно! Скрипка, покорная и нежная, как всегда, смеялась и пела, скользила по мыслям, но, доходя до рокового предела, останавливалась, как кровный арабский конь, сдержанный легким движением удил. И казалось, что она ласкается к своему другу, моля простить ее за непослушание. Тяжелые томы гордых древних поэтов чернели по стенам, сочувствовали скрипке и как будто напоминали о священной преемственности во имя искусства. Но неистовый мэтр не понял ничего и грубо бросил в футляр не помогшую ему скрипку.
Лежа в постели, он еще долго ворочался, не будучи в силах заснуть. Словно грозящий багряный орел, носилась над ним мысль о неоконченном соло. Наконец милосердный сон закрыл его очи, смягчил острую боль в висках и с ласковой неудержимостью повлек по бесконечному коридору, который все расширялся и светлел, уходя куда-то далеко. Что-то милое и забытое сладко вздыхало вокруг, и в ушах звучал неотвязный мотив тарантеллы. Утешенный, неслышный, как летучая мышь, скользил по нему Паоло и вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним, быть может уже давно, шел невысокий гибкий незнакомец, с бородкой черной и курчавой и острым взглядом, как в старину изображали немецких миннезингеров. Его обнаженные руки и ноги были перевиты нитями жемчуга серого, черного и розового, а сказочно дивная алого шелка туника свела бы с ума самую капризную и самую любимую наложницу константинопольского султана.
Доверчиво улыбнулся Паоло своему спутнику, и тот начал говорить голосом бархатным и приветливым:
«Не бойся ничего, почтенный мэтр, я умею уважать достойных служителей искусства. Мне льстят, когда меня называют темным владыкой и отцом греха: я только отец красоты и любитель всего прекрасного. Когда блистательный Каин покончил старые счеты с нездешним и захотел заняться строительством мира, я был его наставником в деле искусства. Это я научил его ритмом стиха преображать нищее слово, острым алмазом на слоновой кости вырезать фигуры людей и животных, создавать музыкальные инструменты и владеть ими. Дивные арии разыгрывали мы с ним в прохладные вечера под развесистыми кедрами гор Ливана. Приносился ветер от благовонных полей эздрелонских, крупные южные звезды смотрели не мигая, и тени слетали, как пыль с крыльев гигантской черной бабочки – ночного неба. Внизу к потоку приходили газели. Долго вслушивались, подняв свои грациозные головки, потом пили лунно-вспененную влагу. Мы любовались на них, играя. После мир уже не слышал такой музыки. Хорошо играл Орфей, но он удовлетворялся ничтожными результатами. Когда от его песен заплакали камни и присмирели ленивые тигры, он перестал совершенствоваться, думая, что достиг вершины искусства, хотя едва лишь подошел к его подножию. Им могли восхищаться только греки, слишком красивые, чтобы не быть глупыми. Дальше наступили дни еще печальнее и беднее, когда люди забыли дивное искусство звуков. Я занимался логикой, принимал участие в философских диспутах и, беседуя с Георгием, иногда даже искренно увлекался. Вместе с безумными монахами придумывал я статуи чудовищ для башен парижского собора Богоматери и нарисовал самую соблазнительную Леду, которую потом сожгли дикие последователи Савонаролы. Я побывал даже в Австралии.
Там для длинноруких безобразных людей я изобрел бумеранг – великолепную игрушку, при мысли о которой мне и теперь хочется смеяться. Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный. Право, он стоит ваших пищалей и мортир.
Но все же это были пустяки, и я серьезно тосковал по звукам. И когда Страдивариус сделал свою первую скрипку, я был в восторге и тотчас предложил ему свою помощь. Но упрямый старик и слушать не хотел ни о каких договорах и по целым часам молился Распятому, о котором я не люблю говорить. Я предвидел страшные возможности. Люди могли достичь высшей гармонии, доступной только моей любимой скрипке-Прообразу, но не во имя мое, а во имя Его. Особенно меня устрашало созданье скрипки, которая теперь у тебя.
Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки небытия. Но, к счастью, она попала к тебе, а ты не захочешь ждать тысячелетий, ты не простишь ей ее несовершенства. Сегодня ты совершенно случайно напал на ту мелодию, которую я сочинил в ночь, когда гунны лишили невинности полторы тысячи девственниц, спрятанных в стенах франкского монастыря. Это – удачная вещь. Если хочешь, я сыграю тебе ее оконченную».
Внезапно в руках незнакомца появилась скрипка, покрытая темно-красным лаком и с виду похожая на все другие. Но опытный взгляд Паоло по легким выгибам и особенной постановке грифа сразу определил ее достоинство, и старый мэтр замер от восторга.
«Хорошенькая вещица! – сказал, засмеявшись, его спутник. – Но упряма и капризна, как византийская принцесса с опаловыми глазами и дорогими перстнями на руках. Она вечно что-нибудь затевает и рождает мелодии, о которых я и не подозревал. Даже мне нелегко справиться с нею». И он заиграл.
Словно зарыдала Афродита на белых утесах у пенного моря и звала Адониса. Сразу Паоло сделалось ясно все, о чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно ему в земной жизни. Все изменилось. Тучные нивы шелестели под ветром полудня, но колосья были голубовато-золотые и вместо зерен алели рубины. Роскошное солнце сверкало на небе, как спелый плод на дереве жизни, и странные птицы кричали призывно, и бабочки были порхающими цветами. А скрипка-Прообраз звенела и пела, охватывая небо, и землю, и воздух томительной негой счастья, которого не может вынести, не разбившись, сердце человека.
И сердце Паоло разбилось. Были унылы его глаза и сумрачны думы, когда встал он от рокового сна. Что из того, что он помнит услышанную мелодию? Разве есть на земле скрипка, которая повторит ее, не искажая? Коварный демон достиг своей цели и своей игрой, своими хитро сплетенными речами отравил слабое и жадное сердце человека.
Бедная любимая скрипка Страдивариуса! В недобрый час отдал тебя великий мастер в руки Паоло Белличини. Ты, которая так покорно передавала все оттенки благородной человеческой мысли, говорила с людьми на их языке, ты погибаешь ненужной жертвой неизбежному! И опять на много веков отдалится священный миг победы человека над материей.
Мэтр Паоло Белличини крался, как тигр, приближаясь к заветному футляру. Осторожно вынул он свою верную подругу и горестно поникнул, впервые заметив ее несовершенства. Но при мысли, что он может отдать ее другому, старый мэтр вздрогнул в остром порыве ревности. Нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной. И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки.
Вбежавшие на шум ученики отвезли мэтра в убежище для потерявших рассудок. Было такое зданье, угрюмое и мрачное, на самом краю города. Визги и ревы слышались оттуда по ночам, и сторожа носили под платьем кольчугу, опасаясь неожиданного нападения. Там, в низком и темном подвале, поместили безумного Паоло. Ему казалось, что на его руках кровь. И он тер их о шероховатые каменные стены, выливал на них всю воду, которую получал для питья. Через пять дней сторож нашел его умершим от жажды и ночью закопал во рву как скончавшегося без церковного покаяния.
Так умерла лучшая скрипка Страдивариуса; так позорно погиб ее убийца.
Старый доктор говорил:
– Наркотики не на всех действуют одинаково; один умрет от грана кокаина, другой съест пять гран – и точно чашку черного кофе выпьет. Я знал одну даму, которая грезила во время хлороформирования и видела поистине удивительные вещи; другие попросту засыпают. Правда, бывают и постоянные эффекты, например, сияющие озера курильщиков опиума, но, в общем, тут, очевидно, таится целая наука, доныне лишь подозреваемая, палеонтология де Кювье, что ли. Вот вы, молодежь, могли бы послужить человечеству и стать отличным пушечным мясом в руках опытного исследователя. Главное – материалы, материалы, – и он поднял к лицу запачканный чем-то синим палец.
Странный это был доктор. Мы позвали его случайно, прекратить истерику Инны не потому, что не могли сделать это сами, а просто нам надоело обычное зрелище мокрых полотенец, смятых подушек и захотелось быть в стороне от всего этого. Он вошел степенно, помахивая очень приличной седой бородкой, и сразу вылечил Инну, дав ей понюхать какое-то кисловатое снадобье. Потом не отказался от чашки кофе, расселся и принялся болтать, задирая нос несколько выше, чем позволяла его старость. Мне это было безразлично, но Мезенцов, любивший хорошие манеры, бесился. С несколько утрированной любезностью он осведомился, не результатом ли подобных опытов является та синяя краска, которой замазаны руки и костюм доктора.
– Да, – важно ответил тот, – я последнее время много работал над свойствами эфира.
– Но, – настаивал Мезенцов, – насколько мне известно, эфир – жидкость летучая и она давно успела бы испариться, так как, – тут он посмотрел на часы, – мы имеем счастье наслаждаться вашим обществом уже около двух часов.
– Но ведь я же все время твержу вам, – нетерпеливо воскликнул доктор, – что науке почти ничего не известно о действиях наркотиков на организм! Только я кое-что в этом смыслю, я! И могу заверить вас, мой добрый юноша, – Мезенцова, которому было уже тридцать, передернуло, – могу заверить вас, что, если вы купите в любом аптекарском магазине склянку эфира, вы увидите вещи гораздо удивительнее синего цвета моих рук, который, кстати сказать, вас совсем не касается. На гривенник эфира, господа, и эта чудесная турецкая шаль на барышне покажется вам грязной тряпкой по сравнению с тем, что вы узнаете.
Он сухо раскланялся, и я вышел его проводить. Возвращаясь, я услышал Инну, которая своим томным и, как всегда после истерики, слегка хриплым голосом выговаривала Мезенцову:
– Зачем вы его так, он в самом деле умен.
– Но я, честное слово, не согласен служить пушечным мясом в руках человека, который не умеет даже умыться как следует, – оправдывался Мезенцов.
– Я всецело на вашей стороне, Инна, – вступился я, – и думаю, что нам придется прибегнуть к чему-нибудь такому, если мы не хотим, чтобы наша милая тройка распалась. Бодлера мы выучили наизусть, от надушенных папирос нас тошнит, и даже самый легкий флирт никак не может наладиться.
– Не правда ли, милый Грант, не правда ли? – как-то сразу оживилась Инна. – Вы принесете ко мне эфиру, и мы все вместе будем его нюхать. И Мезенцов будет… конечно.
– Но это же вредно! – ворчал тот. – Под глазами пойдут круги, будут дрожать руки…
– А у вас так не дрожат руки? – совсем озлилась Инна. – Попробуйте поднимите стакан с водой! Ага, не смеете, так скажете, не дрожат?!
Мезенцов обиженно отошел к окну.
– Я завтра не могу, – сказал я.
– А послезавтра, – отозвался Мезенцов.
– Господи, какие скучные! – воскликнула Инна. – Это ваша вечная занятость совсем не изящна. Ведь не чиновники же вы, наконец! Слушайте, вот мое последнее слово: в субботу, ровно в восемь, не спорьте – я все равно не слушаю, вы будете у меня с тремя склянками эфира. Выйдет что-нибудь – хорошо, а не выйдет, мы пойдем куда-нибудь. Так помните, в субботу! А сейчас уходите, мне надо переодеваться.
В субботу Мезенцов зашел за мной, чтобы вместе обедать. Мы любили иногда такие тихие обеды за одной бутылкой вина, с нравоучительными разговорами и чувствительными воспоминаниями. После них особенно приятно было приниматься за наше обычное не всегда пристойное ничегонеделание.
На этот раз, сидя в общем зале ресторана, заглушаемые громовым ревом оркестра, мы обменивались впечатлениями от Инны. Я был ей представлен месяца два тому назад и через несколько дней привел к ней Мезенцова. Ей было лет двадцать, жила она в одной, но очень большой комнате, снимая ее в совсем безличной и тихой семье. Она была довольно образованна, по-видимому, со средствами, жила одно время за границей, фамилия ее была нерусская. Вот все, что мы знали о ней с внешней стороны. Но зато мы оба были согласны, что нам не приходилось встречать более умной, красивой, свободной и капризной девушки, чем Инна. А что она была девушкой, в этом клялся Мезенцов, умевший восстанавливать прошлое женщины по ее походке, выражению глаз и уголкам губ. Здесь он считал себя знатоком, и не без основания, так что я ему верил.
В конце обеда мы решили, что вдыхать эфир слишком глупо, что гораздо лучше увести Инну на скетинг, и в половине девятого подъехали к ее дому, везя с собою большого бумажного змея, которого Мезенцов купил у бродячего торговца. Мы надеялись, что этот подарок утешит Инну в отсутствие эфира.
Войдя, мы остановились в изумлении. Комната Инны преобразилась совершенно. Все безделушки, все эстампы, такие милые и привычные, были спрятаны, а кровать, стол и оттоманку покрывали пестрые восточные платки, перемешанные со старинной цветной парчой. Мезенцов потом мне признался, что на него это убранство произвело впечатление готовящейся выставки фарфора или эмалей. Впрочем, ткани были отличные, а цвета драпировки подобраны с большим вкусом.
Но удивительнее всего была сама Инна. Она стояла посреди комнаты в настоящем шелковом костюме баядеры с двумя круглыми вставками для груди, на голых от колена ногах были надеты широкие туфли без задников, между туникой и шароварами белела полоска живота, а тонкие, чуть-чуть смуглые руки обвивали широкие медные браслеты. Она сосала сахар, намоченный в одеколоне, чтобы зрачки были больше и ярче. Признаюсь, я немного смутился, хотя часто видел таких баядерок в храмах Бенареса и Дели. Мезенцов немного улыбался и старался куда-нибудь сунуть своего бумажного змея. Наши надежды поехать в скетинг рассеялись совершенно, когда мы заметили на столе три больших граненых флакона.
– Здравствуйте, господа, – сказала Инна, не протягивая нам руки, – светлый бог чудесных путешествий ждет нас давно. Берите флаконы, занимайте места – и начнем.
Мезенцов криво усмехнулся, но смолчал, я поднял глаза к потолку.
– Что же, господа? – повторила так же серьезно Инна и первая с флаконом в руках легла на оттоманке.
– Как же его надо вдыхать? – спросил Мезенцов, неохотно усаживаясь в кресло.
Но тут я, видя, что вдыхание неизбежно, и не желая терять даром времени, вспомнил наставления одного знакомого эфиромана.
– Приложите одну ноздрю к горлышку и вдыхайте ею, а другую зажмите. Кроме того, не дышите ртом, надо, чтобы в легкие попадал один эфир, – сказал я и подал пример, откупорив свой флакон.
Инна поглядела на меня долгим признательным взглядом, и мы замолчали.
Через несколько минут странного томления я услышал металлический голос Мезенцова:
– Я чувствую, что поднимаюсь.
Ему никто не ответил.
Закрыв глаза, испытывая невыразимое томленье, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны. Словно китайские тени, проплывают силуэты, на земле их назвали бы единорогами, храмами и травами. Порою, когда от сладкого удушья спирается дух, мягкий толчок опрокидывает меня на спину, и я мерно качаюсь на зеленых и красных волокнистых облаках. Дивные такие облака! Надо мной они, подо мной, и густые, и пространства видишь сквозь них, белые, белые пространства. Снова нарастает удушье, снова толчок, но теперь уже паришь безмерно ниже, ближе к сияющему центру. Облака меняют очертания, взвиваются, как одежда танцующих, это безумие красных и зеленых облаков.
Море вокруг, рыжее, плещущее яро. На гребнях волн синяя пена; не в ней ли доктор запачкал свои руки и пиджак?
Я поплыл на запад. Кругом плескались дельфины, чайки резали крыльями волну, а меня захлестывала горькая вода, и я был готов потерять сознание. Наконец, захлебнувшись, я почувствовал, что у меня идет носом кровь, и это меня освежило. Но кровь была синяя, как пена в этом море, и я опять вспомнил доктора.
Огромный вал выплеснул меня на серебряный песок, и я догадался, что это острова Совершенного Счастья. Их было пять. Как отдыхающие верблюды, лежали они посреди моря, и я угадывал длинные шеи, маленькие головки и характерный изгиб задних ног. Я пробегал под пышно-веерными пальмами, подбрасывал раковины, смеялся. Казалось, что так было всегда и всегда будет. Но я понял, что будет совсем другое, миновав один поворот.
Нагая Инна стояла передо мной на широком белом камне. Руки, ноги, плечи и волосы ее были покрыты тяжелыми драгоценностями, расположенными с такой строгой симметрией, что чудилось, они держатся только связанные дикой и страшной Инниной красотой. Ее щеки розовели, губы были полураскрыты, как у переводящего дыханье, расширенные, потемневшие зрачки сияли необычайно.
– Подойдите ко мне, Грант, – прозвучал ее прозрачный и желтый, как мед, голос. – Разве вы не видите, что я живая?
Я приблизился и, протянув руку, коснулся ее маленькой, крепкой удлиненной груди.
– Я живая, я живая, – повторяла она, и от этих слов веяло страшным и приятным запахом канувших в бездонность земных трав.
Вдруг ее руки легли вокруг моей шеи, и я почувствовал легкий жар ее груди и шумную прелесть близко склонившегося горячего лица.
– Унеси меня, – говорила она, – ведь ты тоже живой.
Я схватил ее и побежал. Она прижалась ко мне, торопя:
– Скорей! Скорей!
Я упал на поляне, покрытой белым песком, а кругом стеною вставала хвоя. Я поцеловал Инну в губы. Она молчала, только глаза ее смеялись. Тогда я поцеловал ее опять…
Сколько времени мы пробыли на этой поляне, – я не знаю. Знаю только, что ни в одном из сералей Востока, ни в одном из чайных домиков Японии не было столько дразнящих и восхитительных ласк. Временами мы теряли сознание, себя и друг друга, и тогда похожий на большого византийского ангела андрогин говорил о своем последнем блаженстве и жаждал разделения, как женщина жаждет печали. И тотчас же вновь начиналось сладкое любопытство друг к другу.
Какая-то большая планета заглянула на нашу поляну и прошла мимо. Мы приняли это за знак и, обнявшись, помчались ввысь. Снова красные и зеленые облака катали нас на своих дугообразных хребтах, снова звучали резкие, гнусные голоса всемирных гуляк. Бледный, с закрытыми глазами, в стороне поднимался Мезенцов, и его пергаментный лоб оплетали карминно-красные розы. Я знал, что он бормочет заклинанья и творит волшебство, хотя он не поднимал рук и не разжимал губ. Но что это? Красные и зеленые облака кончились, и мы среди белого света, среди фигур бесформенных и туманных, которых не было раньше. Значит, мы потеряли направление и вместо того, чтобы лететь вверх, к внешнему миру, опустились вниз, в неизвестность. Я посмотрела на Инну, она была бледна, но молчала. Она еще ничего не заметила.
Место это напоминало античный театр или большую аудиторию Сорбонны. В обширном амфитеатре, расположенном полукругом, толпились закутанные в белое безмолвные фигуры. Мы очутились среди них, и из всеобщей белизны ярко выделялись розы Мезенцова и драгоценности Инны.
Перед нами, там, где должны были бы находиться актеры или кафедры, я увидел старого доктора. В черном изящном сюртуке, он походил на лектора и двигался как человек, вполне владеющий своей аудиторией. Очевидно было, что он сейчас начнет говорить. Как перед большой опасностью, у меня сжалось сердце, захотелось крикнуть, но было поздно. Я услышал ровный, твердый голос, сразу наполнивший все пространство:
«Господа! Лучшее средство понять друг друга – это полная искренность. Я бы с удовольствием обманул вас, если бы мне это было нужно. Но это мне не нужно. Чем отчетливее вы будете сознавать свое положение, тем выгоднее для меня. Я даже буду пугать вас, искушать. Моя правдивость сделает то, что вы сумеете противостоять всякому искушению. Вы находитесь сейчас в моей стране, я предлагаю вам остаться в ней навсегда. Подумайте! Отказаться от любви и ненависти, смен дня и ночи. У кого есть дети, должен отказаться от детей. У кого есть слава, должен отказаться от славы. Под силу ли вам столько отречений?
Я ничего не скрываю. Пока вы коснулись лишь кожицы плода и не знаете его вкуса. Может быть, он вам покажется терпким или кислым, слишком сладким или слишком ароматным. И когда вы раскусите косточку, не услышите ли вы тихого, страшного запаха горького миндаля? Кто из вас любит неизвестность, хочет, чтобы завтрашний день был целомудрен, как невеста, не оскорбленная даже в мечтах?
Только тех, чей дух подобен электрической волне, только веселых пожирателей пространств зову я к себе. Они встретят здесь неизмеримость, достойную их. Здесь все, рожденное в первый раз, не походит на другое. Здесь нет смерти, прерывающей радость движенья, познанья и любованья. И здесь все вам родное, потому что все – это вы сами! Но время идет, срок близится; или разбейте склянки с эфиром, или вы навеки в моей стране!»
Доктор кончил и наклонился. Бурный восторг всколыхнул собрание, замахали белые рукава, и понесся оглушительный ропот: «Доктора, доктора!»
Я никогда не думал, чтобы лицо Инны могло засветиться таким безмолвным счастьем, таким трепетным обожанием. Мезенцова я не заметил, хотя и высматривал его в толпе. Между тем крики все разрастались, и я испытывал смутное беспокойство. У меня как-то отяжелели ноги, и я стал замечать мое затрудненное дыханье. Вдруг над самым ухом я услышал озабоченный голос Мезенцова, зовущего доктора, и открыл глаза.
Мой флакон эфира был почти пуст. Мне чудилось, точно меня откуда-то бросили в эту уже знакомую комнату с восточными тканями и парчой.
– Разве ты не видишь, что с Инной? Ведь она умирает! – кричал Мезенцов, склонившись над оттоманкой.
Я подбежал к нему. Инна лежала, не дыша, с полуоткрытыми побелевшими губами, а на лбу ее надулась тонкая синяя жила.
– Отними же у нее эфир, – пробормотал я и сам поспешил дернуть ее флакон. Она вздрогнула, лицо ее исказилось от муки, и, не открывая глаз, уткнувшись лицом в подушку, она зарыдала сразу, как ушибшийся ребенок.
– Истерика! Слава Богу, – сказал Мезенцов, опуская полотенце в кувшин с водою, – только теперь мы уже не позовем доктора, нет, довольно! – Он стал смачивать Инне лоб и виски, я держал ее за руку. Через полчаса мы могли начать разговор.
Я обладаю особенно цепкой памятью чудесного, всегда помню все мои сны, и понятно, что мне хотелось рассказывать после всех. Инна была еще слаба, и первым начал Мезенцов.
– Я ничего не видел, но испытывал престранное чувство. Я качался, падал, поднимался и совершенно забыл различие между добром и злом. Это меня так забавляло, что я решил причинить кому-нибудь зло и только не знал, кому, потому что никого не видел. Когда мне это надоело, я без труда открыл глаза.
Потом рассказывала Инна:
– Я не помню, я не помню, но, ах, если бы я могла вспомнить! Я была среди облаков, потом на каком-то песке, и мне было так хорошо. Мне кажется, я и теперь чувствую всю теплоту моего счастья. Зачем вы отняли у меня эфир? Надо было продолжать.
Я сказал, что я тоже видел облака, что они были красные и зеленые, что я слышал голоса и целые разговоры, но повторить их не могу. Бог знает почему, мне захотелось скрытничать. Инна на все радостно кивала головой и, когда я кончил, воскликнула:
– Завтра же мы начнем опять, только надо больше эфиру.
– Нет, Инна, – ответил я, – завтра мы ничего не увидим, у нас только разболится голова. Мне говорили, что эфир действует только на не подготовленный к нему организм и, лишь отвыкнув от него, мы можем вновь что-нибудь увидеть.
– Когда же мы отвыкнем?
– Года через три!
– Вы смеетесь надо мной, – рассердилась Инна, – я могу подождать неделю, ну, две, и то это будет пытка, но три года… нет, Грант, вы должны что-нибудь придумать.
– Тогда, – пошутил я, – поезжайте в Ирландию к настоящим эфироманам, их там целая секта. Они, конечно, знают более совершенные способы вдыхания, да и эфир у них, наверно, чище. Только умирают они очень быстро, а то были бы счастливейшими из людей.
Инна ничего не ответила и задумалась. Мезенцов поднялся, чтобы уйти, я пошел с ним. Мы молчали. Во рту неприятно пахло эфиром, папироса казалась горькой.
Когда мы опять зашли к Инне, нам сказали, что она уехала, и передали записку, оставленную на мое имя.
«Спасибо за совет, милый Грант! Я еду в Ирландию и, надеюсь, найду там то, чего искала всю жизнь. Кланяйтесь Мезенцоу. Ваша Инна .
P.S. Зачем вы тогда отняли у меня эфир?»
Мезенцов тоже прочитал записку, помолчал и сказал тише обыкновенного:
– Ты заметил, как странно изменились после эфира глаза и губы у Инны? Можно подумать, что у нее был любовник.
Я пожал плечами и понял, что самая капризная, самая красивая девушка навсегда вышла из моей жизни.
Н. Войтинская
Я встречалась с ним осенью 1909 г. и весной 1910 г. Я уехала за границу и в Сибирь я вернулась только к весне 1911 г., а осенью 1911 г. он был у нас с Анной Андреевной, потом я была у них в Царском Селе, потом я уж не встречала его никогда.
Я бывала с ним на разных вечерах. На Галерной улице Зноско-Боровский устраивал что-то, шла какая-то пьеса. [5] Кажется, «Коломбина» или «Смерть Коломбины». Были там Кузмин, Ауслендер…
<<…>> Он не любил болтать, беседовать, все преподносил в виде готовых сентенций, поэтических образов. Дара легкой болтовни у него не было. У него была манера живописать. Он «исчезал» за своими впечатлениями, а не рассказывал. Он прекрасно читал стихи.
Он говорил, что его всегда должна вдохновлять какая-либо вещь, известным образом обставленная комната и т.п. В этом смысле он был фетишистом. В Царском Селе, под фигурой строгого отца и брата офицера, он вдохновляться не мог. Ему не хватало экзотики. Он создал эту экзотику в Петербурге, сделав себе маленькое ателье на Гороховой улице. Он утверждал, что позировать нужно и для того, чтобы писать стихотворение, и просил меня позировать ему. Я удивилась: «Как?» Он: «Вы увидите entourage». Я пришла в ателье, там была черепаха, разные экзотические шкуры зверей. Он мне придумал какое-то странное одеянье, и я ему позировала, а он писал стихотворение. «Сегодня ты придешь ко мне…» [6]
Зимой 1909 года он у нас бывал раза два в неделю. В сущности мы не были дружны, всегда пререкались, приходил он по инерции. Папа и мама к нему хорошо относились. Когда он бывал на собраниях где-нибудь и было поздно возвращаться в Царское Село, он приходил ночевать, спал у папы в кабинете. Часто я даже не знала, что он пришел, и только утром встречала его. Он был увлечен парнасцами, знал наизусть Леконта де Лиля, Эредиа, Теофиля Готье.
Он благоговейно относился к ремеслу стихосложения. Он поражал всех тем, что придавал больше значения форме и словесным тонкостям. Он был формалистом до формалистов. Он готовился быть мэтром. Он благоговел перед поэзией Вячеслава Иванова гораздо больше, чем перед поэзией Брюсова. В смысле поэзии считал меня варваром. Живописью совершенно не интересовался, французской немного. Он был изувер, ничем не относящимся к поэзии не интересовался, все – только для поэзии.
Он любил экзотику. Я экзотику не любила, и он находил это непростительным и диким. Он подарил мне живую, большую зеленую ящерицу и уверял меня, что она приносит счастье. Чтобы реваншироваться, я подарила ему маленькую безделушку – металлическую ящерицу. Перед дуэлью он говорил мне, что эта безделушка предохранит его от несчастья…
Он проповедовал кодекс средневековой рыцарственности. Было его стихотворение о даме, и он меня всегда называл «дамой». Ни капли увлечения ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал поклонение и уважение. Это была чистейшая игра.
Он мужественно переносил насмешки. Он приехал зимой в Териоки. Я смеялась, что он считал недостатком носить калоши. У него было странного покроя – в талию, «а ля Пушкин» – пальто. Цилиндр. У меня подруга гостила. Мы пошли на берег моря. Я бросила что-то на лед… «Вот рыцарь, достаньте штуку». Лед подломился, и он попал в ледяную воду в хороших ботинках…
Я не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила. Он умел сохранить торжественный вид, когда над ним смеялись. Никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться, так как он серьезно отвечал и спокойно…
Запись П. Лукницкого
Из книги «КОЛЧАН»
Татиане Викторовне Адамович
- К таким нежданным и певучим бредням
- Зовя с собой умы людей,
- Был Иннокентий Анненский последним
- Из царскосельских лебедей.
- Я помню дни: я, робкий, торопливый,
- Входил в высокий кабинет,
- Где ждал меня спокойный и учтивый,
- Слегка седеющий поэт.
- Десяток фраз, пленительных и странных,
- Как бы случайно уроня,
- Он вбрасывал в пространства безымянных
- Мечтаний – слабого меня.
- О, в сумрак отступающие вещи,
- И еле слышные духи,
- И этот голос, нежный и зловещий,
- Уже читающий стихи!
- В них плакала какая-то обида,
- Звенела медь и шла гроза,
- А там, над шкафом, профиль Эврипида
- Слепил горящие глаза.
- …Скамью я знаю в парке; мне сказали,
- Что он любил сидеть на ней,
- Задумчиво смотря, как сини дали
- В червонном золоте аллей.
- Там вечером и страшно и красиво,
- В тумане светит мрамор плит
- И женщина, как серна боязлива,
- Во тьме к прохожему спешит.
- Она глядит, она поет и плачет
- И снова плачет и поет,
- Не понимая, что все это значит,
- Но только чувствуя – не тот.
- Журчит вода, протачивая шлюзы,
- Сырой травою пахнет мгла,
- И жалок голос одинокой музы,
- Последней – Царского Села.
М. М. Чичагову
- Как собака на цепи тяжелой,
- Тявкает за лесом пулемет,
- И жужжат шрапнели, словно пчелы,
- Собирая ярко-красный мед.
- А «ура» вдали, как будто пенье
- Трудный день окончивших жнецов.
- Скажешь: это – мирное селенье
- В самый благостный из вечером.
- И воистину светло и свято
- Дело величавое войны,
- Серафимы, ясны и крылаты,
- За плечами воинов видны.
- Тружеников, медленно идущих
- На полях, омоченных в крови,
- Подвиг сеющих и славу жнущих,
- Ныне, Господи, благослови.
- Как у тех, что гнутся над сохою,
- Как у тех, что молят и скорбят,
- Их сердца горят перед Тобою,
- Восковыми свечками горят.
- Но тому, о Господи, и силы
- И победы царский час даруй,
- Кто поверженному скажет: – Милый,
- Вот, прими мой братский поцелуй!
- Поздно. Гиганты на башне
- Гулко ударили три.
- Сердце ночами бесстрашней,
- Путник, молчи и смотри.
- Город, как голос наяды,
- В призрачно-светлом былом,
- Кружев узорней аркады,
- Воды застыли стеклом.
- Верно, скрывают колдуний
- Завесы черных гондол
- Там, где огни на лагуне –
- Тысячи огненных пчел.
- Лев на колонне, и ярко
- Львиные очи горят,
- Держит Евангелье Марка,
- Как серафимы, крылат.
- А на высотах собора,
- Где от мозаики блеск,
- Чу, голубиного хора
- Вздох, воркованье и плеск.
- Может быть, это лишь шутка,
- Скал и воды колдовство,
- Марево? Путнику жутко,
- Вдруг… никого, ничего?
- Крикнул. Его не слыхали,
- Он, оборвавшись, упал
- В зыбкие, бледные дали
- Венецианских зеркал.
- Дома косые, двухэтажные,
- И тут же рига, скотный двор,
- Где у корыта гуси важные
- Ведут немолчный разговор.
- В садах настурции и розаны,
- В прудах зацветших караси, –
- Усадьбы старые разбросаны
- По всей таинственной Руси.
- Порою в полдень льется по лесу
- Неясный гул, невнятный крик,
- И угадать нельзя по голосу,
- То человек иль лесовик.
- Порою крестный ход и пение,
- Звонят во все колокола,
- Бегут, – то, значит, по течению
- В село икона приплыла.
- Русь бредит Богом, красным пламенем,
- Где видно ангелов сквозь дым…
- Они ж покорно верят знаменьям,
- Любя свое, живя своим.
- Вот, гордый новою поддевкою,
- Идет в гостиную сосед.
- Поникнув русою головкою,
- С ним дочка – восемнадцать лет.
- «Моя Наташа бесприданница,
- Но не отдам за бедняка».
- И ясный взор ее туманится,
- Дрожа, сжимается рука.
- «Отец не хочет… нам со свадьбою
- Опять придется погодить».
- Да что! В пруду перед усадьбою
- Русалкам бледным плохо ль жить?
- В часы весеннего томления
- И пляски белых облаков
- Бывают головокружения
- У девушек и стариков.
- Но старикам – золотоглавые,
- Святые, белые скиты,
- А девушкам – одни лукавые
- Увещеванья пустоты.
- О Русь, волшебница суровая,
- Повсюду ты свое возьмешь.
- Бежать? Но разве любишь новое
- Иль без тебя да проживешь?
- И не расстаться с амулетами,
- Фортуна катит колесо,
- На полке, рядом с пистолетами,
- Барон Брамбеус и Руссо.
- В стране, где гиппогриф веселый льва
- Крылатого зовет играть в лазури,
- Где выпускает ночь из рукава
- Хрустальных нимф и венценосных фурий;
- В стране, где тихи гробы мертвецов,
- Но где жива их воля, власть и сила,
- Средь многих знаменитых мастеров,
- Ах, одного лишь сердце полюбило.
- Пускай велик небесный Рафаэль,
- Любимец бога скал, Буонарротти,
- Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,
- Челлини, давший бронзе тайну плоти.
- Но Рафаэль не греет, а слепит,
- В Буонарротти страшно совершенство,
- И хмель да Винчи душу замутит,
- Ту душу, что поверила в блаженство
- На Фьезоле, средь тонких тополей,
- Когда горят в траве зеленой маки,
- И в глубине готических церквей,
- Где мученики спят в прохладной раке.
- На всем, что сделал мастер мой, печать
- Любви земной и простоты смиренной.
- О да, не все умел он рисовать,
- Но то, что рисовал он, – совершенно.
- Вот скалы, рощи, рыцарь на коне, –
- Куда он едет, в церковь иль к невесте?
- Горит заря на городской стене,
- Идут стада по улицам предместий;
- Мария держит Сына Своего,
- Кудрявого, с румянцем благородным,
- Такие дети в ночь под Рождество,
- Наверно, снятся женщинам бесплодным;
- И так нестрашен связанным святым
- Палач, в рубашку синюю одетый,
- Им хорошо под нимбом золотым,
- И здесь есть свет, и там – иные светы.
- А краски, краски – ярки и чисты,
- Они родились с ним и с ним погасли.
- Преданье есть: он растворял цветы
- В епископами освященном масле.
- И есть еще преданье: Серафим
- Слетал к нему, смеющийся и ясный,
- И кисти брал, и состязался с ним
- В его искусстве дивном… но напрасно.
- Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
- А жизнь людей мгновенна и убога,
- Но все в себе вмещает человек,
- Который любит мир и верит в Бога.
Георгию Иванову
- Когда зеленый луч, последний на закате,
- Блеснет и скроется, мы не узнаем где,
- Тогда встает душа и бродит, как лунатик,
- В садах заброшенных, в безлюдье площадей.
- Весь мир теперь ее, ни ангелам, ни птицам
- Не позавидует она в тиши аллей,
- А тело тащится вослед и тайно злится,
- Угрюмо жалуясь на боль свою земле.
- «Как хорошо теперь сидеть в кафе счастливом,
- Где над людской толпой потрескивает газ,
- И слушать, светлое потягивая пиво,
- Как женщина поет «La p'tite Tonkinoise» [7].
- Уж карты весело порхают над столами,
- Целят скучающих, миря их с бытием.
- Ты знаешь, я люблю горячими руками
- Касаться золота, когда оно мое.
- Подумай, каково мне с этой бесноватой,
- Воображаемым внимая голосам,
- Смотреть на мелочь звезд; ведь очень небогато
- И просто разубрал Всевышний небеса».
- Земля по временам сочувственно вздыхает,
- И пахнет смолами, и пылью, и травой,
- И нудно думает, но все-таки не знает,
- Как усмирить души мятежной торжество.
- «Вернись в меня, дитя, стань снова грязным
- илом,
- Там, в глубине болот, холодным, скользким дном.
- Ты можешь выбирать между Невой и Нилом
- Отдохновению благоприятный дом.
- Пускай ушей и глаз навек сомкнутся двери,
- И пусть истлеет мозг, предавшийся врагу,
- А после станешь ты растеньем или зверем…
- Знай, иначе помочь тебе я не могу».
- И все идет душа, горда своим уделом,
- К несуществующим, но золотым полям,
- И все спешит за ней, изнемогая, тело,
- И пахнет тлением заманчиво земля.
- Волчица с пастью кровавой
- На белом, белом столбе,
- Тебе, увенчанной славой,
- По праву привет тебе.
- С тобой младенцы, два брата,
- К сосцам стремятся припасть.
- Они не люди, волчата,
- У них звериная масть.
- Не правда ль, ты их любила,
- Как маленьких, встарь, когда,
- Рыча от бранного пыла,
- Сжигали они города.
- Когда же в царство покоя
- Они умчались, как вздох,
- Ты, долго и страшно воя,
- Могилу рыла для трех.
- Волчица, твой город тот же
- У той же быстрой реки.
- Что мрамор высоких лоджий,
- Колонн его завитки,
- И лик Мадонн вдохновенный,
- И храм святого Петра,
- Покуда здесь неизменно
- Зияет твоя нора,
- Покуда жесткие травы
- Растут из дряхлых камней
- И смотрит месяц кровавый
- Железных римских ночей!
- И город цезарей дивных,
- Святых и великих пап,
- Он крепок следом призывных,
- Косматых звериных лап.
М. Л. Лозинскому
- Я помню ночь, как черную наяду,
- В морях под знаком Южного Креста.
- Я плыл на юг; могучих волн громаду
- Взрывали мощно лопасти винта,
- И встречные суда, очей отраду,
- Брала почти мгновенно темнота.
- О, как я их жалел, как было странно
- Мне думать, что они идут назад
- И не остались в бухте необманной,
- Что дон Жуан не встретил донны Анны,
- Что гор алмазных не нашел Синдбад
- И Вечный Жид несчастней во сто крат.
- Но проходили месяцы, обратно
- Я плыл и увозил клыки слонов,
- Картины абиссинских мастеров,
- Меха пантер – мне нравились их пятна –
- И то, что прежде было непонятно, –
- Презренье к миру и усталость снов.
- Я молод был, был жаден и уверен,
- Но дух земли молчал, высокомерен,
- И умерли слепящие мечты,
- Как умирают птицы и цветы.
- Теперь мой голос медлен и размерен,
- Я знаю, жизнь не удалась… и ты,
- Ты, для кого искал я на Леванте
- Нетленный пурпур королевских мантий, –
- Я проиграл тебя, как Дамаянти
- Когда-то проиграл безумный Наль.
- Взлетели кости, звонкие, как сталь,
- Упали кости – и была печаль.
- Сказала ты, задумчивая, строго:
- «Я верила, любила слишком много,
- А ухожу, не веря, не любя,
- И пред лицом Всевидящего Бога,
- Быть может, самое себя губя,
- Навек я отрекаюсь от тебя».
- Твоих волос не смел поцеловать я,
- Ни даже сжать холодных, тонких рук.
- Я сам себе был гадок, как паук,
- Меня пугал и мучил каждый звук,
- И ты ушла, в простом и темном платье,
- Похожая на древнее Распятье.
- То лето было грозами полно,
- Жарой и духотою небывалой,
- Такой, что сразу делалось темно
- И сердце биться вдруг переставало,
- В полях колосья сыпали зерно,
- И солнце даже в полдень было ало.
- И в реве человеческой толпы,
- В гуденье проезжающих орудий,
- В немолчном зове боевой трубы
- Я вдруг услышал песнь моей судьбы
- И побежал, куда бежали люди,
- Покорно повторяя: буди, буди.
- Солдаты громко пели, и слова
- Невнятны были, сердце их ловило:
- «Скорей вперед! Могила так могила!
- Нам ложем будет свежая трава,
- А пологом – зеленая листва,
- Союзником – архангельская сила».
- Так сладко эта песнь лилась, маня,
- Что я пошел, и приняли меня
- И дали мне винтовку, и коня,
- И поле, полное врагов могучих,
- Гудящих грозно бомб и пуль певучих,
- И небо в молнийных и рдяных тучах.
- И счастием душа обожжена
- С тех самых пор; веселием полна,
- И ясностью, и мудростью, о Боге
- Со звездами беседует она,
- Глас Бога слышит в воинской тревоге
- И Божьими зовет свои дороги.
- Честнейшую честнейших херувим,
- Славнейшую славнейших серафим,
- Земных надежд небесное Свершенье
- Она величит каждое мгновенье
- И чувствует к простым словам своим
- Вниманье, милость и благоволенье.
- Есть на море пустынном монастырь
- Из камня белого, золотоглавый,
- Он озарен немеркнущею славой.
- Туда б уйти, покинув мир лукавый,
- Смотреть на ширь воды и неба ширь…
- В тот золотой и белый монастырь!
- Солнце жжет высокие стены,
- Крыши, площади и базары.
- О, янтарный мрамор Сиены
- И молочно-белый – Каррары!
- Все спокойно под небом ясным;
- Вот, окончив псалом последний,
- Возвращаются дети в красном
- По домам от поздней обедни.
- Где ж они, суровые громы
- Золотой тосканской равнины,
- Ненасытная страсть Содомы
- И голодный вопль Уголино?
- Ах, и мукам счет и усладам
- Не веками ведут – годами!
- Гибеллины и гвельфы рядом
- Задремали в гробах с гербами.
- Все проходит, как тень, но время
- Остается, как прежде, мстящим,
- И былое, темное бремя
- Продолжает жить в настоящем.
- Сатана в нестерпимом блеске,
- Оторвавшись от старой фрески,
- Наклонился с тоской всегдашней
- Над кривою Пизанской башней.
- Какой мудрейшею из мудрых пифий
- Поведан будет нам нелицемерный
- Рассказ об иудеянке Юдифи,
- О вавилонянине Олоферне?
- Ведь много дней томилась Иудея,
- Опалена горячими ветрами,
- Ни спорить, ни покорствовать не смея,
- Пред красными, как зарево, шатрами.
- Сатрап был мощен и прекрасен телом,
- Было голос у него как гул сраженья,
- И все же девушкой не овладело
- Томительное головокруженье.
- Но, верно, в час блаженный и проклятый,
- Когда, как омут, приняло их ложе,
- Поднялся ассирийский бык крылатый,
- Так странно с ангелом любви несхожий.
- Иль, может быть, в дыму кадильниц рея
- И вскрикивая в грохоте тимпана,
- Из мрака будущего Саломея
- Кичилась головой Иоканаана.
- Над этим островом какие выси,
- Какой туман!
- И Апокалипсис был здесь написан,
- И умер Пан.
- А есть другие – с пальмами, с дворцами,
- Где весел жнец
- И где позванивают бубенцами
- Стада овец.
- И скрипку, дивно выгнутую, в руки,
- Едва дыша,
- Я взял и слушал, как бежала в звуки
- Ее душа.
- Да! Это только чары, что судьбою
- Я побежден,
- Что ночью звездный дождь над головою,
- И звон, и стон.
- Я вольный, снова верящий удачам,
- Весь мир мне дом.
- Целую девушку с лицом горячим
- И жадным ртом.
- Но лишь на миг к моей стране от вашей
- Опущен мост.
- Его сожгут мечи, кресты и чаши
- Огромных звезд.
Анне Ахматовой
- Я из дому вышел, когда все спали,
- Мой спутник скрывался у рва в кустах,
- Наверно, наутро меня искали,
- Но было поздно, мы шли в полях.
- Мой спутник был желтый, худой, раскосый,
- О, как я безумно его любил,
- Под пестрой хламидой он прятал косу,
- Глазами гадюки смотрел и ныл.
- О старом, о странном, о безбольном,
- О вечном слагалось его нытье,
- Звучало мне звоном колокольным,
- Ввергало в истому, в забытье.
- Мы видели горы, лес и воды,
- Мы спали в кибитках чужих равнин,
- Порою казалось – идем мы годы,
- Казалось порою – лишь день один.
- Когда ж мы достигли стены Китая,
- Мой спутник сказал мне: «Теперь прощай.
- Нам разны дороги: твоя – святая,
- А мне, мне сеять мой рис и чай».
- На белом пригорке, над полем чайным,
- У пагоды ветхой сидел Будда,
- Пред ним я склонился в восторге тайном,
- И было сладко, как никогда.
- Так тихо, так тихо над миром дольным,
- С глазами гадюки, он пел и пел
- О старом, о странном, о безбольном,
- О вечном, и воздух вокруг светлел.
- Три года чума и голод
- Разоряли большую страну,
- И народ сказал Леонарду:
- – Спаси нас, ты добр и мудр. –
- Старинных, заветных свитков
- Все тайны знал Леонард,
- В одно короткое лето
- Страна была спасена.
- Случились распри и войны,
- Когда скончался король,
- Народ сказал Леонарду:
- – Отныне король наш ты. –
- Была Леонарду знакома
- Война, искусство царей,
- Поэты победные оды
- Не успевали писать.
- Когда ж страна усмирилась
- И пахарь взялся за плуг,
- Народ сказал Леонарду:
- – Ты молод, возьми жену. –
- Спокойный, ясный и грустный,
- В ответ молчал Леонард,
- А ночью скрылся из замка,
- Куда – не узнал никто.
- Лишь мальчик-пастух, дремавший
- В ту ночь в угрюмых горах,
- Говорил, что явственно слышал
- Согласный гул голосов.
- Как будто орел парящий,
- Овен, человек и лев
- Вопияли, пели, взывали,
- Говорили зараз во тьме.
- Я не смею больше молиться,
- Я забыл слова литаний,
- Надо мной грозящая птица,
- И глаза у нее – огни.
- Вот я слышу сдержанный клекот,
- Словно звон истлевших цимбал,
- Словно моря дальнего рокот,
- Моря, бьющего в груди скал.
- Вот я вижу – когти стальные
- Наклоняются надо мной,
- Словно струи дрожат речные,
- Озаряемые луной.
- Я пугаюсь, чего ей надо,
- Я не юноша Ганимед,
- Надо мною небо Эллады
- Не струило свой нежный свет.
- Если это голубь Господень
- Прилетел сказать: – Ты готов! –
- То зачем же он так несходен
- С голубями наших садов?
- Словно ветер страны счастливой,
- Носятся жалобы влюбленных,
- Как колосья созревшей нивы,
- Клонятся головы непреклонных.
- Запевает араб в пустыне:
- «Душу мне вырвали из тела».
- Стонет грек над пучиной синей:
- «Чайкою в сердце ты мне влетела».
- Красота ли им не покорна!
- Теплит гречанка в ночь лампадки,
- А подруга араба зерна
- Благовонные жжет в палатке.
- Зов один от края до края,
- Шире, все шире и чудесней,
- Угадали ль вы, дорогая,
- В этой бессвязной и бедной песне?
- Дорогая с улыбкой летней,
- С узкими, слабыми руками
- И, как мед двухтысячелетний,
- Душными черными волосами.
- Об Адонисе с лунной красотой,
- О Гиацинте тонком, о Нарциссе
- И о Данае, туче золотой,
- Еще грустят аттические выси.
- Грустят валы ямбических морей,
- И журавлей кочующие стаи,
- И пальма, о которой Одиссей
- Рассказывал смущенной Навзикае.
- Печальный мир не очаруют вновь
- Ни кудри душные, ни взор призывный,
- Ни лепестки горячих губ, ни кровь,
- Стучавшая торжественно и дивно.
- Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь…
- И ты, о нежная, чье имя – пенье,
- Чье тело – музыка, и ты идешь
- На беспощадное исчезновенье.
- Но мне, увы, неведомы слова –
- Землетрясенья, громы, водопады,
- Чтоб и по смерти ты была жива,
- Как юноши и девушки Эллады.
- Его издавна любят музы,
- Он юный, светлый, он герой,
- Он поднял голову Медузы
- Стальной, стремительной рукой.
- И не увидит он, конечно,
- Он, в чьей душе всегда гроза,
- Как хороши, как человечны
- Когда-то страшные глаза,
- Черты измученного болью,
- Теперь прекрасного лица…
- – Мальчишескому своеволью
- Нет ни преграды, ни конца.
- Вон ждет нагая Андромеда,
- Пред ней свивается дракон,
- Туда, туда, за ним победа
- Летит, крылатая, как он.
- Как могли мы прежде жить в покое
- И не ждать ни радостей, ни бед,
- Не мечтать об огнезарном бое,
- О рокочущей трубе побед.
- Как могли мы… но еще не поздно,
- Солнце духа наклонилось к нам,
- Солнце духа благостно и грозно
- Разлилось по нашим небесам.
- Расцветает дух, как роза мая,
- Как огонь, он разрывает тьму,
- Тело, ничего не понимая,
- Слепо повинуется ему.
- В дикой прелести степных раздолий,
- В тихом таинстве лесной глуши
- Ничего нет трудного для воли
- И мучительного для души.
- Чувствую, что скоро осень будет,
- Солнечные кончатся труды
- И от древа духа снимут люди
- Золотые, зрелые плоды.
- Прошел патруль, стуча мечами,
- Дурной монах прокрался к милой,
- Над островерхими домами
- Неведомое опочило.
- Но мы спокойны, мы посмотрим
- Со стражами Господня гнева,
- И пахнет звездами и морем
- Твой плащ широкий, Женевьева.
- Ты помнишь ли, как перед нами
- Встал храм, чернеющий во мраке,
- Над сумрачными алтарями
- Горели огненные знаки.
- Торжественный, гранитнокрылый,
- Он охранял наш город сонный,
- В нем пели молоты и пилы,
- В ночи работали масоны.
- Слова их скупы и случайны,
- Но взоры ясны и упрямы,
- Им древние открыты тайны,
- Как строить каменные храмы.
- Поцеловав порог узорный,
- Свершив коленопреклоненье,
- Мы попросили так покорно
- Тебе и мне благословенья.
- Великий Мастер с нивелиром
- Стоял средь грохота и гула
- И прошептал: «Идите с миром,
- Мы побеждаем Вельзевула».
- Пока они живут на свете,
- Творят закон святого сева,
- Мы смело можем быть как дети,
- Любить друг друга, Женевьева.
- Да, этот храм и дивен и печален,
- Он – искушенье, радость и гроза,
- Горят в окошечках исповедален
- Желаньем истомленные глаза.
- Растет и падает напев органа
- И вновь растет полнее и страшней,
- Как будто кровь, бунтующая пьяно
- В гранитных венах сумрачных церквей.
- От пурпура, от мучеников томных,
- От белизны их обнаженных тел,
- Бежать бы из-под этих сводов темных,
- Пока соблазн душой не овладел.
- В глухой таверне старого квартала
- Сесть на террасе и спросить вина,
- Там от воды приморского канала
- Совсем зеленой кажется стена.
- Скорей! Одно последнее усилье!
- Но вдруг слабеешь, выходя на двор, –
- Готические башни, словно крылья,
- Католицизм в лазури распростер.
- Нет, я не в том тебе завидую
- С такой мучительной обидою,
- Что уезжаешь ты и вскоре
- На Средиземном будешь море.
- И Рим увидишь, и Сицилию –
- Места, любезные Виргилию,
- В благоухающей лимонной
- Трущобе сложишь стих влюбленный.
- Я это сам не раз испытывал,
- Я солью моря грудь пропитывал,
- Над Арно, Данта чтя обычай,
- Слагал сонеты Беатриче.
- Что до природы мне, до древности,
- Когда я полон жгучей ревности,
- Ведь ты во всем ее убранстве
- Увидел Музу Дальних Странствий.
- Ведь для тебя в руках изменницы
- В хрустальном кубке нектар пенится,
- И огнедышащей беседы
- Ты знаешь молнии и бреды.
- А я, как некими гигантами,
- Торжественными фолиантами
- От вольной жизни заперт в нишу,
- Ее не вижу и не слышу.
- Я сегодня опять услышал,
- Как тяжелый якорь ползет,
- И я видел, как в море вышел
- Пятипалубный пароход,
- Оттого-то и солнце дышит,
- А земля говорит, поет.
- Неужель хоть одна есть крыса
- В грязной кухне иль червь в норе,
- Хоть один беззубый и лысый
- И помешанный на добре,
- Что не слышат песен Улисса,
- Призывающего к игре?
- Ах, к игре с трезубцем Нептуна,
- С косами диких нереид
- В час, когда буруны, как струны,
- Звонко лопаются и дрожит
- Пена в них или груди юной
- Самой нежной из Афродит.
- Вот и я выхожу из дома
- Повстречаться с иной судьбой,
- Целый мир, чужой и знакомый,
- Породниться готов со мной:
- Берегов изгибы, изломы,
- И вода, и ветер морской.
- Солнце духа, ах, беззакатно,
- Не земле его побороть,
- Никогда не вернусь обратно,
- Усмирю усталую плоть,
- Если Лето благоприятно,
- Если любит меня Господь.
- Полночь сошла, непроглядная темень,
- Только река от луны блестит,
- А за рекой неизвестное племя,
- Зажигая костры, шумит.
- Завтра мы встретимся и узнаем,
- Кому быть властителем этих мест;
- Им помогает черный камень,
- Нам – золотой нательный крест.
- Вновь обхожу я бугры и ямы,
- Здесь будут вещи, мулы тут;
- В этой унылой стране Сидамо
- Даже деревья не растут.
- Весело думать: если мы одолеем –
- Многих уже одолели мы, –
- Снова дорога желтым змеем
- Будет вести с холмов на холмы.
- Если же завтра волны Уэби
- В рев своей возьмут мой предсмертный вздох,
- Мертвый, увижу, как в бледном небе
- С огненным черный борется бог.
Восточная Африка
1913
- Та страна, что могла быть раем,
- Стала логовищем огня,
- Мы четвертый день наступаем,
- Мы не ели четыре дня.
- Но не надо яства земного
- В этот страшный и светлый час,
- Оттого, что Господне слово
- Лучше хлеба питает нас.
- И залитые кровью недели
- Ослепительны и легки,
- Надо мною рвутся шрапнели,
- Птиц быстрей взлетают клинки.
- Я кричу, и мой голос дикий,
- Это медь ударяет в медь,
- Я, носитель мысли великой,
- Не могу, не могу умереть.
- Словно молоты громовые
- Или воды гневных морей,
- Золотое сердце России
- Мерно бьется в груди моей.
- И так сладко рядить Победу,
- Словно девушку, в жемчуга,
- Проходя по дымному следу
- Отступающего врага.
- Есть так много жизней достойных,
- Но одна лишь достойна смерть,
- Лишь под пулями в рвах спокойных
- Веришь в знамя Господне, твердь.
- И за это знаешь так ясно,
- Что в единственный, строгий час,
- В час, когда, словно облак красный,
- Милый день уплывает из глаз, –
- Свод небесный будет раздвинут
- Пред душою, и душу ту
- Белоснежные кони ринут
- В ослепительную высоту.
- Там Начальник в ярком доспехе,
- В грозном шлеме звездных лучей
- И к старинной бранной потехе
- Огнекрылых зов трубачей.
- Но и здесь на земле не хуже
- Та же смерть – ясна и проста:
- Здесь товарищ над павшим тужит
- И целует его в уста.
- Здесь священник в рясе дырявой
- Умиленно поет псалом,
- Здесь играют марш величавый
- Над едва заметным холмом.
- Лежал истомленный на ложе болезни
- (Что горше, что тягостней ложа болезни?),
- И вдруг загорелись усталые очи,
- Он видит, он слышит в священном восторге –
- Выходят из мрака, выходят из ночи
- Святой Пантелеймон и воин Георгий.
- Вот речь начинает святой Пантелеймон
- (Так сладко, когда говорит Пантелеймон):
- «Бессонны твои покрасневшие вежды,
- Пылает и душит твое изголовье,
- Но я прикоснусь к тебе краем одежды
- И в жилы пролью золотое здоровье».
- И другу вослед выступает Георгий
- (Как трубы победы, вещает Георгий):
- «От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,
- Но сильного слезы пред Богом не правы,
- И Бог не слыхал твоего отреченья,
- Ты встанешь заутра, и встанешь для славы».
- И скрылись, как два исчезающих света
- (Средь мрака ночного два яркие света),
- Растущего дня надвигается шорох,
- Вот солнце сверкнуло, и встал истомленный
- С надменной улыбкой, с весельем во взорах
- И с сердцем, открытым для жизни бездонной.
- Я вежлив с жизнью современною,
- Но между нами есть преграда,
- Все, что смешит ее, надменную, –
- Моя единая отрада.
- Победа, слава, подвиг – бледные
- Слова, затерянные ныне,
- Гремят в душе, как громы медные,
- Как голос Господа в пустыне.
- Всегда ненужно и непрошено
- В мой дом спокойствие входило;
- Я клялся быть стрелою, брошенной
- Рукой Немврода иль Ахилла.
- Но нет, я не герой трагический,
- Я ироничнее и суше,
- Я злюсь, как идол металлический
- Среди фарфоровых игрушек.
- Он помнит головы курчавые,
- Склоненные к его подножью,
- Жрецов молитвы величавые,
- Грозу в лесах, объятых дрожью.
- И видит, горестно-смеющийся,
- Всегда недвижные качели,
- Где даме с грудью выдающейся
- Пастух играет на свирели.
1913
- Какая странная нега
- В ранних сумерках утра,
- В таянье вешнего снега,
- Во всем, что гибнет и мудро.
- Золотоглазой ночью
- Мы вместе читали Данта,
- Сереброкудрой зимою
- Нам снились розы Леванта.
- Утром вставай, тоскуя,
- Грусти и радуйся скупо,
- Весной проси поцелуя
- У женщины милой и глупой.
- Цветы, что я рвал ребенком
- В зеленом драконьем болоте,
- Живые на стебле тонком,
- О, где вы теперь цветете!
- Ведь есть же мир лучезарней,
- Что недоступен обидам
- Краснощеких афинских парней,
- Хохотавших над Эврипидом.
- Я не прожил, я протомился
- Половину жизни земной,
- И, Господь, вот Ты мне явился
- Невозможной такой мечтой.
- Вижу свет на горе Фаворе
- И безумно тоскую я,
- Что взлюбил и сушу и море,
- Весь дремучий сон бытия;
- Что моя молодая сила
- Не смирилась перед Твоей,
- Что так больно сердце томила
- Красота Твоих дочерей.
- Но любовь разве цветик алый,
- Чтобы ей лишь мгновенье жить,
- Но любовь разве пламень малый,
- Что ее легко погасить?
- С этой тихой и грустной думой
- Как-нибудь я жизнь дотяну,
- А о будущей Ты подумай,
- Я и так погубил одну.
- Больные верят в розы майские,
- И нежны сказки нищеты,
- Заснув в тюрьме, виденья райские
- Наверняка увидишь ты.
- Но нет тревожней и заброшенней –
- Печали посреди шелков,
- И я принцессе на горошине
- Всю кровь мою отдать готов.
- «Хочешь, горбун, поменяться
- Своею судьбой с моей,
- Хочешь шутить и смеяться,
- Быть вольной птицей морей?»
- Он подозрительным взглядом
- Смерил меня всего:
- «Уходи, не стой со мной рядом,
- Не хочу от тебя ничего!»
- У муки столько струн на лютне,
- У счастья нету ни одной,
- Взлетевший в небо бесприютней,
- Чем опустившийся на дно.
- И Заклинающий проказу,
- Сказавший деве – талифа!..
- …Ему дороже нищий Лазарь
- Великолепного волхва.
- Ведь я не грешник, о Боже,
- Не святотатец, не вор,
- И я верю, верю, за что же
- Тебя не видит мой взор?
- Ах, я не живу в пустыне,
- Я молод, весел, пою,
- И Ты, я знаю, отринешь
- Бедную душу мою!
- В мой самый лучший, светлый день,
- В тот день Христова Воскресенья,
- Мне вдруг примнилось искупленье,
- Какого я искал везде.
- Мне вдруг почудилось, что, нем,
- Изранен, наг, лежу я в чаще,
- И стал я плакать надо всем
- Слезами радости кипящей.
- Ни шороха полночных далей,
- Ни песен, что певала мать,
- Мы никогда не понимали
- Того, что стоило понять.
- И, символ горнего величья,
- Как некий благостный завет,
- Высокое косноязычье
- Тебе даруется, поэт.
- Сквозь дождем забрызганные стекла
- Мир мне кажется рябым;
- Я гляжу: ничто в нем не поблекло
- И не сделалось чужим.
- Только зелень стала чуть зловещей,
- Словно пролит купорос,
- Но зато рисуется в ней резче
- Круглый куст кровавых роз.
- Капли в лужах плещутся размерней
- И бормочут свой псалом,
- Как монашенки в часы вечерни,
- Торопливым голоском.
- Слава, слава небу в тучах черных!
- То – река весною, где
- Вместо рыб стволы деревьев горных
- В мутной мечутся воде.
- В гиблых омутах волшебных мельниц
- Ржанье бешеных коней,
- И душе, несчастнейшей из пленниц,
- Так и легче и вольней.
- Как этот ветер грузен, не крылат!
- С надтреснутою дыней схож закат,
- И хочется подталкивать слегка
- Катящиеся вяло облака.
- В такие медленные вечера
- Коней карьером гонят кучера,
- Сильней веслом рвут воду рыбаки,
- Ожесточенней рубят лесники
- Огромные, кудрявые дубы…
- А те, кому доверены судьбы
- Вселенского движения и в ком
- Всех ритмов бывших и небывших дом,
- Слагают окрыленные стихи,
- Расковывая косный сон стихий.
- В Генуе, в палаццо дожей
- Есть старинные картины,
- На которых странно схожи
- С лебедями бригантины.
- Возле них, сойдясь гурьбою,
- Моряки и арматоры
- Все ведут между собою
- Вековые разговоры.
- С блеском глаз, с усмешкой важной,
- Как живые, неживые…
- От залива ветер влажный
- Спутал бороды седые.
- Миг один, и будет чудо;
- Вот один из них, смелея,
- Спросит: «Вы, синьор, откуда,
- Из Ливорно иль Пирея?
- Если будете в Брабанте,
- Там мой брат торгует летом,
- Отвезите бочку кьянти
- От меня ему с приветом».
- Голубая беседка
- Посредине реки,
- Как плетеная клетка,
- Где живут мотыльки.
- И из этой беседки
- Я смотрю на зарю,
- Как качаются ветки,
- Иногда я смотрю;
- Как качаются ветки,
- Как скользят челноки,
- Огибая беседки
- Посредине реки.
- У меня же в темнице
- Куст фарфоровых роз,
- Металлической птицы
- Блещет золотом хвост.
- И, не веря в приманки,
- Я пишу на шелку
- Безмятежные танки
- Про любовь и тоску.
- Мой жених все влюбленней;
- Пусть он лыс и устал,
- Он недавно в Кантоне
- Все экзамены сдал.
- Апостол Петр, бери свои ключи,
- Достойный рая в дверь его стучит.
- Коллоквиум с отцами церкви там
- Покажет, что я в догматах был прям.
- Георгий пусть поведает о том,
- Как в дни войны сражался я с врагом.
- Святой Антоний может подтвердить,
- Что плоти я никак не мог смирить.
- Но и святой Цецилии уста
- Прошепчут, что душа моя чиста.
- Мне часто снились райские сады,
- Среди ветвей румяные плоды,
- Лучи и ангельские голоса,
- Внемировой природы чудеса.
- И знаешь ты, что утренние сны
- Как предзнаменованья нам даны.
- Апостол Петр, ведь если я уйду
- Отвергнутым, что делать мне в аду?
- Моя любовь растопит адский лед,
- И адский огонь слеза моя зальет.
- Перед тобою темный серафим
- Появится ходатаем моим.
- Не медли более, бери ключи,
- Достойный рая в дверь его стучит.
О. Н. Высотской
- В ночном кафе мы молча пили кьянти,
- Когда вошел, спросивши шерри-бренди,
- Высокий и седеющий эффенди,
- Враг злейший христиан на всем Леванте.
- И я ему заметил: «Перестаньте,
- Мой друг, презрительного корчить дэнди
- В тот час, когда, быть может, по легенде
- В зеленый сумрак входит Дамаянти».
- Но он, ногою топнув, крикнул: «Бабы!
- Вы знаете ль, что черный камень Кабы
- Поддельным признан был на той неделе?»
- Потом вздохнул, задумавшись глубоко,
- И прошептал с печалью: «Мыши съели
- Три волоска из бороды Пророка».
- Нет воды вкуснее, чем в Романье,
- Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,
- В лунной мгле разносятся признанья,
- От цветов струится благовонье.
- Лишь фонарь идущего вельможи
- На мгновенье выхватит из мрака
- Между кружев розоватость кожи,
- Длинный ус, что крутит забияка.
- И его скорей проносят мимо,
- А любовь глядит и торжествует.
- О, как пахнут волосы любимой,
- Как дрожит она, когда целует.
- Но вино чем слаще, тем хмельнее,
- Дама чем красивей, тем лукавей,
- Вот уже уходят ротозеи
- В тишине мечтать о высшей славе.
- И они придут, придут до света
- С мудрой думой о Юстиниане
- К темной двери университета,
- Векового логовища знаний.
- Старый доктор сгорблен в красной тоге,
- Он законов ищет в беззаконьи,
- Но и он порой волочит ноги
- По веселым улицам Болоньи.
- Тэффи
- На скале, у самого края,
- Где река Елизабет, протекая,
- Скалит камни, как зубы, был замок.
- На его зубцы и бойницы
- Прилетали тощие птицы,
- Глухо каркали, предвещая.
- А внизу, у самого склона,
- Залегала берлога дракона
- Шестиногого, с рыжей шерстью.
- Сам хозяин был черен, как в дегте,
- У него были длинные когти,
- Гибкий хвост под плащом он прятал.
- Жил он скромно, хотя не медведем,
- И известно было соседям,
- Что он просто-напросто дьявол.
- Но соседи его были тоже
- Подозрительной масти и кожи –
- Ворон, оборотень и гиена.
- Собирались они и до света
- Выли у реки Елизабета,
- А потом в домино играли.
- И так быстро летело время,
- Что простое крапивное семя
- Успевало взойти крапивой.
- Это было еще до Адама,
- В небесах жил не Бог, а Брама,
- И на все он смотрел сквозь пальцы.
- Жить да жить бы им без печали!
- Но однажды в ночь переспали
- Вместе оборотень и гиена.
- И родился у них ребенок,
- Не то птица, не то котенок,
- Он радушно был взят в компанью.
- Вот собрались они, как обычно,
- И, повыв над рекой отлично,
- Как всегда, за игру засели.
- И играли, играли, играли,
- Как играть приходилось едва ли
- Им, – до одури, до одышки.
- Только выиграл все ребенок:
- И бездонный пивной бочонок,
- И поля, и угодья, и замок.
- Закричал, раздувшись, как груда:
- «Уходите вы все отсюда,
- Я ни с кем не стану делиться!
- Только добрую старую маму
- Посажу я в ту самую яму,
- Где была берлога дракона».
- Вечером по берегу Елизабета
- Ехала черная карета,
- А в карете сидел старый дьявол.
- Позади тащились другие,
- Озабоченные, больные,
- Глухо кашляя, подвывая.
- Кто храбрился, кто ныл, кто сердился…
- А тогда уж Адам родился,
- Бог, спаси Адама и Еву!
- Как эмаль, сверкает море,
- И багряные закаты
- На готическом соборе,
- Словно гарпии, крылаты;
- Но какой античной грязью
- Полон город, и не вдруг
- К золотому безобразью
- Нас приучит буйный юг.
- Пахнет рыбой, и лимоном,
- И духами парижанки,
- Что под зонтиком зеленым
- И несет креветок в банке;
- А за кучею навоза
- Два косматых старика
- Режут хлеб… Сальватор Роза
- Их провидел сквозь века.
- Здесь не жарко, с моря веют
- Белобрысые туманы,
- Все хотят и все не смеют
- Выйти в полночь на поляны,
- Где седые, грозовые
- Скалы высятся венцом,
- Где засела малярия
- С желтым бешеным лицом.
- И, как птица с трубкой в клюве,
- Поднимает острый гребень,
- Сладко нежится Везувий,
- Расплескавшись в сонном небе.
- Бьются облачные кони,
- Поднимаясь на зенит,
- Но, как истый лаццарони,
- Все дымит он и храпит.
- Жизнь печальна, жизнь пустынна,
- И не сжалится никто;
- Те же вазочки в гостиной,
- Те же рамки и плато.
- Томик пыльный, томик серый
- Я беру, тоску кляня,
- Но и в книгах кавалеры
- Влюблены, да не в меня.
- А меня совсем иною
- Отражают зеркала,
- Я наяда под луною
- В зыби водного стекла.
- В глубине средневековья
- Я принцесса, что, дрожа,
- Принимает славословья
- От красивого пажа.
- Иль на празднике Версаля
- В час, когда заснет земля,
- Взоры юношей печаля,
- Я пленяю короля.
- Иль влюблен в мои романсы
- Весь парижский полусвет
- Так, что мне слагает стансы
- С львиной гривою поэт.
- Выйду замуж, буду дамой,
- Злой и верною женой,
- Но мечте моей упрямой
- Никогда не стать иной.
- И зато за мной, усталой,
- Смерть прискачет на коне,
- Словно рыцарь, с розой алой
- Не чешуйчатой броне.
- Ушла… Завяли ветки0
- Сирени голубой,
- И даже чижик в клетке
- Заплакал надо мной.
- Что пользы, глупый чижик,
- Что пользы нам грустить,
- Она теперь в Париже,
- В Берлине, может быть.
- Страшнее страшных пугал
- Красивым честный путь,
- И нам в наш тихий угол
- Беглянки не вернуть.
- От Знаменья псаломщик
- В цилиндре на боку,
- Большой, костлявый, тощий,
- Зайдет попить чайку.
- На днях его подруга
- Ушла в веселый дом,
- И мы теперь друг друга,
- Наверное, поймем.
- Мы ничего не знаем,
- Ни как, ни почему,
- Весь мир необитаем,
- Неясен он уму.
- А песню вырвет мука –
- Так старая она:
- «Разлука ты, разлука,
- Чужая сторона!»
- В моем бреду одна меня томит
- Каких-то острых линий бесконечность,
- И непрерывно колокол звонит,
- Как бой часов отзванивал бы вечность.
- Мне кажется, что после смерти так
- С мучительной надеждой воскресенья
- Глаза вперяются в окрестный мрак,
- Ища давно знакомые виденья.
- Но в океане первозданной мглы
- Нет голосов и нет травы зеленой,
- А только кубы, ромбы, да углы,
- Да злые, нескончаемые звоны.
- О, хоть бы сон настиг меня скорей!
- Уйти бы, как на праздник примиренья,
- На желтые пески седых морей
- Считать большие бурые каменья.
- Опять волчица на столбе
- Рычит в огне багряных светов…
- Судьба Италии – в судьбе
- Ее торжественных поэтов.
- Был Августов высокий век,
- И золотые строки были;
- Спокойней величавых рек,
- С ней разговаривал Виргилий.
- Был век печали; и тогда,
- Как враг в ее стучался двери,
- Бежал от мирного труда
- Изгнанник бледный, Алигьери.
- Униженная до конца,
- Страна, веселием объята,
- Короновала мертвеца
- В короновании Торквата.
- И в дни прекраснейшей войны,
- Которой кланяюсь я земно,
- К которой завистью полны
- И Александр и Агамемнон,
- Когда все лучшее, что в нас
- Таилось скупо и сурово,
- Вся сила духа, доблесть рас,
- Свои разрушило оковы –
- Слова: «Встает великий Рим,
- Берите ружья, дети горя…» –
- Грозней громов; внимая им,
- Толпа взволнованнее моря.
- А море синей пеленой
- Легло вокруг, как мощь и слава
- Италии, как щит святой
- Ее стариннейшего права.
- А горы стынут в небесах,
- Загадочны и незнакомы,
- Там зреют молнии в лесах,
- Там чутко притаились громы.
- И, конь, встающий на дыбы,
- Народ поверил в правду света,
- Вручая страшные судьбы
- Рукам изнеженным поэта.
- И все поют, поют стихи
- О том, что вольные народы
- Живут, как образы стихий,
- Ветра, и пламени, и воды.
Книги стихов Гумилева – хорошие книги, честно сделанные, а последняя, «Колчан», едва ли не лучшая из них. И в этой книге, несмотря на новые формальные успехи и на новую внутреннюю сосредоточенность, поэт остался верен той «неподвижности», которая была свойственна Готье, Леконт де Лилю или Эредиа. Впрочем, русская душа поэта предопределяет в известной мере ту своеобразную непосредственность и живую сердечность, которые не свойственны латинскому гению.
Хотя цитаты из поэтов мало убедительны, ибо все знают, что «лирическая свобода» – самое первое и самое важное свойство истинной поэзии, и потому, естественно, в противовес любой цитате можно найти десятки противоречащих ей лирических утверждений того же поэта, и даже в той же книге, но, несмотря на это, приходится иногда пользоваться некоторыми выражениями самого стихотворца, чтобы пояснить наше отношение к его поэзии, наше понимание его души и сердца.
Так, чтобы яснее показать, насколько чуждо Гумилеву современное мироощущение, антиномичное в существе своем, можно сослаться на его соответственное лирическое признание, не выдавая, однако, этих стихов за прямое доказательство высказанной мысли:
- Я вежлив с жизнью современною,
- Но между нами есть преграда…
Это сущая правда. Стоит только перечесть стихи поэта о войне, чтобы не сомневаться более в искренности и точности этого признания.
В недавно опубликованных дневниках Толстого есть, между прочим, примечательное рассуждение о войне; казалось бы, Толстой принципиально отрицал войну, не должен становиться на историческую точку зрения, но в своих интимных записках он как будто уклоняется от принципиальности: он недоумевает, как это теперь, именно теперь возможно воевать: прежде, во время наполеоновских войн или даже во время севастопольской кампании, люди, по его мнению, воевали искренне, а вот сегодня, когда каждый гимназист понимает, что война есть зло, воевать уже нельзя, невозможно, противоестественно. Такое толстовское непонимание войны в большей или меньшей степени, несмотря ни на какие философические отговорки, свойственно почти всем современникам. Нелицемерно принимают войну как таковую, войну как «рыцарское и благородное» состояние, а не как необходимое, но всегда ужасное зло, лишь люди такого душевного строя, который вовсе не созвучен новой жизни, новой культуре, новому религиозному сознанию.
Гумилев один из них. Он даже не подозревает возможность рефлексии в деле войны. Он до конца искренен в своей любви к бранной славе. Вот почему так удачны его военные стихи:
- Есть так много жизней достойных,
- Но одна лишь достойна смерть,
- Лишь под пулями в рвах спокойных
- Веришь в знамя Господне, твердь.
Здесь нет и тени сомнений, здесь искренность, твердость, непосредственность, которым позавидует, пожалуй, и самый убежденный из германских воинов.
- И так сладко рядить Победу,
- Словно девушку, в жемчуга,
- Проходя по дымному следу
- Отступающего врага.
Это превосходно. Нельзя не восхищаться великолепным сочетаньем слов и торжественным ритмом. Такую счастливую форму для песен о битвах мог найти лишь поэт, который ничего не знает о новом душевном опыте, мучительном и глубоком, противоречивом и ответственном.<<…>>
Я остановился так на теме войны, потому что, в сущности, здесь ключ к пониманию лирики Гумилева. Стихов, посвященных войне, немного в книгах поэта, но ко всему в этом мире он подходит как воин, которого на время отпустили из стана, чтобы он отдохнул и пображничал. Гумилев как будто всегда чувствует, что все это «пока», а вот заиграют «марш величавый» – и надо снова садиться на коня по властному зову строгого вождя. <<…>>
Примечательно, что, несмотря на свой рыцарский воинственный пафос, столь свойственный германской культуре, лирика Гумилева ни в какой мере не зависит формально от поэзии немецкой. Воспитанный в прекрасных традициях родной поэзии, Гумилев и следует им покорно. И если и надо искать иных созвучий в его поэтических опытах, то найти их можно лишь в романских литературах, где есть подлинная любовь к земле и плоти. Гумилев любит земное наше бытие как француз XIX века и принимает этот мир, не переоценивая его.
Было утро, а еще не все туманы покинули земные болота. Еще носились прохладные морские ветры. А круглое сверкающее солнце уже поднялось на горизонте и нежно целовало землю, чтобы измучить ее после горячей лаской полуденного зноя. Пели невиданные птицы, страшные чудовища боролись на поверхности взволнованного моря. Золотые мухи казались искрами, упавшими с уже мертвой луны.
И первый человек вышел из пещеры.
Он встал на высоком утесе, где роскошная трава сбилась в причудливые узоры. И перед ним расстилалось неведомое море. Жадным и любопытным взором смотрел он на новый доставшийся ему мир, а в голове его еще бродили смутные воспоминания, знакомые, но полузабытые слова. Он не знал, кто дал ему это прекрасное сильное тело, кто забросил его в темную пещеру, из которой он вышел к пределам зеленоватого моря и лоснящихся брызгами черных утесов. Но он уже чувствовал, как законы нового бытия заставляют трепетать каждый фибр его тела безумной жаждой движения и слова. И стоял задумчивый и опьяненный.
Запоздавшая дикая кошка кралась между кустов. Пятнистым животом припадала к мягкой траве. Ее зрачки, круглые и загадочные, остановились на человеке, чаруя его странною тайной злого. Но она была голодна. Миг – и длинное гибкое тело мелькнуло в воздухе, в грудь человека впились острые, стальные когти, и в его лицо заглянула круглая оскаленная морда с фосфорическим блеском глаз. Простая случайность грозила уничтожить любимейшее творение Бога. Но могучие инстинкты всколыхнулись в груди человека, и он, не знакомый ни с опасностью, ни со смертью, радостно бросился навстречу борьбе. Сильными руками оторвал он разъяренного врага, швырнул его на траву и обоими коленями придавил к земле это пушистое бьющееся тело. Случайно он ощупал тяжелый камень. И сам не зная зачем и как, он ударил им по оскаленной морде, еще и еще. Послышался зловещий хруст и предсмертный хрип, потом все стихло, и борьба и движение. Изумленно созерцал человек эту перемену. Изумленно смотрел он на неподвижное тело кошки с раздробленной головой. И не в силах был связать всего прошедшего.
Острая боль заставила его очнуться. Он был ранен, и частые крупные капли крови текли по его изодранной груди. Ноги его подкашивались, и в ушах стоял странный звон. Внезапно он почувствовал, что уже сидит на мягкой траве и что море, скалы и берег двигаются перед ним все быстрее и быстрее. И, опрокинувшись, он потерял сознание.
Солнце светило так же ярко, но в небе уже начиналось что-то страшное. Синеватые облака медленно и как-то нехотя проползали на горизонте. Но вот рванул ветер, и они заметались, словно испуганные птицы. Где-то загрохотало, и носорог, спокойно дремавший в болоте, приоткрыл свои маленькие глазки и глубже зарылся в холодный ил. Его беспокоило скопившееся электричество.
Сразу потемнело, и шумные, теплые потоки дождя туманным пологом скрыли окрестность. Гремело в небе, и глухо рокотало море, вздымая гигантские черные волны. И при огненных вспышках молний резким контуром вырисовывались фигуры встревоженных обитателей земли. Там пещерный медведь, бегущий в горы укрыться от грозы, там лани, прижавшиеся к утесу, а там еще какие-то неведомые существа, испуганные и трепещущие. Казалось, что весь новый, недавно родившийся мир был осужден к погибели. Но кто-то великий сказал свое запрещение. Он наложил руку на тучи, и они пролили вместо вихрей и мрака нежные слезы раскаяния. И теплая влага омыла воспаленные раны на груди лежащего человека. Девственно-здоровые силы тела довершили остальное. И мало-помалу его беспамятство перешло в легкий освежительный сон. И опять безумная жажда жизни огнем прошла в его жилах, и он открыл глаза, такой же могучий, такой же радостный и готовый на все.
Буря кончилась. Последние облака темной угрозой столпились на востоке, а на западе опускалось уже бессильное солнце и задумчиво улыбалось, как будто жалея, что ему не удалось вдоволь наиграться с землею.
Человек стремительно поднялся. Он чувствовал себя внезапно созревшим. Он знал борьбу, знал страдание и видел смерть. Но тем глубже, тем прекраснее показался ему мир.
Опьяненный самим собой, своей красотой и мощью, он начал пляску, первую божественную пляску, естественное выражение чувства жизни. Закружился и запрыгал, и каждый новый прыжок новой радостью плескал в его широко раскрывшееся сердце.
Из-под ног его вырвался тяжелый камень и с грохотом покатился в пропасть; долго соскакивал с камня на камень, ломал кусты и, с силой ударившись, разбился на дне. «Тремограст», – повторило далекое эхо. Человек внимательно прислушался и, казалось, что-то соображал. Медленно прошептал он: «Тремограст». Потом весело засмеялся, ударил себя в грудь и уже громко и утвердительно крикнул: «Тремограст», и эхо ответило ему.
Он был в восторге, найдя себе имя, такое звучное и напоминающее паденье камня. Полный благодарности, он решил тотчас же идти искать того, кто первый за скалами громко произнес это слово. Но взошла луна, холодная и печальная, как женщина, послышались ночные шорохи, и человеку сделалось страшно. На него надвигалось что-то гибкое и неведомое, против чего не властны ни его могучие руки, ни красивое, гордое слово. «Тремограст», и, как ящерица, забившись среди камней, он начал терпеливо ждать, когда удалится эта новая опасность.
Пришел день, а за ним еще многие другие. И не было конца ликованию и восторгу. Все удавалось счастливому первенцу Бога. Мысли, как звезды, рождались в его голове, руки были искусны, и природа с любовью подчинялась его желаниям.
Из мраморных глыб он сложил себе обширную пещеру и украсил ее царственными шкурами убитых им львов и пантер. Из гибкого тиса сделал лук и перетянул его сплетенными жилами гигантского буйвола. Перьями изумрудных птиц окрылил он легкие стрелы и смеялся от радости, когда они пели, вонзаясь в голубой воздух. С этим луком и стрелами он охотился в прохладных равнинах за быстрыми ланями, в угрюмых скалистых ущельях боролся со свирепыми медведями и в топких, заросших тростником болотах поражал гиппопотамов, которые только ночью выходят из липкой и глубокой тины.
И жемчужными вечерами, когда выплывали на берег гордые морские кони и их ржанье, как божественный хохот, прокатывалось по водной пустыне, он подкрадывался к ним, веселый и жестокий, проползая под низко склоненными ветвями и вдыхая пряный запах окропленной росою травы. Золотой звенящей осой пролетала стрела и вонзалась в круто согнутую шею или в лоснящийся круп одного из красивых животных. Диким ужасом схваченные, мчались остальные, а товарищ их бился, с глазами полными муки, и под ним на вечернем песке расплывались алые пятна крови. И к нему гигантскими прыжками уже стремился беспощадный Тремограст, чтобы насладиться предсмертной дрожью поверженного врага, смехом встретить его последний стон и, содрав атласисто-белую шкуру, украсить ею свое мраморное жилище.
И после, ночью, так сладок бывал отдых победителя.
Дни проходили, и Тремограст забыл свои смутные воспоминания и странное чувство какой-то потери, которое томило его в первый день творения.
Он полюбил мир земли, его пьянящие запахи, смеющиеся гулы и изменчиво-влажные краски. Ему нравилось подолгу лежать ничком, прижимая к лицу благоухающие сочные розы. Он думал, что тогда земля яснее и свободнее рассказывает свои светлые тайны. И он поднимался с сознанием, что он любим.
С одинаковым упоением он убивал животных и целовал нежные белые лилии. Он радовался и тому и другому. Потому что он не знал еще сладострастья сопоставлений.
Он любил уходить далеко от своей пещеры и встречать все новые, увлекательные неожиданности, от которых бьется сердце и блещут глаза.
Он проникал в пещеры, где в подземных озерах живут страшные безглазые рыбы, и взбирался на вершины гор, с которых видно полмира.
Он всему дал имена, имена ароматные, звучные и красочные, как сами предметы.
Одного только боялся он – луны.
Когда всходила она, та, которой он не смел назвать имя, он чувствовал, как томление, доходящее до ужаса, мучительная грусть и еще что-то кольцом охватывает его сердце, и ему хотелось острым камнем разодрать себе грудь, броситься с утеса в море, сделать что-нибудь ужасное и непоправимое, только бы уйти от этого взгляда, печально вопрошающего о том, на что нет ответа.
Он пробовал бороться с этой тяжелой чарой. Кричал бранные слова, резким диссонансом звучавшие в задумчивой тишине, и пускал в светлый диск свои длинные меткие стрелы. Но напрасно! Стрелы падали обратно, равно как и слова, отраженные эхом. И эта неуязвимость и безгневность печального врага доводили его почти до безумья!
Вскоре он перестал бороться, хотя и сознавал, что еще не раз во времени встретятся их взоры, перекрестятся их пути и одному из них придется уступить.
По ночам он зажигал в своей пещере веселые костры, которые грели и манили своей легко постижимой тайной.
А утром поднималось солнце, ветры начинали петь в ущельях, и зеленое море, просыпаясь, шевелило свои мягкие бархатные волны.
Солнце, ветер и море он любил.