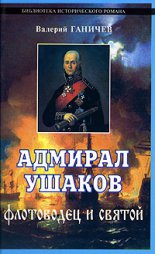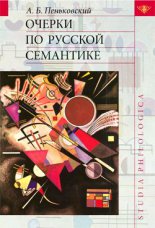Глоток зеленого шартреза Гумилев Николай
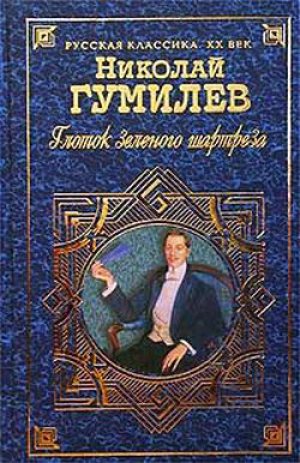
И Евменид остановился, ожидая одобрения. Ванино лицо раскраснелось от волнения, как лицо отрока в огненной пещи. Мезенцов тщетно ломал голову, стараясь вспомнить источники, из которых выросла эта странная теория. Филострат захлебывался от благоговейного обожания перед братом.
– Много, поди, картошки перепортил, такую ерунду сочиняя? – воскликнул Митя и зевнул.
– Почему ерунду? – в один голос спросили оба брата и Ваня.
– А что, дело разве? Ну, пойдемте, товарищи, не век же нам с длиннополыми сидеть.
– Нет, ты погоди, ты объясни сначала, а то облаял да ушел.
– Да чего объяснять-то? Вот вы на счете здесь все основываете, а не чуете, что счет – грех великий, сатанинские разделения. Как посмотришь на травку, на облачко, на девушку да на самого себя, так и увидишь, что это все единое всегда было и всегда будет, потому что Бог засмеялся. А с вашим счетом до такого дойдешь, что лучше не говорить.
– А до чего, к примеру?
– Фу-ты, ироды! И какой же дурак вас в общество взял, вам бы сапоги шить да в колокола звонить. Бога из цифр вывели, так за Богом еще что-нибудь выводить начнете. Цифрам-то конца нет. Вот вы все три да три. Так пожалуйте и три мира подавайте, земной, Божеский и еще какой. Когда люди умнее были, так жгли за такие штуки. Ересь это, и злейшая.
– Выходит, что так, – убитым голосом простонал Евменид. – Что же теперь делать?
– Да вот в Казань пойдете, выпьете по дороге, может, влюбитесь опять. Много человеку дела и без выдумок разных. Потому голова зря наверху, она самое что ни на есть глупое в человеке.
– А сочинение порвать?
– Зачем рвать, может пригодиться. Перепиши его, как надо, да и выдай за чье-нибудь.
– И то, – обрадовался Евменид, – может, как паскалевскую рукопись, вновь найденную, пустить? Он же и математик. Другим слогом изложить, и пойдет.
– Нет, брат, – оживленно ответил Филострат, – это скорее Лактанцием пахнет, он такие размышления любил. Скажем, на Афоне нашли список.
– Ну, уж я там не знаю, кому, да и некогда мне, – объявил Митя. – Разбирайтесь сами. Идем, идем, товарищи, путь немалый. А вам спасибо, что повеселили.
<<На этом обрывается рукопись «Веселых братьев».>>
Гумилев в годы, когда я его узнала, давно уже достиг совершеннолетия, – ему было больше тридцати лет, – но он все равно продолжал расти и развиваться умственно и духовно, как и он сам говорил:
«Я еще далеко не достиг всей полноты моего таланта. В сущности, я еще почти в начале моей поэтической карьеры, хотя уже создал немало.
Я никогда не был вундеркиндом. Скорее наоборот, я сформировался поздно и поздно стал личностью. Только теперь, в самые последние месяцы, я начинаю по-настоящему проявлять себя таким, каким меня задумал Бог.
Я как-то не по годам молод, во мне столько не успевших проявиться, рвущихся на свободу сил. Мне приходится сдерживать, обуздывать их.
Вот я, в прошлом году, начал писать поэму «Дракон». Писал со страстью, запоем в полную меру таланта. А вижу – нет, поторопился. Надо еще подождать, «повзрослеть» душевно и умственно, накопить духовного опыта, чтобы окончить «Дракона».
Я уверен, что в будущем совершу многое, о чем сейчас могу только смутно мечтать, и внесу нечто новое в русскую поэзию. Но об этом никому не говорите – слишком похоже на хвастовство.
Я никогда никому не подражал, я создал акмеизм, но теперь чувствую, что я перерос его, он меня больше не удовлетворяет, я готов отдать его своим последователям, пусть продолжают.
А сам я, по всей вероятности, создам новое литературное течение. Я еще не знаю ясно какое, но чувствую присутствие его в себе, как женщина, которая у Брюсова несет в себе
- …Сосуд нерукотворный,
- В который небо снизошло.
Да, я чувствую, в особенности после «Заблудившегося трамвая» и «Цыган», что с акмеизмом покончено и я скоро, очень скоро произнесу новое слово в поэзии…»
Так говорил Гумилев, гуляя со мной теплым июльским днем – в Летнем Саду, за несколько дней до своего ареста.
Познакомился я с Гумилевым вскоре после того, как окончил гимназию и поступил в петербургский университет. Знакомство произошло в романо-германском семинарии, который был чем-то вроде штаб-квартиры только что народившегося поэтического направления «акмеизм». Там читались и обсуждались стихи новейших французских поэтов, там устраивались собрания с участием Ахматовой и Осипа Мандельштама, и вообще этот семинарий был пристанищем модернизма в противоположность отделениям русской литературы, где Шляпкин или Венгеров ревностно охраняли традиции прошлого столетия. Помню, Гумилев спросил меня: «Вы знаете, что такое акмеизм?» Я читал его статьи в «Аполлоне» и с уверенностью ответил: «Знаю». – «Вы согласны с его программой?» Не задумываясь, правильнее было бы сказать – не подумав, я ответил: «Конечно, согласен». – «Приходите в „Цех поэтов“… там-то, такого-то числа. Мы прослушаем два-три ваших стихотворения и решим, можно ли вас принять в члены „Цеха“. Предупреждаю заранее, не обижайтесь, если будет решено, что следует подождать».
Собрания «Цеха поэтов» происходили приблизительно раз в месяц. Садились в круг, каждый участник читал новые стихи, после чего стихи эти обсуждались. Первым неизменно говорил Гумилев и давал обстоятельный формальный разбор прочитанного. Подчеркиваю, разбор только формальный. Мне приходилось несколько раз слышать критические разборы Вячеслава Иванова. Бесспорно, он взлетал выше, углублялся дальше. Но такой безошибочной, чисто формальной зоркости, как у Гумилева, не было ни у кого. <<…>> Он в нужный момент почувствовал, что символизм изживает себя и что новое поэтическое течение привлечет молодежь, а ему даст возможность играть роль «мэтра». Именно так возник акмеизм, почти единоличное его создание. Гумилев решил свести поэзию с неба на землю и настойчиво утверждал, что в качестве предмета вдохновения для него живая женщина бесконечно дороже всяких заоблачных Прекрасных Дам. Он иронически цитировал обращенные к Блоку строки Вяч. Иванова, где сказано, что «…оба Соловьевым таинственно мы крещены». От Владимира Соловьева он отрекся, не без основания утверждая, что тот, при всей своей мудрости и возвышенности, стихи писал слабоватые. Своей поэзии Гумилев придал характер волевой и мужественный, принципиально отвергнув возможность того, чтобы на ней была «печать меланхолии». Воевать ему в качестве боевого вождя акмеизма приходилось на два фронта: со старшими поэтами, впрочем сдававшими уже свои позиции, и с футуристами, неистовыми задирами и крикунами. Борьбе этой, в сущности ребяческой, он придавал большое значение, она его волновала и бодрила. <<…>>
<<…>> Мы стали встречаться в университете, в том знаменитом университетском коридоре, гуляние по которому многих студентов привлекало больше, чем лекции Зелинского или Платонова.
Гумилев ходил, окруженный свитой. Я вскоре попал в нее и вместе с другими стал прислушиваться к его речам. О чем говорил он? Больше всего о поэзии, конечно. Еще о далеких прекрасных временах, когда поэты, несомненно, станут во главе государства и общества; об Африке, куда он ездил; о Париже, где он учился; о православии, о какой-нибудь вчерашней пирушке… Всегда казалось, что он учит, проповедует. Гумилев не был в своих речах находчив, меток, забавен, разнообразен или гибок. Но была в них – и до конца жизни осталась – такая убедительность, какой я ни у кого не встречал. Нельзя с ним было не соглашаться, что бы он ни говорил. Потом, через полчаса, расставшись с ним, мы недоумевали:
– Что же, собственно, такого хорошего в том, чтобы отправиться в Абиссинию, отыскать белого слона и бродить с ним по пустыне, декламируя стихи Ронсара?
Но пока он этот странный проект излагал, казалось, действительно все совершенно необходимо: и слон, и пустыня, и Ронсар.
Гумилев был очень мечтателен. Позднее, с годами, он сделался много трезвее и стал воплощением ясности, силы и мужества. Эти свойства он хотел внести не только в поэзию, но и во всю русскую жизнь. О России думал он постоянно.
Царское Село. У Гумилевых прием. «Гроб», как говорили мы: несколько чашек чая, сверкающий паркет, Ахматова молчит. Молчат гости. Холодно.
В соседней комнате слышен мерный, спокойный, слегка тягучий голос:
– Советую вам поступать так же. Я встаю в восемь часов. От девяти до половины одиннадцатого я пишу стихи, потом я читаю Гомера. Без пяти одиннадцать я беру ледяную ванну и сразу принимаюсь за работу над историей Ганнибала. Как только подают завтрак…
Ахматова вслушивается, пожимает плечами, усмехается. Она и муж ее – люди глубоко различные. Она вся в себе, сосредоточенная, безразличная к внешнему. Он – деятель, мало интересующийся «внутренней жизнью». Он хочет и туда, во «внутреннюю жизнь», внести порядок. Если ему высказать мысль, ни в какие схемы не укладывающуюся, слишком личную и причудливую, он отвечает:
– Это у вас какая-то розановщина…
Розанов был одним из тех писателей, которых он терпеть не мог. Что было делать Гумилеву с розановскими бесчисленными, смущающими догадками, намеками, прозрениями. Гумилев скажет сквозь зубы: «да, вы правы, он писатель полугениальный», но весь этот хаос ему противен. Гумилев хочет, чтобы и мир был проще, но стройнее.
Как только была объявлена война, Гумилев пошел на фронт добровольцем. <<…>> Не то чтобы патриотизм его был так пылок или действительно он был убежден, что «немцы – варвары» и «вопрос поставлен о гибели или спасении всей европейской культуры», как тогда говорили. Нет. Но Россия воюет, – как же может он остаться в стороне. Он считал, что это прямой, простейший гражданский долг. Он не рассуждал о целях войны, он сознательно сливался с теми, кто говорил: «раз объявили войну, значит, так надо… не нашего ума дело».
Гумилев с недоумением и жалостью смотрел на приятелей своих, остававшихся в это время в тылу. Думаю, что и прирожденная, неутолимая его страсть к приключениям побудила его стать военным. Фронтовая суровая жизнь пришлась ему по вкусу.
Нравилась ему упрощенность этой жизни. Нравилось товарищество, крепко связывавшее людей перед лицом смерти. Георгиевский крестик обрадовал его больше, чем все литературные успехи.
– Я теперь не поэт. Я – воин, – говорил он в своем обычном, чуть-чуть приподнятом стиле.
И с радостью и с хитрецой показывал «Весь Петербург», адресную книгу, где имелось всего два Гумилева. Против одного, Льва Гумилева, значилось – «писатель» (кажется, это был мелкий беллетрист, писавший под псевдонимом Лев Гумилевский).
Против имени Гумилева, Николая Степановича, стояло: – прапорщик.
Его вера, его православие было, по существу, тоже «исполнением гражданского долга», – как и участие в войне. Проходя по улице мимо церкви Гумилев снимал шляпу, крестился. Чужая душа потемки, конечно, но я не думаю, чтобы он был по-настоящему религиозным человеком. Он уважал обряд как всякую традицию, всякое установление. Он чтил церковь потому, что она охраняет людские души от «розановщины», давая безотчетной тревожной вере готовые формулы.
Не было никакой фальши в его религиозности, но не было в ней и того «испепеляющего огня» или хотя бы жажды об огне, которая была в Блоке. На этот счет, впрочем, и стихи обоих поэтов достаточно красноречивы. В гумилевских фантастических планах о будущем устроении общества церковь занимала видное место – почетное, но ни в коем случае не исключительное.
Религиозные сомнения были ему глубоко чужды. Даже Лев Толстой его раздражал. «Не нашего ума дело» – как бы говорил он и здесь, сознательно, намеренно отказываясь от какого бы то ни было вмешательства в то, что держится и живет два тысячелетия и представлялось ему во всяком случае ближе к истине, чем самые вдохновенные индивидуальные открытия и новшества.
В никоновскую эпоху Гумилев, вероятно, стал бы раскольником.
Верность была, может быть, самой основной, самой глубокой его чертой. Оттого после революции он настойчиво стал говорить о своем монархизме. В политике он слабо разбирался. Но, будучи с 1914 года «воином, а не поэтом», он считал обязательным остаться верным тому, чему он клялся в верности.
Если бы он присягал республике, то остался бы на всю жизнь республиканцем. Революция застала Гумилева за границей, куда он был послан в командировку. Вернулся он в Петербург уже при большевиках, и тогда-то начались подчеркнуто-демонстративные его поклоны на паперти церквей и разговоры о верности. Кому? Императрице Александре Федоровне прежде всего, так как она, императрица, была шефом Уланского полка, и из ее рук получил Гумилев свой Георгиевский крестик. Характерно для средневекового и рыцарского облика Гумилева, что он говорил только о царице, а не о царе. При чем тут была политика? Он говорил о своей Даме.
Гумилеву не раз указывали, что его поведение опасно: уже начался террор. Он неизменно отвечал:
– Меня не тронут…
<<…>> Переоценивал свою известность и положение в обществе. Он работал во «Всемирной литературе», был близок к Горькому и считал себя вне опасности. Должен заметить, что никогда я не видел Гумилева таким бодрым, оживленным и даже веселым, как в годы революции. Погибшая монархия сама по себе, но сильнее всего увлекала его мысль о переустройстве общества на каких-то старинных, священных началах… И вот, наконец, представлялась возможность перейти от слова к делу: в России производится гигантский общественный опыт. Кто знает, чем все кончится? Не попытаться ли дать свое направление эксперименту? <<…>>
Дальше разговоров, дальше игры, впрочем, дело не шло. Но игра и погубила Гумилева. В дни Кронштадтского восстания он составил прокламацию, – больше для собственного развлечения, чем для реальных целей. В широковещательном этом «обращении к народу» диктаторским тоном излагались права и обязанности гражданина и перечислялись кары, которые ждут большевиков. Прокламация были написана на листке из блокнота.
Восстание было подавлено. Недели через две Гумилев рассеянно сказал:
– Какая досада. Засунул я этот листок в книгу, не могу теперь найти.
На листке этом был написан его смертный приговор.
Лето 1921 года. Разгромленная, опустошенная петербургская квартира: то продано, это пошло на дрова… Я жил вместе с Георгием Ивановым. Гумилев бывал у нас часто, вместе со своей второй женой, падчерицей Бальмонта.
Однажды он пришел один, просидел несколько часов. Он был в этот день так мил, так грустен и прост, так искренен и умен, что мне и до сих пор думается: только в эти последние несколько часов я действительно узнал его. Воображение иногда добавляет то, что отсутствует на самом деле. Но здесь этого нет. Я ничего не идеализирую сейчас: по случайности, вероятно, наша последняя встреча оказалась такая, – но я счастлив, что именно такой она была.
Гумилев прочел недавно тогда написанное стихотворение, – то, которым открывается «Огненный столп» – свое поэтическое завещание. Потом много и долго говорил, – не совсем так, как всегда, – и больше о жизни, чем о книгах. Вскользь он заметил:
– Пожалуй, моя жизнь не удалась…
Слова необычные для него. Уходя, уже на лестнице, он вспомнил почему-то стихи молодого поэта, Чуковского, сына критика. В стихах воспевалась сладость и прелесть земляничного варенья.
– Очень талантливая книга, – сказал Гумилев. – Только не стоит писать о варенье. Надо писать совсем о другом.
На следующее утро мне позвонили из «Всемирной литературы»: – Знаете, «Шатер» задержан.
У Гумилева есть сборник стихов «Шатер». Как раз в это время печаталось его второе издание. Я подумал, что книга задержана цензурой. Но голос был тревожный, через две-три секунды я все понял. К условным телефонным, разговорам все тогда были приучены.
Его расстрела никто не ждал. Гумилев не имел почти никакого отношения к «таганцевскому делу», по которому был арестован: Горький обещал похлопотать, чтобы его скорее выпустили… только об этом, так как худшее казалось невероятно. Но у всех арестованных был произведен на квартирах обыск. У Гумилева нашли листок с прокламацией, забытый в книге.
Из тюрьмы он просил прислать ему Библию и Гомера. Он, видимо, не волновался за свою участь. Говорят, что вместе с ним в камере находился провокатор, которому он много говорил лишнего. Говорят, что следствие вел какой-то необычайно ловкий следователь, несравненный мастер своего грязного дела. Он будто бы околдовал Гумилева, тот читал ему на допросе стихи, следователь по-братски просил рассказать ему «всю правду» и клялся, что через два-три дня поэт будет выпущен. Говорят, что Гумилев умер с величайшим спокойствием, с величайшим мужеством.
Не обязательно верить всему, что «говорят». Но что Гумилев встретил «высшую меру наказания» с высшей мерой достоинства – в это не верить нельзя.
Обложка книги Н. С. Гумилева «Шатер». Июнь 1918 г.
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ УБЕЖИЩЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ
- Я в лес бежал из городов,
- В пустыню от людей бежал…
- Теперь молиться я готов,
- Рыдать, как прежде не рыдал.
- Вот я один с самим собой…
- Пора, пора мне отдохнуть:
- Свет беспощадный, свет слепой
- Мой выпил мозг, мне выжег грудь.
- Я грешник страшный, я злодей:
- Мне Бог бороться силы дал,
- Любил я правду и людей,
- Но растоптал я идеал…
- Я мог бороться, но, как раб,
- Позорно струсив, отступил
- И, говоря: «Увы, я слаб!» –
- Свои стремленья задавил…
- Я грешник страшный, я злодей…
- Прости, Господь, прости меня.
- Душе измученной моей
- Прости, раскаянье ценя!..
- Есть люди с пламенной душой,
- Есть люди с жаждою добра,
- Ты им вручи свой стяг святой,
- Их манит и влечет борьба.
- Меня ж прости!..
- <<1902>>
- С самострелом и стрелами
- Через горы и леса
- Держит путь стрелок свободный,
- Смело глядя в небеса.
- Там, где, с высей низвергаясь,
- Мутный плещется поток,
- Где так жарко греет солнце,
- Там царем один стрелок.
- И своей стрелою меткой
- Он разит издалека.
- Лучше денег, лучше власти
- Жизнь веселая стрелка.
- <<Не позднее 1903>>
- Я вечернею порою над заснувшею рекою,
- Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу.
- Точно дух ночной, блуждаю, встречи радостной не знаю,
- Одиночества дрожу.
- Слышу прошлые мечтанья, и души моей страданья
- С новой силой, с новой злобой у меня в груди встают.
- С ними я окончил дело, сердце знать их не хотело,
- Но они его гнетут.
- Нет, довольно мне страданий, больше сладких упований
- Не хочу я, и в бесстрастье погрузиться я хочу.
- Дайте прошлому забвенье, к настоящему презренье,
- И я в небо улечу.
- Но напрасны все усилья: тесно связанные крылья
- Унести меня не могут с опостылевшей земли.
- Как и все мои мечтанья, мои прежние страданья
- Позабыться не могли.
- <<Не позднее 1903>>
- Люблю я чудный горный вид,
- Остроконечные вершины,
- Где каждый лишний шаг грозит
- Несвоевременной кончиной.
- Люблю над пропастью глухой
- Простором дали любоваться
- Или неверною тропой
- Все выше, выше подниматься.
- В горах мне люб и Божий свет,
- Но люб и смерти миг единый!
- Не заманить меня вам, нет,
- В пустые, скучные долины.
- <<Не позднее 1903>>
- У скалистого ущелья
- Одинокий я стоял,
- Предо мной поток нагорный
- И клубился, и сверкал.
- Из-за туч, кроваво-красна,
- Светит полная луна,
- И в волнах потока мутных
- Отражается она.
- И какие-то виденья
- Все встают передо мной,
- То над волнами потока,
- То над пропастью глухой.
- Ближе, ближе подлетают.
- Наконец – о, страшный вид! –
- Пред смущенными очами
- Вереница их стоит.
- И как вглядываюсь ближе,
- Боже, в них я узнаю
- Свои прежние мечтанья,
- Молодую жизнь свою.
- И все прошлые желанья,
- И избыток свежих сил,
- Все, что с злобой беспощадной
- В нас дух века загубил.
- Все, что продал я, прельстившись
- На богатство и почет,
- Все теперь виденьем грозным
- Предо мною предстает.
- Полон грусти безотрадной,
- Я рыдаю, и в горах
- Эхо громко раздается,
- Пропадая в небесах.
- <<Не позднее 1903>>
- Младой францисканец безмолвно сидит,
- Объятый бесовским волненьем.
- Он книгу читает, он в книге чертит,
- И ум его полон сомненьем.
- И кажется тесная келья ему
- Унылей, угрюмее гроба,
- И скучно, и страшно ему одному,
- В груди подымается злоба.
- Он мало прожил, мало знает он свет,
- Но чудные знает преданья
- О страшных влияньях могучих планет,
- О тайнах всего мирозданья.
- Но все опостылело в жизни ему
- Без горя и радостей света.
- Так в небе, внезапно прорезавши тьму,
- Мелькает златая комета,
- И, после себя не оставив следа,
- В пространстве небес исчезает,
- Так полная сил молодая душа
- Бесплодно в стенах изнывает.
- Младой францисканец безмолвно сидит,
- Главу уронивши на руки,
- Он книгу отбросил и в ней не чертит,
- Исполнен отчаянной муки.
- «Нет, полно, – вскричал он, – начну жить и я,
- Без радостей жизнь да не вянет.
- Пускай замолчит моей грусти змея
- И сердце мне грызть перестанет.
- Бегу из монашеских душных я стен,
- Как вор, проберуся на волю,
- И больше, о нет, не сменяю на плен
- Свободную, новую долю».
- Суров инквизитор великий сидит,
- Теснятся кругом кардиналы,
- И юный преступник пред ними стоит,
- Свершивший проступок немалый.
- Он бегство затеял из монастыря
- И пойман был с явной уликой,
- Но с сердцем свободным, отвагой горя,
- Стоит он, бесстрашный, великий.
- Вот он пред собраньем ведет свою речь,
- И судьи, смутяся, робеют,
- И стража хватается гневно за меч,
- И сам инквизитор бледнеет.
- «Судить меня смеют, и кто же – рабы!
- Прислужники римского папы
- Надменно и дерзко решают судьбы
- Того, кто попался им в лапы.
- Ну что ж! Осудите меня на костер,
- Хвалитеся мощью своею!
- Но знайте, что мой не померкнется взор,
- Что я не склоню свою шею!
- И смерть моя новых борцов привлечет,
- Сообщников дерзких, могучих;
- Настанет и вашим несчастьям черед!
- Над вами сбираются тучи!
- Я слышал: в далеких германских лесах,
- Где все еще глухо и дико,
- Поднялся один благородный монах,
- Правдивою злобой великий.
- Любовию к жизни в нем сердце горит!
- Он юности ведает цену!
- Блаженства небес он людям не сулит
- Земному блаженству в замену!
- А вы! Ваше время давно отошло!
- Любви не вернете народа.
- Да здравствует свет, разгоняющий зло!
- Да здравствует наша свобода!
- Прощайте! Бесстрашно на казнь я иду.
- Над жизнью моею вы вольны,
- Но речи от сердца сдержать не могу,
- Пускай ею вы недовольны».
- <<Не позднее 1903>>
- Вам, кавказские ущелья,
- Вам, причудливые мхи,
- Посвящаю песнопенья,
- Мои лучшие стихи.
- Как и вы, душа угрюма,
- Как и вы, душа мрачна,
- Как и вы, не любит шума,
- Ее манит тишина.
- Буду помнить вас повсюду,
- И хоть я в чужом краю,
- Но о вас я не забуду
- И теперь о вас пою.
- <<Не позднее 1903>>
- На сердце песни, на сердце слезы,
- Душа страданьями полна.
- В уме мечтанья, пустые грезы
- И мрак отчаянья без дна.
- Когда же сердце устанет биться,
- Грудь наболевшая замрет?
- Когда ж покоем мне насладиться
- В сырой могиле придет черед?
- <<Не позднее 1903>>
- В шумном вихре юности цветущей
- Жизнь свою безумно я сжигал,
- День за днем, стремительно бегущий,
- Отдохнуть, очнуться не давал.
- Жить, как прежде, больше не могу я,
- Я брожу как охладелый труп,
- Я томлюсь по ласке поцелуя,
- Поцелуя милых женских губ.
- <<Не позднее 1903>>
- Злобный гений, царь сомнений,
- Ты опять ко мне пришел,
- И, желаньем утомленный, потревоженный и сонный,
- Я покой в тебе обрел.
- Вечно жить среди мучений, среди тягостных
- сомнений –
- Это сильных идеал,
- Ничего не созидая, ненавидя, презирая
- И блистая, как кристалл.
- Назади мне слышны стоны, но, свободный,
- обновленный,
- Торжествующая пошлость, я давно тебя забыл.
- И, познавши отрицанье, я живу, как царь созданья,
- Средь отвергнутых могил.
- <<Не позднее 1903 >>
- Много в жизни моей я трудов испытал,
- Много вынес и тяжких мучений.
- Но меня от отчаянья часто спасал
- Благодатный, таинственный гений.
- Я не раз в упоеньи великой борьбы
- Побеждаем был вражеской силой
- И не раз под напором жестокой судьбы
- Находился у края могилы.
- Но отчаянья не было в сердце моем,
- И надежда мне силы давала.
- И я бодро стремился на битву с врагом,
- На борьбу против злого начала.
- А теперь я, наскучив тяжелой борьбой,
- Безмятежно свой век доживаю,
- Но меня тяготит мой позорный покой,
- И по битве я часто вздыхаю.
- Чудный гений надежды давно отлетел,
- Отлетели и светлые грезы,
- И осталися трусости жалкой в удел
- Малодушно-холодные слезы.
- <<Не позднее 1903 >>
- Я всю жизнь отдаю для великой борьбы,
- Для борьбы против мрака, насилья и тьмы.
- Но увы! окружают меня лишь рабы,
- Недоступные светлым идеям умы.
- Они или холодной насмешкой своей,
- Или трусостью рабской смущают меня,
- И живу я, во мраке не видя лучей
- Благодатного, ясного, светлого дня.
- Но меня не смутить, я пробьюся вперед
- От насилья и мрака к святому добру,
- И, завидев светила свободы восход,
- Я спокоен умру.
- <<Не позднее 1903 >>
- Во мраке безрадостном ночи,
- Душевной больной пустоты,
- Мне светят лишь дивные очи
- Ее неземной красоты.
- За эти волшебные очи
- Я с радостью, верь, отдаю
- Мое наболевшее сердце,
- Усталую душу мою.
- За эти волшебные очи
- Я смело в могилу сойду,
- И первое, лучшее счастье
- В могиле сырой я найду.
- А очи, волшебные очи
- Так грустно глядят на меня,
- Исполнены тайной печали,
- Исполнены силой огня.
- Напрасно родятся мечтанья,
- Напрасно волнуется кровь:
- Могу я внушить состраданье,
- Внушить не могу я любовь.
- Летит равнодушное время
- И быстро уносится вдаль,
- А в сердце холодное бремя,
- И душу сжигает печаль.
- <<Не позднее 1903 >>
М. М. М <<аркс >>
- Я песни слагаю во славу твою
- Затем, что тебя я безумно люблю,
- Затем, что меня ты не любишь.
- Я вечно страдаю и вечно грущу,
- Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу
- За то, что меня ты погубишь.
- Так раненный в сердце шипом соловей
- О розе-убийце поет все нежней
- И плачет в тоске безнадежной,
- А роза, склонясь меж зеленой листвы,
- Смеется над скорбью его, как и ты,
- О друг мой, прекрасный и нежный.
- <<Не позднее 1903 >>
- Был праздник веселый и шумный,
- Они повстречалися раз…
- Она была в неге безумной
- С манящим мерцанием глаз.
- А он был безмолвный и бледный,
- Усталый от призрачных снов.
- И он не услышал победный
- Могучий и радостный зов.
- Друг друга они не узнали
- И мимо спокойно прошли,
- Но звезды в лазури рыдали,
- И где-то напевы звучали
- О бледном обмане земли.
- <<1904? >>
- Я властительный и чудный
- Пел печальной бледной деве:
- «Видишь воздух изумрудный
- В обольстительном напеве?
- Посмотри, как быстро челны
- Легкотканого обмана
- Режут радостные волны
- Мирового Океана.
- Солнце жаркое в лазури
- Так роскошно и надменно
- Грезит негой, грезит бурей
- Ослепительной вселенной.
- И как голуби надежды,
- Охранители святыни,
- Духи в пурпурной одежде
- Наполняют воздух синий.
- И мы в ту войдем обитель,
- Царство радостных видений,
- Где я буду повелитель,
- Вождь волшебных песнопений.
- Озаренная напевом,
- Ты полюбишь мира звенья,
- Будешь радостною Евой
- Для иного поколенья».
- <<1904? >>
- Я не знаю, что живо, что нет,
- Я не ведаю грани ни в чем…
- Жив играющий молнией гром –
- Живы гроздья планет…
- И красивую яркость огня
- Я скорее живой назову,
- Чем седую, больную траву,
- Чем тебя и меня…
- Он всегда устремляется ввысь,
- Обращается в радостный дым,
- И столетья над ним пронеслись,
- Золотым и всегда молодым…
- Огневые лобзают уста…
- Хоть он жжет, но он всеми любим.
- Он лучистый венок для Христа,
- И не может он быть не живым…
- <<1905 >>
- Лето было слишком знойно,
- Солнце жгло с небесной кручи, –
- Тяжело и беспокойно,
- Словно львы, бродили тучи.
- В это лето пробегало
- В мыслях, в воздухе, в природе
- Золотое покрывало
- Из гротесок и пародий.
- Точно кто-то, нам знакомый,
- Уходил к пределам рая,
- А за ним спешили гномы
- И кружилась пыль седая.
- И с тяжелою печалью
- Наклонилися к бессилью
- Мы, обманутые далью
- И захваченные пылью.
- <<1906 >>
- Он воздвигнул свой храм на горе,
- Снеговой многобашенный храм,
- Чтоб молиться он мог на заре
- Переменным небесным огням.
- И предстал перед ним его бог,
- Бесконечно родной и чужой,
- То печален, то нежен, то строг,
- С каждым новым мгновеньем иной.
- Ничего не просил, не желал,
- Уходил и опять приходил,
- Переменно горящий кристалл
- Посреди неподвижных светил.
- И безумец, роняя слезу,
- Поклонялся небесным огням,
- Но собралися люди внизу
- Посмотреть на неведомый храм.
- И они говорили, смеясь:
- «Нет души у минутных огней,
- Вот у нас есть властитель и князь
- Из тяжелых и вечных камней».
- А безумец не мог рассказать
- Нежный сон своего божества,
- И его снеговые слова,
- И его голубую печать.
- <<1906 >>
- Сегодня у берега нашего бросил
- Свой якорь досель незнакомый корабль,
- Мы видели отблески пурпурных весел,
- Мы слышали смех и бряцание сабль.
- Тяжелые грузы корицы и перца,
- Красивые камни и шкуры пантер,
- Все, все, что ласкает надменное сердце,
- На том корабле нам привез Люцифер.
- Мы долго не ведали, враг это, друг ли.
- Но вот капитан его в город вошел,
- И черные очи горели, как угли,
- И странные знаки пестрили камзол.
- За ним мы спешили толпою влюбленной,
- Смеялись при виде нежданных чудес,
- Но старый наш патер, святой и ученый,
- Сказал нам, что это противник небес.
- Что суд приближается страшный, последний,
- Что надо молиться для встречи конца…
- Но мы не поверили в скучные бредни
- И с гневом прогнали седого глупца.
- Ушел он в свой домик, заросший сиренью,
- Со стаею белых своих голубей…
- А мы отдалися душой наслажденью,
- Веселым безумьям богатых людей.
- Мы сделали гостя своим бургомистром –
- Царей не бывало издавна у нас, –
- Дивились движеньям, красивым и быстрым,
- И молниям черных, пылающих глаз.
- Мы строили башни, высоки и гулки,
- Украсили город, как стены дворца,
- Остался лишь бедным, в глухом переулке,
- Сиреневый домик седого глупца.
- Он враг золотого, роскошного царства,
- Средь яркого пира он горестный крик,
- Он давит нам сердце, лишенный коварства,
- Влюбленный в безгрешность седой бунтовщик.
- Довольно печали, довольно томлений!
- Омоем сердца от последних скорбей!
- Сегодня пойдем мы и вырвем сирени,
- Камнями и криком спугнем голубей.
- <<1906 >>
- Мне надо мучиться и мучить,
- Твердя безумное «люблю».
- О миг, страшися мне наскучить,
- Я царь твой, я тебя убью!
- О миг, не будь бессильно плоским,
- Но опали, сожги меня
- И будь великим отголоском
- Веками ждущего Огня.
- <<1906 >>
- Солнце бросило для нас
- И для нашего мученья
- В яркий час, закатный час
- Драгоценные каменья.
- Да, мы дети бытия,
- Да, мы солнце не обманем.
- Огнезарная змея
- Проползла по нашим граням.
- Научивши нас любить,
- Позабыть, что все мы пленны,
- Нам она соткала нить,
- Нас связавшую с вселенной.
- Льется ль песня тишины,
- Или бурно бьются струи,
- Жизнь и смерть – ведь это сны,
- Это только поцелуи.
- <<1906? >>
- О Франция, ты призрак сна,
- Ты только образ, вечно милый,
- Ты только слабая жена
- Народов грубости и силы.
- Твоя разряженная рать,
- Твои мечи, твои знамена –
- Они не в силах отражать
- Тебе враждебные племена.
- Когда примчалася война
- С железной тучей иноземцев,
- То ты была покорена
- И ты была в плену у немцев.
- И раньше… вспомни страшный год,
- Когда слабел твой гордый идол.
- Его испуганный народ
- Врагу властительному выдал.
- Заслыша тяжких ратей гром,
- Ты трепетала, точно птица,
- И вот на берегу глухом
- Стоит великая гробница.
- А твой веселый, звонкий рог,
- Победный рог завоеваний,
- Теперь он беден и убог,
- Он только яд твоих мечтаний.
- И ты стоишь, обнажена,
- На золотом роскошном троне,
- Но красота твоя, жена,
- Тебе спасительнее брони.
- Где пел Гюго, где жил Вольтер,
- Страдал Бодлер, богов товарищ,
- Там не посмеет изувер
- Плясать при зареве пожарищ.
- И если близок час войны
- И ты осуждена к паденью,
- То вечно будут наши сны
- С твоей блуждающею тенью.
- И нет, не нам, твоим жрецам,
- Разбить в куски скрижаль закона
- И бросить пламя в Notre-Dame,
- Разрушить стены Пантеона.
- Твоя война – для нас война.
- Покинь же сумрачные станы,
- Чтоб песней, звонкой, как струна,
- Целить запекшиеся раны.
- Что значит в битве алость губ?!
- Ты только сказка, отойди же.
- Лишь через наш холодный труп
- Пройдут враги, чтоб быть в Париже.
- <<1907 >>
- Зачарованный викинг, я шел по земле,
- Я в душе согласил жизнь потока и скал,
- Я скрывался во мгле на моем корабле,
- Ничего не просил, ничего не желал.
- В ярком солнечном свете – надменный павлин,
- В час ненастья – внезапно свирепый орел,
- Я в тревоге пучин встретил остров ундин,
- Я летучее счастье, блуждая, нашел.
- Да, я знал, оно жило и пело давно,
- В дикой буре его сохранилась печать,
- И смеялось оно, опускаясь на дно,
- Поднимаясь к лазури, смеялось опять.
- Изумрудьем покрыло земные пути,
- Зажигало лиловьем морскую волну…
- Я не смел подойти и не мог отойти
- И не в силах был словом порвать тишину.
- 1907
- Слушай веления мудрых,
- Мыслей пленительный танец,
- Бойся у дев златокудрых
- Нежный заметить румянец.
- От непостижного скройся –
- Страшно остаться во мраке.
- Ночью весеннею бойся
- Рвать заалевшие маки.
- Девичьи взоры неверны,
- Вспомни сказанья Востока:
- Пояс на каждой пантерный,
- Дума у каждой жестока.
- Сердце пронзенное вспомни,
- Пурпурный сок виноградин.
- Вспомни, нет муки огромней,
- Нету тоски безотрадней.
- Вечером смолкни и слушай,
- Грезам отдавшись беспечным.
- Слышишь, вечерние души
- Шепчут о нежном и вечном.
- Ласковы быстрые миги,
- Строго-высокие свечи,
- Мудрые, старые книги
- Знающих тихие речи.
- 1907
- Царь, упившийся кипрским вином
- И украшенный красным кораллом,
- Говорил и кричал об одном,
- Потрясая звенящим фиалом:
- «Почему вы не пьете, друзья,
- Этой первою полночью брачной?
- Этой полночью радостен я,
- Я – доселе жестокий и мрачный.
- Все вы знаете деву богов,
- Что владела богатою Смирной
- И сегодня вошла в мой альков,
- Как наложница, робкой и мирной.
- Ее лилии были нежны
- И, как месяц, печальны напевы.
- Я не видел прекрасней жены,
- Я не знал обольстительней девы.
- И когда мой открылся альков,
- Я, властитель, смутился невольно.
- От сверканья ее жемчугов
- Было взорам и сладко и больно.
- Не смотрел я на бледность лица,
- Не того мое сердце хотело,
- Я ласкал, я терзал без конца
- Беззащитное юное тело.
- Вы должны позавидовать мне,
- О друзья дорогие, о братья.
- Я услышал, сгорая в огне,
- Как она мне шептала проклятья.
- Кровь царицы, как пурпур, красна,
- Задыхаюсь я в темном недуге.
- И еще мне несите вина,
- Нерадиво-ленивые слуги».
- Царь, упившийся кипрским вином
- И украшенный красным кораллом,
- Говорил и кричал об одном,
- Потрясая звенящим фиалом.
- 1907
- За часом час бежит и падает во тьму,
- Но властно мой флюид прикован к твоему.
- Сомкнулся круг навек, его не разорвать,
- На нем нездешних рек священная печать.
- Явленья волшебства – лишь игры вечных числ,
- Я знаю все слова и их сокрытый смысл.
- Я все их вопросил, но нет ни одного
- Сильнее тайны сил флюида твоего.
- Да, знанье – сладкий мед, но знанье не спасет,
- Когда закон зовет и время настает.
- За часом час бежит, я падаю во тьму,
- За то, что мой флюид покорен твоему.
- 1907
- За стенами старого аббатства –
- Мне рассказывал его привратник –
- Что ни ночь творятся святотатства:
- Приезжает неизвестный всадник,
- В черной мантии, большой и неуклюжий,
- Он идет двором, сжимая губы,
- Медленно ступая через лужи,
- Пачкает в грязи свои раструбы.
- Отодвинув тяжкие засовы,
- На пороге суетятся духи,
- Жабы и полуночные совы,
- Колдуны и дикие старухи.
- И всю ночь звучит зловещий хохот
- В коридорах гулких и во храме,
- Песни, танцы и тяжелый грохот
- Сапогов, подкованных гвоздями.
- Но наутро в диком шуме оргий
- Слышны крики ужаса и злости.
- То идет с мечом святой Георгий,
- Что иссечен из слоновой кости.
- Видя гневно сдвинутые брови,
- Демоны спасаются в испуге,
- И наутро видны капли крови
- На его серебряной кольчуге.
- 1907
- На камине свеча догорала, мигая,
- Отвечая дрожаньем случайному звуку,
- Он, согнувшись, сидел на полу, размышляя,
- Долго ль можно терпеть нестерпимую муку.
- Вспоминал о любви, об ушедшей невесте,
- Об обрывках давно миновавших событий
- И шептал: «О, убейте меня, о, повесьте,
- Забросайте камнями, как пса, задавите!»
- В набегающем ужасе странной разлуки
- Ударял себя в грудь, исступленьем объятый,
- Но не слушались жалко повисшие руки
- И их мускулы дряблые, словно из ваты.
- Он молился о смерти… навеки, навеки
- Успокоит она, тишиной обнимая,
- И забудет он горы, равнины и реки,
- Где когда-то она проходила живая!
- Но предателем сзади подкралось раздумье,
- И он понял: конец роковой самовластью.
- И во мраке ему улыбнулось безумье
- Лошадиной оскаленной пастью.
- 1907
- На горах розовеют снега,
- Я грущу с каждым мигом сильней.
- Для кого я сбирал жемчуга
- В зеленеющей бездне морей?!
- Для тебя ли? Но ты умерла,
- Стала девой таинственных стран,
- Над тобою огнистая мгла,
- Над тобою лучистый туман.
- Ты теперь безмятежнее дня,
- Белоснежней его облаков,
- Ты теперь не захочешь меня,
- Не захочешь моих жемчугов.
- Но за гранями многих пространств,
- Где сияешь ты белой звездой,
- В красоте жемчуговых убранств,
- Как жених, я явлюсь пред тобой.
- Расскажу о безумной борьбе,
- О цветах, обагренных в крови,
- Расскажу о тебе и себе
- И о нашей жестокой любви.
- И на миг, забывая покой,
- Ты припомнишь закат и снега,
- И невинной прозрачной слезой
- Ты унизишь мои жемчуга.
- 1907
- Неслышный, мелкий падал дождь,
- Вдали чернели купы рощ,
- Я шел один средь трав высоких,
- Я шел и плакал тяжело
- И проклинал творящих зло,
- Преступных, гневных и жестоких.
- И я увидел пришлеца:
- С могильной бледностью лица
- И с пересохшими губами,
- В хитоне белом, дорогом,
- Как бы упившийся вином,
- Он шел неверными шагами.
- И он кричал: «Смотрите все,
- Как блещут искры на росе,
- Как дышат томные растенья
- И Солнце, золотистый плод,
- В прозрачном воздухе плывет,
- Как ангел с песней Воскресенья.
- Как звезды, праздничны глаза,
- Как травы, вьются волоса,
- И нет в душе печалям места
- За то, что я убил тебя,
- Склоняясь, плача и любя,
- Моя царица и невеста».
- И все сильнее падал дождь,
- И все чернели купы рощ,
- И я промолвил строго-внятно:
- «Убийца, вспомни Божий страх,
- Смотри: на дорогих шелках
- Как кровь алеющие пятна».
- Но я отпрянул, удивлен,
- Когда он свой раскрыл хитон
- И показал на сердце рану.
- Из ней дымящаяся кровь
- То тихо капала, то вновь
- Струею падала по стану.
- И он исчез в холодной тьме,
- А на задумчивом холме
- Рыдала горестная дева,
- И я задумался светло
- И полюбил творящих зло
- И пламя их святого гнева.
- 1907
- Как труп, бессилен небосклон,
- Земля – как уличенный тать.
- Преступно-тайных похорон
- На ней зловещая печать.
- Ум человеческий смущен,
- В его глубинах – черный страх,
- Как стая траурных ворон
- На обессиленных полях.
- Но где же солнце, где луна?
- Где сказка – жизнь и тайна – смерть?
- И неужели не пьяна
- Их золотою песней твердь?
- И неужели не видна
- Судьба – их радостная мать,
- Что пеной жгучего вина
- Любила смертных опьянять.
- Напрасно ловит робкий взгляд
- На горизонте новых стран.
- Там только ужас, только яд,
- Змеею жалящий туман.
- И волны глухо говорят,
- Что в море бурный шквал унес
- На дно к обителям наяд
- Ладью, в которой плыл Христос.
- 1907
- Еще ослепительны зори,
- И перья багряны у птиц,
- И много есть в девичьем взоре
- Еще не прочтенных страниц.
- И лилии строги и пышны,
- Прохладно дыханье морей,
- И звонкими веснами слышны
- Вечерние отклики фей.
- Но греза моя недовольна,
- В ней голос тоски задрожал,
- И сердцу мучительно больно
- От яда невидимых жал.
- У лучших заветных сокровищ,
- Что предки сокрыли для нас,
- Стоят легионы чудовищ
- С грозящей веселостью глаз.
- Здесь всюду и всюду пределы
- Всему, кроме смерти одной,
- Но каждое мертвое тело
- Должно быть омыто слезой.
- Искатель нездешних Америк,
- Я отдал себя кораблю,
- Чтоб, глядя на брошенный берег,
- Шепнуть золотое «люблю!».
- 1907
- На льдах тоскующего полюса,
- Где небосклон туманом стерт,
- Я без движенья и без голоса,
- Окровавленный, распростерт.
- Глаза нагнувшегося демона,
- Его лукавые уста…
- И манит смерть: всегда, везде она
- Так непостижна и проста.
- Из двух соблазнов – что я выберу,
- Что слаще – сон иль горечь слез?
- Нет, буду ждать, чтоб мне, как рыбарю,
- Явился в облаке Христос.
- Он превращает в звезды горести,
- В напиток солнца – жгучий яд
- И созидает в мертвом хворосте
- Никейских лилий белый сад.
- <<1908 >>
- Медный колокол на башне
- Тяжким гулом загудел,
- Чтоб огонь горел бесстрашней,
- Чтобы бешеные люди
- Праздник правили на груде
- Изуродованных тел.
- Звук помчался в дымном поле,
- Повторяя слово «смерть»,
- И от ужаса и боли
- В норы прятались лисицы,
- А испуганные птицы
- Лётом взрезывали твердь.
- Дальше звал он, точно пенье,
- К созидающей борьбе.
- Люди мирного селенья,
- Люди плуга брали молот,
- Презирая зной и холод,
- Храмы строили себе.
- А потом он умер, сонный,
- И мечтали пастушки:
- «Это, верно, бог влюбленный,
- Приближаясь к светлой цели,
- Нежным рокотом свирели
- Опечалил тростники».
- <<1908 >>
- Моя душа осаждена
- Безумно странными грехами,
- Она – как древняя жена
- Перед своими женихами.
- Она должна в чертоге прясть,
- Склоняя взоры все суровей,
- Чтоб победить глухую страсть,
- Смирить мятежность буйной крови.
- Но если бой неравен стал,
- Я гордо вспомню клятву нашу
- И, выйдя в пиршественный зал,
- Возьму отравленную чашу.
- И смерть придет ко мне на зов,
- Как Одиссей, боец в Пергаме,
- И будут вопли женихов
- Под беспощадными стрелами.
- 1908
- Меня терзает злой недуг,
- Я вся во власти яда жизни,
- И стыдно мне моих подруг
- В моей сверкающей отчизне.
- При свете пламенных зарниц
- Дрожат под плетью наслаждений
- Толпы людей, зверей, и птиц,
- И насекомых, и растений.
- Их отвратительным теплом
- И я согретая невольно,
- Несусь в пространстве голубом,
- Твердя старинное «довольно».
- Светила смотрят все мрачней,
- Но час тоски моей недолог,
- И скоро в бездну мир червей
- Помчит озлобленный осколок.
- Комет бегущих душный чад
- Убьет остатки атмосферы,
- И диким ревом зарычат
- Пустыни, горы и пещеры.
- И ляжет жизнь в моей пыли,
- Пьяна от сока смертных гроздий,
- Сгниют и примут вид земли
- Повсюду брошенные кости.
- И снова будет торжество,
- И снова буду я единой:
- Необозримые равнины
- И на равнинах никого.
- 1908
- Я уйду, убегу от тоски,
- Я назад ни за что не взгляну,
- Но, сжимая руками виски,
- Я лицом упаду в тишину.
- И пойду в голубые сады
- Между ласковых серых равнин,
- Чтобы рвать золотые плоды,
- Потаенные сказки глубин.
- Гибких трав вечереющий шелк
- И второе мое бытие…
- Да, сюда не прокрадется волк,
- Там вцепившийся в горло мое.
- Я пойду и присяду, устав,
- Под уютный задумчивый куст,
- И не двинется призрачность трав,
- Горизонт будет нежен и пуст.
- Пронесутся века, не года,
- Но и здесь я печаль сохраню.
- Так я буду бояться всегда
- Возвращенья к распутному дню.
- 1908
- Пусть будет стих твой гибок, но упруг,
- Как тополь зеленеющей долины,
- Как грудь земли, куда вонзился плуг,
- Как девушка, не знавшая мужчины.
- Уверенную строгость береги:
- Твой стих не должен ни порхать, ни биться.
- Хотя у музы легкие шаги,
- Она богиня, а не танцовщица.
- И перебойных рифм веселый гам,
- Соблазн уклонов легкий и свободный
- Оставь, оставь накрашенным шутам,
- Танцующим на площади народной.
- И, выйдя на священные тропы,
- Певучести пошли свои проклятья.
- Пойми: она любовница толпы,
- Как милостыни, ждет она объятья.
- 1908
- Под рукой уверенной поэта
- Струны трепетали в легком звоне,
- Струны золотые, как браслеты
- Сумрачной царицы беззаконий.
- Опьянили зовы сладострастья,
- И спешили поздние зарницы,
- Но недаром звякнули запястья
- На руках бледнеющей царицы.
- И недаром взоры заблистали:
- Раб делил с ней счастье этой ночи,
- Лиру положили в лучшей зале,
- А поэту выкололи очи.
- 1908
- Влюбленный принц Диего задремал,
- И выронил чеканенный бокал,
- И голову склонил меж блюд на стол,
- И расстегнул малиновый камзол.
- И видит он прозрачную струю,
- А на струе стеклянную ладью,
- В которой плыть уже давно, давно
- Ему с его невестой суждено.
- Вскрываются пространства без конца,
- И, как два взора, блещут два кольца.
- Но в дымке уж заметны острова,
- Где раздадутся тайные слова
- И где венками белоснежных роз
- Их обвенчает Иисус Христос.
- А между тем властитель на него
- Вперил свой взгляд, где злое торжество.
- Прикладывают наглые шуты
- Ему на грудь кровавые цветы,
- И томная невеста, чуть дрожа,
- Целует похотливого пажа.
- 1908
- Тревожный обломок старинных потемок,
- Дитя позабытых народом царей,
- С мерцанием взора на зыби Босфора
- Следит ускользающий бег кораблей.
- Прекрасны и грубы влекущие губы
- И странно красивый изогнутый нос,
- Но взоры унылы, как холод могилы,
- И страшен разбросанный сумрак волос.
- У ног ее рыцарь, надменный, как птица,
- Как серый орел пиренейских снегов.
- Он отдал сраженья за крик наслажденья,
- За женский, доступный для многих альков.
- Напрасно гремели о нем менестрели,
- Его отличали в боях короли –
- Он смотрит, безмолвный, как знойные волны,
- Дрожа, рассекают его корабли.
- И долго он будет ласкать эти груди
- И взором ловить ускользающий взор,
- А утром, спокойный, красивый и стройный,
- Он голову склонит под меткий топор.
- И снова в апреле заплачут свирели,
- Среди облаков закричат журавли,
- И в сад кипарисов от западных мысов
- За сладким позором придут корабли.
- И снова царица замрет, как блудница,
- Дразнящее тело свое обнажив,
- Лишь будет печальней, дрожа в своей спальне:
- В душе ее мертвый останется жив.
- Так сердце Комнены не знает измены,
- Но знает безумную жажду игры
- И темные муки терзающей скуки,
- Сковавшей забытые смертью миры.
- 1908
- Когда в полночной тишине
- Мелькнет крылом и крикнет филин,
- Ты вдруг прислонишься к стене,
- Волненьем сумрачным осилен.
- О чем напомнит этот звук,
- Загадка вещая для слуха?
- Какую смену древних мук,
- Какое жало в недрах духа?
- Былое память воскресит
- И снова с плачем похоронит
- Восторг, который был открыт
- И не был узнан, не был понят.
- Тот сон, что в жизни ты искал,
- Внезапно сделается ложным,
- И мертвый черепа оскал
- Тебе шепнет о невозможном.
- Ты прислоняешься к стене,
- А в сердце ужас и тревога.
- Так страшно слышать в тишине
- Шаги неведомого бога.
- Но миг! И, чуя близкий плен,
- С душой, отдавшейся дремоте,
- Ты промелькнешь средь белых пен
- В береговом водовороте.
- <<1909 >>
- Тебе бродить по солнечным лугам,
- Зеленых трав, смеясь, раздвинуть стены!
- Так любят льнуть серебряные пены
- К твоим нагим и маленьким ногам!
- Весной в лесах звучит веселый гам,
- Все чувствует дыханье перемены;
- Больны луной, проносятся гиены,
- И пляски змей странны по вечерам.
- Как белая восторженная птица,
- В груди огонь желанья распаля,
- Проходишь ты, и мысль твоя томится;
- Ты ждешь любви, как влаги ждут поля;
- Ты ждешь греха, как воли кобылица;
- Ты страсти ждешь, как осени земля!
- Закрыли путь к нескошенным лугам
- Темничные, незыблемые стены;
- Не видеть мне морских опалов пены,
- Не мять полей моим больным ногам,
- За окнами не слышать птичий гам,
- Как мелкий дождь все дни без перемены,
- Моя душа израненной гиены
- Тоскует по нездешним вечерам.
- По вечерам, когда поет Жар-птица
- Сиянием весь воздух распаля,
- Когда душа от счастия томится,
- Когда во мгле сквозь темные поля,
- Как дикая степная кобылица,
- От радости вздыхает вся земля…
- Влачился день по выжженным лугам.
- Струился зной. Хребтов синели стены.
- Шли облака, взметая клочья пены
- На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)
- Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам
- Цикад и ос? Кто мыслил перемены?
- Кто с узкой грудью, с профилем гиены
- Лик обращал навстречу вечерам?
- Теперь на дол ночная пала птица,
- Край запада лудою [21] распаля.
- И персть [22] путей блуждает и томится…
- Чу! В теплой мгле (померкнули поля…)
- Далеко ржет и долго кобылица.
- И трепетом ответствует земля.
- 1909
В. И. Иванову
- Раскроется серебряная книга,
- Пылающая магия полудней,
- И станет храмом брошенная рига,
- Где, нищий, я дремал во мраке будней.
- Священных схим озлобленный расстрига,
- Я принял мир и горестный, и трудный,
- Но тяжкая на грудь легла верига,
- Я вижу свет… то День подходит Судный.
- Не смирну, не бдолах, не кость слоновью –
- Я приношу зовущему пророку
- Багряный сок из виноградин сердца.
- И он во мне поймет единоверца,
- Залитого, как он, во славу Року
- Блаженно расточаемою кровью.
- 1909
- Нежданно пал на наши рощи иней,
- Он не сходил так много-много дней,
- И полз туман, и делались тесней
- От сорных трав просветы пальм и пиний.
- Гортани жег пахучий яд глициний,
- И стыла кровь, и взор глядел тусклей,
- Когда у стен раздался храп коней,
- Блеснула сталь, пронесся крик эриний.
- Звериный плащ полуспустив с плеча,
- Запасы стрел еще не расточа,
- Как груды скал, задумчивы и буры,
- Они пришли, губители богов,
- Соперники летучих облаков,
- Неистовые воины Ассуры.
- 1909
- Она говорила: «Любимый, любимый,
- Ты болен мечтою, ты хочешь и ждешь,
- Но память о прошлом, как ратник незримый,
- Взнесла над тобой угрожающий нож.
- О чем же ты грезишь с такою любовью,
- Какую ты ищешь себе Госпожу?
- Смотри, я прильну к твоему изголовью
- И вечные сказки тебе расскажу.
- Ты знаешь, что женское тело могуче,
- В нем радости всех неизведанных стран,
- Ты знаешь, что женское сердце певуче,
- Умеет целить от тоски и от ран.
- Ты знаешь, что, робко себя сберегая,
- Невинное тело от ласки тая,
- Тебя никогда не полюбит другая
- Такой беспредельной любовью, как я».
- Она говорила, но, полный печали,
- Он думал о тонких руках, но иных;
- Они никогда никого не ласкали,
- И крестные язвы застыли на них.
- 1909
- Нет тебя тревожней и капризней,
- Но тебе предался я давно
- Оттого, что много, много жизней
- Ты умеешь волей слить в одно.
- И сегодня… Небо было серо,
- День прошел в томительном бреду.
- За окном, на мокром дерне сквера
- Дети не играли в чехарду.
- Ты смотрела старые гравюры,
- Подпирая голову рукой,
- И смешно-нелепые фигуры
- Проходили скучной чередой.
- «Посмотри, мой милый, видишь – птица,
- Вот и всадник, конь его так быстр,
- Но как странно хмурится и злится
- Этот сановитый бургомистр!»
- А потом читала мне про принца,
- Был он нежен, набожен и чист,
- И рукав мой кончиком мизинца
- Трогала, повертывая лист.
- Но когда дневные смолкли звуки
- И взошла над городом луна,
- Ты внезапно заломила руки,
- Стала так мучительно бледна.
- Пред тобой смущенно и несмело
- Я молчал, мечтая об одном:
- Чтобы скрипка ласковая пела
- И тебе о рае золотом.
- <<1910? >>
- Аддис-Абеба, город роз.
- На берегу ручьев прозрачных,
- Небесный див тебя принес,
- Алмазный, средь ущелий мрачных.
- Армидин сад… Там пилигрим
- Хранит обет любви неясной.
- Мы все склоняемся пред ним,
- А розы душны, розы красны.
- Там смотрит в душу чей-то взор,
- Отравы полный и обманов,
- В садах высоких сикомор,
- Аллеях сумрачных платанов.
- <<1911 >>
- Я молчу – во взорах видно горе,
- Говорю – мои слова так злы.
- Ах, когда ж я вновь увижу в море
- Синие и пенные валы.
- Белый парус, белых, белых чаек
- Или ночью длинный лунный мост,
- Позабыв о прошлом и не чая
- Ничего в грядущем, кроме звезд!
- Видно, я суровому Нерею
- Смог когда-то очень угодить,
- Что теперь – его, и не умею
- Ни полей, ни леса полюбить.
- Я томлюсь, мне многого не надо,
- Только – моря с четырех сторон.
- Не была ль сестрою мне наяда,
- Нежным братом лапчатый тритон?
- Боже! Будь я самым сильным князем,
- Но живи от моря вдалеке,
- Я б, наверно, повалившись наземь,
- Грыз ее и бил в глухой тоске!
- <<1911 >>
- Все ясно для тихого взора:
- И царский венец, и суму,
- Суму нищеты и позора, –
- Я все беспечально возьму.
- Пойду я в шумящие рощи,
- В забытый хозяином сад,
- Чтоб ельник, корявый и тощий,
- Внезапно обрадовал взгляд.
- Там брошу лохмотья и лягу
- И буду во сне королем,
- А люди увидят бродягу
- С бескровно-землистым лицом.
- Я знаю, что я зачарован
- Заклятьем сумы и венца,
- И если б я был коронован,
- Мне снилась бы степь без конца.
- <<1911 >>
- Месяц встал; ну что ж, охота?
- Я сказал слуге: «Пора!
- Нынче ночью у болота
- Надо выследить бобра».
- Но, осклабясь для ответа,
- Чуть скрывая торжество,
- Он воскликнул: «Что ты, гета [23],
- Завтра будет Рождество.
- И сегодня ночью звери:
- Львы, слоны и мелкота –
- Все придут к небесной двери,
- Будут радовать Христа.
- Ни один из них вначале
- На других не нападет,
- Не укусит, не ужалит,
- Не лягнет и не боднет.
- А когда, людьми не знаем,
- В поле выйдет Светлый Бог,
- Все с мычаньем, ревом, лаем
- У его столпятся ног.
- Будь ты зрячим, ты б увидел
- Там и своего бобра,
- Но когда б его обидел,
- Мало было бы добра».
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Я ответил: «Спать пора!»
- <<1911 >>
- Когда я был влюблен (а я влюблен
- Всегда – в идею, женщину иль запах),
- Мне захотелось воплотить мой сон,
- Причудливей, чем Рим при грешных папах.
- Я нанял комнату с одним окном,
- Приют швеи, иссохшей над машинкой,
- Где, верно, жил облезлый старый гном,
- Питавшийся оброненной сардинкой.
- Я стол к стене подвинул; на комод
- Рядком поставил альманахи «Знанье»,
- Открытки – так, чтоб даже готтентот
- В священное б пришел негодованье.
- Она вошла спокойно и светло,
- Потом остановилась изумленно.
- От ломовых в окне тряслось стекло,
- Будильник тикал злобно-однотонно.
- И я сказал: «Царица, вы одни
- Сумели воплотить всю роскошь мира;
- Как розовые птицы ваши дни,
- Влюбленность ваша – музыка клавира.
- Ах! Бог Любви, заоблачный поэт,
- Вас наградил совсем особой меткой,
- И нет таких, как вы…» Она в ответ
- Задумчиво кивала мне эгреткой.
- Я продолжал (и резко за стеной
- Звучал мотив надтреснутой шарманки):
- «Мне хочется увидеть вас иной,
- С лицом забытой Богом гувернантки;
- И чтоб вы мне шептали: «Я твоя»,
- Или еще: «Приди в мои объятья».
- О, сладкий холод грубого белья,
- И слезы, и поношенное платье.
- А уходя, возьмите денег: мать
- У вас больна иль вам нужны наряды…
- …Мне скучно все, мне хочется играть
- И вами, и собою – без пощады…»
- Она, прищурясь, поднялась в ответ;
- В глазах светились злоба и страданье:
- «Да, это очень тонко, вы поэт,
- Но я к вам на минуту… до свиданья!»
- Прелестницы, теперь я научен.
- Попробуйте прийти, и вы найдете
- Духи, цветы, старинный медальон,
- Обри Бердслея в строгом переплете.
- <<1911 >>
- Вечерний медленный паук
- В траве сплетает паутину, –
- Надежды знак. Но, милый друг,
- Я взора на него не кину.
- Всю обольстительность надежд,
- Не жизнь, а только сон о жизни,
- Я оставляю для невежд,
- Для сонных евнухов и слизней.
- Мое «сегодня» на мечту
- Не променяю я и знаю,
- Что муки ада предпочту
- Лишь обещаемому раю, –
- Чтоб в час, когда могильный мрак
- Вольется в сомкнутые вежды,
- Не засмеялся мне червяк,
- Паучьи высосав надежды.
- 1911
- Какою музыкой мой слух взволнован?
- Чьим странным обликом я зачарован?
- Душа прохладная, теперь опять
- Ты мне позволила желать и ждать.
- Душа просторная, как утром даль,
- Ты убаюкала мою печаль.
- Ее, любившую дорогу в храм,
- Сложу молитвенно к твоим ногам.
- Все, все, что искрилось в моей судьбе,
- Все, все пропетое – тебе, тебе!
- <<1911 >>
- Замирает дыханье и ярче становятся взоры
- Перед сладко волнующим ликом твоим, Неизвестность,
- Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы
- И смущенного видеть еще не открытую местность.
- В каждой травке намек на возможность несбыточной
- встречи,
- Этот грот – обиталище феи всегда легкокрылой,
- Миг… и выйдет, атласные руки положит на плечи
- И совсем замирающим голосом вымолвит: «Милый!»
- У нее есть хранитель, волшебник ревнивый и страшный,
- Он отмстит, он, как сетью, опутает душу печалью.
- …И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду,
- всегдашний,
- Бродит школьный учитель, томя прописною моралью.
- 1911
- Целый вечер в саду рокотал соловей,
- И скамейка в далекой аллее ждала,
- И томила весна… Но она не пришла,
- Не хотела, иль просто пугалась ветвей.
- Оттого ли, что было томиться невмочь,
- Оттого ли, что издали плакал рояль,
- Было жаль соловья, и аллею, и ночь,
- И кого-то еще было тягостно жаль.
- – Не себя! Я умею быть светлым, грустя;
- Не ее! Если хочет, пусть будет такой;
- …Но зачем этот день, как больное дитя,
- Умирал, не отмеченный Божьей Рукой?
- 1911
- Вечерние тихи заклятья,
- Печаль голубой темноты,
- Я вижу не лица, а платья,
- А может быть, только цветы.
- Так радует серо-зеленый,
- Живой и стремительный весь,
- И, может быть, к счастью, влюбленный
- В кого-то чужого… не здесь.
- Но душно мне… Я зачарован;
- Ковер надо мной, словно сеть;
- Хочу быть спокойным – взволнован,
- Смотрю – а хочу не смотреть.
- Смолкает веселое слово,
- И ярче пылание щек:
- То мучит, то нежит лиловый,
- Томящий и странный цветок.
- 1911
- Кончено! Дверь распахнулась пред ним, заключенным;
- Руки не чувствуют холода цепи тяжелой,
- Грустно расстаться ему с пауком прирученным,
- С хилым тюремным цветком пичиолой.
- Жалко тюремщика… (он иногда улыбался
- Странно-печально)… и друга за тяжким затвором…
- Или столба, на котором однажды качался
- Тот, кого люди назвали убийцей и вором…
- Жалко? Но только как призрак растаяли стены –
- В темных глазах нетерпенье, восторг и коварство:
- Солнце пьянит его, солнце вливается в вены,
- В сердце… Изгнанник идет завоевывать царство.
- 1911
- Ангел лег у края небосклона,
- Наклоняясь, удивлялся безднам.
- Новый мир был темным и беззвездным.
- Ад молчал. Не слышалось ни стона.
- Алой крови робкое биенье,
- Хрупких рук испуг и содроганье,
- Миру снов досталось в обладанье
- Ангела святое отраженье.
- Тесно в мире! Пусть живет, мечтая
- О любви, о грусти и о тени,
- В сумраке предвечном открывая
- Азбуку своих же откровений.
- <<1911 >>
- Да! Мир хорош, как старец у порога,
- Что путника ведет во имя Бога
- В заране предназначенный покой,
- А вечером, простой и благодушный,
- Приказывает дочери послушной
- Войти к нему и стать его женой.
- Но кто же я, отступник богомольный,
- Обретший все и вечно недовольный,
- Сдружившийся с луной и тишиной?
- Мне это счастье – только указанье,
- Что мне не лжет мое воспоминанье
- И пил я воду родины иной.
- <<1911 >>
- Из камня серого иссеченные вазы,
- И купы царственные ясени, и бук,
- И от фонтанов ввысь летящие алмазы,
- И тихим вечером баюкаемый луг.
- В аллеях сумрачных затерянные нары
- Так по-осеннему тревожны и бледны,
- Как будто полночью их мучают кошмары
- Иль пеньем ангелов сжигают души сны.
- Здесь принцы грезили о крови и железе,
- А девы нежные о счастии вдвоем,
- Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом…
- Но дальше, призраки! Над виллою Боргезе
- Сквозь тучи золотом блеснула вышина, –
- То учит забывать встающая луна.
- <<1913 >>
- О сердце, ты неблагодарно!
- Тебе – и розовый миндаль,
- И горы, вставшие над Арно,
- И запах трав, и в блеске даль.
- Но, тайновидец дней минувших,
- Твой взор мучительно следит
- Ряды в бездонном потонувших
- Тебе завещанных обид.
- Тебе нужны слова иные,
- Иная, страшная пора.
- …Вот грозно встала Синьория
- И перед нею два костра.
- Один – как шкура леопарда,
- Разнообразен, вечно нов.
- Там гибнет «Леда» Леонардо
- Средь благовоний и шелков.
- Другой, зловещий и тяжелый,
- Как подобравшийся дракон,
- Шипит: «Вотще Савонаролой
- Мой дом державный потрясен».
- Они ликуют, эти звери,
- А между них, потупя взгляд,
- Изгнанник бледный, Алигьери,
- Стопой неспешной сходит в ад.
- <<1913 >>
- Зеленое, все в пенистых буграх,
- Как горсть воды, из океана взятой,
- Но пригоршней гиганта чуть разжатой,
- Оно томится в плоских берегах.
- Не блещет плуг на мокрых бороздах,
- И медлен буйвол, грузный и рогатый,
- Здесь темной думой удручен вожатый,
- Здесь зреет хлеб, но лавр уже зачах.
- Лишь иногда, наскучивши покоем,
- С кипеньем, гулом, гиканьем и воем
- Оно своих не хочет берегов,
- Как будто вновь под ратью Ганнибала
- Вздохнули скалы, слышен визг шакала
- И трубный голос бешеных слонов.
- <<1913 >>
- Измучен огненной жарой,
- Я лег за камнем на горе,
- И солнце плыло надо мной,
- И небо стало в серебре.
- Цветы склонялись с высоты
- На мрамор брошенной плиты,
- Дышали нежно, и была
- Плита горячая бела.
- И ящер средь зеленых трав,
- Как странный и большой цветок,
- К лазури голову подняв,
- Смотрел и двинуться не мог.
- Ах, если б умер я в тот миг,
- Я твердо знаю, я б проник
- К богам, в Элизиум святой,
- И пил бы нектар золотой.
- А рай оставил бы для тех,
- Кто помнит ночь и верит в грех,
- Кто тайно каждому стеблю
- Не говорит свое «люблю».
- <<1913 >>
- Скоро полночь, свеча догорела.
- О, заснуть бы, заснуть поскорей,
- Но смиряйся, проклятое тело,
- Перед волей железной моей.
- Как? Ты вновь прибегаешь к обману,
- Притворяешься тихим; но лишь
- Я забудусь: «Работать не стану,
- Не хочу, не могу», – говоришь…
- «Подожди, вот засну, и наутро,
- Чуть последняя канет звезда,
- Буду снова могуче и мудро,
- Как тогда, как в былые года…»
- Полно. Греза, бесстыдная сводня,
- Задурманит тебя до утра,
- И ты скажешь, лениво зевая,
- Кулаками глаза протирая:
- «Я не буду работать сегодня,
- Надо было работать вчера».
- <<1913 >>
Как-то он позвал меня к себе. Жил он недалеко, на Ивановской, близ Загородного, в чьей-то чужой квартире. Добрел я до него благополучно, но у самых дверей упал: меня внезапно сморило от голода. Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, приволок меня Николай Степанович, вышедший встретить меня у лестницы черного хода. (Парадные были везде заколочены.)
Едва я пришел в себя, он с обычным своим импозантным и торжественным видом внес в спальню старинное расписанное матовым золотом лазурное блюдо, достойное красоваться в музее. На блюде был тончайший, почти сквозной, как папиросная бумага – не ломтик, но скорее лепесток серо-бурого, глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность тогдашней зимы.
Торжественность, с которой еда была подана (нужно ли говорить, что поэт оставил себе на таком же роскошном блюде такую же мизерную порцию?), показалась мне в ту минуту совершенно естественной. Здесь не было ни позы, ни рисовки. Было ясно, что тяготение к пышности свойственно Гумилеву не только в поэзии и что внешняя сторона бытовых отношений для него важнейший ритуал.
Братски разделив со мной свою убогую трапезу, он столь же торжественно достал из секретера оттиск своей трагедии «Гондла» и стал читать ее вслух при свете затейливо-прекрасной и тоже старинной лампады.
Но лампада потухла. Наступила тьма, и тут я стал свидетелем чуда: поэт и во тьме не перестал ни на миг читать свою трагедию, не только стихотворный текст, но и все ее прозаические ремарки, стоявшие в скобках, и тогда я уже не впервые увидел, какая у него необыкновенная память.
Впоследствии я убеждался в этом не раз. Зимою 1921 года он каждое воскресенье заходил за мной, и мы шли через весь город на Петроградскую сторону к нашей общей знакомой Варваре Васильевне Шайкевич, большой поклоннице его поэзии, и покуда мы шли по пустынному, промозглому, окоченевшему, тихому городу, он всю дорогу читал мне стихи Иннокентия Анненского и свои, новые, сочиненные только что, в последние дни. В ту зиму он создавал их во множестве, порою по нескольку в день. Было очевидно, что только теперь его дарование созрело вполне, оставив далеко позади все «Жемчуга» и «Колчаны».
Он помнил эти новые стихи наизусть, помнил даже черновые варианты – и читал эти варианты один за другим, словно они были у него перед глазами.
Я и теперь, когда читаю его «Лес», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «Слово», «Память» в его сборнике «Огненный столп» – лучшие из всех, когда-либо написанных им, – вспоминаю глуховатый, немного простуженный и совершенно новый для меня голос поэта, каким никогда он не читал своих прежних стихов. В голосе этом уже не было пышной торжественности. Что-то молитвенно кроткое слышалось в той интонации, с которой в «Заблудившемся трамвае» он произносил имя «Машенька», такое русское, никак не вмещавшееся в прежнем его словаре, где полновластно царили такие имена, как Лай-Це, Андромеда, Маб, Семирамида, Лилит.
- Машенька, я никогда не думал,
- Что можно так любить и грустить.
Это был новый Гумилев, наконец-то преодолевший холодную нарядность и декоративность своей ранней поэзии. У Варвары Васильевны он чинно садился в кресло прямой, как линейка (в креслах он никогда не разваливался), и, прихлебывая красное вино, которое каким-то чудом сохранилось у нее от старых времен, вновь прочитывал ей все свои последние стихи. Однажды мы застали у нее А. М. Горького, который незадолго до этого и познакомил нас с нею. Алексей Максимович, умевший слушать чужие стихи с необыкновенным вниманием, веско сказал Гумилеву:
– Вот какой из вас вырос талантище!
То была болдинская осень Гумилева: самое изобилие стихов, созданных им в эти несколько месяцев, говорило о новых открывшихся перед ним перспективах поззии.
…Тогда было распространено суеверие, будто поэтическому творчеству можно научиться в десять – пятнадцать уроков. Желающих стать стихотворцами появилось в то время великое множество. Питер внезапно оказался необыкновенно богат всякими литературными студиями, в которых самые разнообразные граждане обоего пола (обычно очень невысокой культуры) собирались в определенные дни, чтобы под руководством хороших (или плохих) стихотворцев изучать технику поэтической речи.
Так как печатание книг из-за отсутствия бумаги в те дни почти прекратилось, главным заработком многих писателей стали эти занятия в литературных кружках. Гумилев в первые же месяцы стал одним из наиболее деятельных студийных работников. И хотя он никогда не старался подольститься к своим многочисленным слушателям, а, напротив, был требователен и даже суров, все они с первых же дней горячо привязались к нему, часто провожали его гурьбою по улице, и число их из недели в неделю росло. Особенно полюбили его пролеткультовцы. Те из них, что дожили до нашего времени, и сейчас вспоминают его с самыми светлыми чувствами.
Между тем курс его был очень труден. Поэт изготовил около десятка таблиц, которые его слушатели были обязаны вызубрить: таблицы рифм, таблицы сюжетов, таблицы эпитетов, таблицы поэтических образов. <<…>> От всего этого слегка веяло средневековыми догмами, но это-то и нравилось слушателям, так как они жаждали верить, что на свете существуют устойчивые, твердые законы поэтики, не подверженные никаким изменениям, и что тому, кто усвоит как следует эти законы, будет наверняка обеспечено высокое звание поэта. (Счастье, что сам-то Гумилев никогда не следовал заповедям своих замысловатых таблиц.)
Даже его надменность пришлась по душе слушателям. Им казалось, что таков и должен быть подлинный мастер в обращении со своими подмастерьями. Гумилев с самого начала уведомил их, что он «Синдик Цеха поэтов», и хотя слушатели никогда не слыхали о синдиках, они, увидя его гордую осанку, услышав его начальственный голос, сразу же уверовали, что это очень важный и многозначительный чин. В качестве синдика он, давая оценку тому или иному произведению студийца, отказывался мотивировать эту оценку: «достаточно и того, что ваши строки одобрены мною» или: «ваше стихотворение я считаю плохим, и не стану говорить почему».
Как это ни странно, студийцам импонировала такая методика безапелляционных оценок. Они чувствовали, что Синдик – властный, волевой человек, что у него сильный и цельный характер, и охотно подчинялись ему.
Ни о чем другом, кроме поэзии, поэтической техники, он никогда не говорил со своими питомцами, и дисциплина на его занятиях была образцовая. <<…>>
…Слово «поэт» Гумилев в разговоре произносил каким-то особенным звуком – пуэт – и чувствовалось, что в его представлении это слово написано огромными буквами, совсем иначе, чем все остальные слова.
Эта вера в волшебную силу поэзии, «солнце останавливавшей словом, словом разрушавшей города», никогда не покидала Гумилева. В ней он никогда не усомнился. Отсюда, и только отсюда то чувство необычайной почтительности, с которым он относился к поэтам, и раньше всего к себе самому как к одному из носителей этой могучей и загадочной силы.
Знаменательно, что при всем своем благоговении к поэзии он не верил ни в ее экстатическую, сверхреальную сущность, ни в мистическую природу ее вдохновений. Поэт для него был раньше всего умелец, искусник, властелин и повелитель прекрасных и сладостных слов. Поэтому при создании стихов он любил задавать себе, как мастеру слова, труднейшие формальные задачи. В каждой строке его ранней поэмы «Открытие Америки» звучат лишь две троекратные рифмы, причем комбинации этих рифм в каждой строфе – иные, так что к концу поэмы оказываются исчерпаны чуть ли не все математические возможности сочетания троекратных созвучий.
«Открытие Америки» не принадлежит к числу лучших произведений поэта: последние ее строфы он впоследствии не перепечатывал в своих поэтических сборниках, но этих забот о формальных «изысках» он не оставил никогда. <<…>>
- Когда вступила в спальню Дездемона,
- Там было тихо, тихо и темно,
- Лишь месяц любопытный к ней в окно
- Заглядывал с ночного небосклона.
- И черный мавр со взорами дракона,
- Весь вечер пивший красное вино,
- К ней подошел, – он ждал ее давно, –
- Он не услышит девичьего стона.
- Напрасно с безысходною тоской
- Она ловила тонкою рукой
- Его стальные руки… было поздно.
- И, задыхаясь, думала она:
- «О, верно, в день, когда шумит война,
- Такой же он загадочный и грозный!»
- <<1913 >>
- Мое прекрасное убежище –
- Мир звуков, линий и цветов,
- Куда не входит ветер режущий
- Из недостроенных миров.
- Цветок сорву ли – буйным пением
- Наполнил душу он, дразня,
- Чаруя светлым откровением,
- Что жизнь кипит и вне меня.
- Но так же дорог мне искусственный
- Взлелеянный мечтою цвет:
- Он мозг дурманит жаждой чувственной
- Того, чего на свете нет.
- Иду в пространстве и во времени,
- И вслед за мной мой сын идет
- Среди трудящегося племени
- Ветров, и пламеней, и вод.
- И я приму – о да, не дрогну я! –
- Как поцелуй иль как цветок,
- С таким же удивленьем огненным
- Последний гибельный толчок.
- <<1913 >>
- Этот город воды, колоннад и мостов,
- Верно, снился тому, кто, сжимая виски,
- Упоительный опиум странных стихов,
- Задыхаясь, вдыхал после ночи тоски.
- В освещенных витринах горят зеркала,
- Но по улицам крадется тихая темь,
- А колонна крылатого льва подняла,
- И гиганты на башне ударили семь.
- На соборе прохожий еще различит
- Византийских мозаик торжественный блеск
- И услышит, как с темной лагуны звучит
- Возвращаемый медленно волнами плеск.
- <<1913? >>
- Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно,
- Вы улыбнулись рассеянно и отказали бесстрастно.
- Любит высокое небо и древние звезды поэт,
- Часто он пишет баллады, но редко ходит в балет.
- Грустно пошел я домой, чтоб смотреть в глаза тишине,
- Ритмы движений небывших звенели и пели во мне.
- Только так сладко знакомая вдруг расцвела тишина,
- Словно приблизилась тайно иль стала солнцем луна;
- Ангельской арфы струна порвалась, и мне слышится звук;
- Вижу два белые стебля высоко закинутых рук,
- Губы ночные, подобные бархатным красным цветам…
- Значит, танцуете все-таки вы, отказавшая нам!
- В синей тунике из неба ночного затянутый стан
- Вдруг разрывает стремительно залитый светом туман,
- Быстро змеистые молнии легкая чертит нога.
- – Видит, наверно, такие виденья блаженный Дега,
- Если за горькое счастье и сладкую муку свою
- Принят он в сине-хрустальном высоком Господнем раю.
- …Утром проснулся, и утро вставало в тот день лучезарно,
- Был ли я счастлив? Но сердце томилось тоской
- благодарной.
- 1914
- Пролетела стрела
- Голубого Эрота,
- И любовь умерла,
- И настала дремота.
- В сердце легкая дрожь
- Золотого похмелья,
- Золотого, как рожь,
- Как ее ожерелье.
- Снова лес и поля
- Мне открылись, как в детстве,
- И запутался я
- В этом милом наследстве.
- Легкий шорох шагов,
- И на белой тропинке
- Грузных майских жуков
- Изумрудные спинки.
- Но в душе у меня
- Затаилась тревога.
- Вот прольется, звеня,
- Зов военного рога.
- Зорко смотрит Эрот,
- Он не бросил колчана…
- И пылающий рот
- Багровеет, как рана.
- <<1914 >>
- Нет, не думайте, дорогая,
- О сплетеньи мышц и костей,
- О святой работе, о долге…
- Это сказки для детей.
- Под попреки санитаров
- И томительный бой часов
- Сам собой поправится воин,
- Если дух его здоров.
- И вы верьте в здоровье духа,
- В молньеносный его полет,
- Он от Вильны до самой Вены
- Неуклонно нас доведет.
- О подругах в серьгах и кольцах,
- Обольстительных вдвойне
- От духов и притираний,
- Вспоминаем мы на войне.
- И мечтаем мы о подругах,
- Что проходят сквозь нашу тьму
- С пляской, музыкой и пеньем
- Золотой дорогой муз.
- Говорили об англичанке,
- Песней славшей мужчин на бой
- И поцеловавшей воина
- Пред восторженной толпой.
- Эта девушка с открытой сцены,
- Нарумянена, одета в шелк,
- Лучше всех сестер милосердия
- Поняла свой юный долг.
- И мечтаю я, чтоб сказали
- О России, стране равнин:
- – Вот страна прекраснейших женщин
- И отважнейших мужчин.
- <<1914 >>
…Омочу бебрян рукав в Каяле реце, утру князю кровавые его раны на жестоцем теле.
Плач Ярославны
- Я не верю, не верю, милый,
- В то, что вы обещали мне.
- Это значит – вы не видали
- До сих пор меня во сне.
- И не знаете, что от боли
- Потемнели мои глаза.
- Не понять вам на бранном поле,
- Как бывает горька слеза.
- Нас рождали для муки крестной,
- Как для светлого счастья вас,
- Каждый день, что для вас воскресный, –
- То день страдания для нас.
- Солнечное утро битвы,
- Зов трубы военной – вам,
- Но покинутые могилы
- Навещать годами нам.
- Так позвольте теми руками,
- Что любили вы целовать,
- Перевязывать ваши раны,
- Воспаленный лоб освежать.
- То же делает и ветер,
- То же делает и вода,
- И не скажет им: «Не надо» –
- Одинокий раненый тогда.
- А когда с победой славной
- Вы вернетесь из чуждых сторон,
- То бебрян рукав Ярославны
- Будет реять среди знамен.
- <<1914 >>
С. Л<<озинскому>>