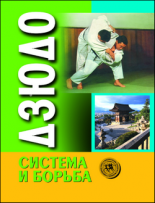Женщины на российском престоле Анисимов Евгений

Тогда Бирон начал сам, стоя на коленях, упрашивать царицу подписать завещание, или, как злорадно пошутил Миних-младший, «герцог видел себя принужденным сам по своему делу стряпать». Стряпать приходилось на скорую руку, кое-как, ведь жизнь уходила от Анны Иоанновна буквально на глазах. Бирон не покидал опочивальню императрицы, пока та, наконец, не подписала указ о назначении принца Ивана наследником престола. Указ датировался задним числом – 6 октября. И как только 17 октября Анна Иоанновна навеки закрыла глаза, был оглашен подписанный ею фактически накануне смерти указ-завещание в пользу принца Ивана, регентом при котором становился (до семнадцатилетия императора) Бирон. Он же, согласно букве закона, остался бы регентом и в случае преждевременной кончины императора Ивана Антоновича при его несовершеннолетнем брате (если тот, конечно, родится).
Бирон мог вытереть трудовой пот со лба. Его стряпня удалась.
Die Fatalitat, или Любовь к ночным приключениям
Сколько раз уже бывало в истории, что вот так, достигнув вершины власти, человек от одного неверного движения или чьего-то легкого толчка вдруг низвергался в бездну. Именно так пал российский Голиаф – Меншиков, преодолевший все препятствия к вершине власти. И вот теперь наступила очередь Бирона: от судьбы своей не убежишь! Регентство Бирона было кратким – всего три недели, а вовсе не семнадцать лет, как он предполагал.
Поначалу все шло хорошо. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин хвастался саксонскому дипломату Пецольду о том, как они с Бироном ловко провернули дело: за одну ночь после смерти Анны Иоанновны отпечатали манифест о регентстве и форму присяги, что позволило уже на следующий день привести к кресту (то есть к присяге) полки и жителей столицы. Сделано все было так быстро, что возможные противники не успели даже прийти в себя. «Теперь, – вещал этот фаворит фаворита, – для достижения полного единодушия нам остается только награждать благонамеренных и примерно наказывать непокорных». В самом деле, присяга гвардии, самый щекотливый момент, прошла вполне гладко. Как писал английский посланник Э. Финч, действительно, «все свершилось в большем спокойствии, чем простой смотр гвардии в Гайд-парке».
Бирон мог опереться на своих людей везде: в армии, где заправлял его союзник фельдмаршал Миних, в государственном аппарате (в Кабинете министров сидели Бестужев-Рюмин и Черкасский), в секретной полиции – верный Андрей Иванович Ушаков служил всегда тому, кто стоял у власти. Вскоре Бирону донесли наушники, то есть те, кто «лежал на ухе», что отец императора позволяет себе публично осуждать регента и сомневаться в подлинности акта об учреждении регентства. Сообщили Бирону и о сочувствии гвардейцев и чиновников Антону Ульриху, и даже о готовящемся заговоре в пользу Брауншвейгской фамилии (или семейства) – так стали называть семью императора Ивана Антоновича.
Регент действовал решительно и быстро: подозреваемые двадцать человек были арестованы, некоторых допрашивали и пытали, а принцу устроили нечто вроде «разбора персонального дела на собрании трудового коллектива». В присутствии высших чинов государства Бирон, как писали в позднейшем указе, стал Антона Ульриха «многими непристойными нападками нагло утеснять», а проще говоря, орал на отца императора, угрожая ему дуэлью, а Ушаков назвал его мальчишкой и обещал поступить с ним как с государственным преступником. Растерянный принц совершенно стушевался, нес околесицу, оправдывался и просил прощения. После этого его отстранили от всех должностей и фактически посадили под домашний арест «под протекстом (предлогом. – Е. А.) опасной по улицам езды».
Антона Ульриха заставили написать прошение на имя собственного сына об отставке из армии и гвардии, «дабы при Вашем императорском величестве всегда неотлучным быть». «Нижайшего раба» (так он подписался) уволили указом за подписью Бирона: «Именем Его Императорского Величества Иоганн, регент и герцог». От имени младенца-императора в Москву был послан указ, чтобы «под рукою искусным образом осведомиться старались, что в Москве между народом и прочими людьми о таком нынешнем определении (регентстве. – Е. А.) говорят, и не происходит ли иногда, паче чаяния, от кого о том непристойные рассуждения и толкования».
Припугнул герцог и Анну Леопольдовну, пообещав ей в случае непослушания выписать из Киля «чертушку» – сына Анны Петровны Карла Петера Ульриха, имевшего, как внук Петра Великого, побольше прав на престол, чем Иван Антонович. Тем самым Бирон намекал, что может выслать Брауншвейгскую фамилию в Германию, так сказать к разбитому корыту. Беседовал он и с цесаревной Елизаветой, обещал ей хорошее содержание, а думал, вероятно, о том, как бы женить на этой красавице своего сына Петра.
Одним словом, регент, несмотря на печаль по своей покойной благодетельнице, был активен, все у него шло отлично. 8 ноября 1740 года он долго разговаривал с Минихом о делах. Тот, как всегда, знакомил Бирона с материалами из разных государственных учреждений и «представлял, что все тихо, смирно и довольно».
На этот раз регент был слегка рассеян, а под конец беседы вдруг спросил Миниха: «А что, фельдмаршал, вам никогда не случалось во время ваших воинских предприятий производить что-либо значительное ночью?» Миних, по словам его адъютанта Манштейна, отвечал, что «не помнит, но что его правилом было пользоваться всеми обстоятельствами, когда они кажутся благоприятными».
Думаю, что Миних, рассказывая эту историю адъютанту, приврал по своему обыкновению. Скорее всего, он от страха прикипел к стулу и пробормотал что-то нейтральное и неразборчивое, а земля под ним закачалась. Ведь Бирон, сам того не ведая, попал в точку: Миних как раз готовился этой ночью к «воинскому предприятию» – «походу» на спящего регента. Впрочем, может быть, Бирон что-то и заподозрил. Позже на следствии он говорил, что Миниху не верил, ибо «нрав графа фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию и при том десперат и весьма интересоват» (то есть человек отчаянный и заинтересованный). Признавался он и в том, что боялся гвардейцев…
Короткий путь от могущества до грязного сугроба
Намерение убрать Бирона созрело у Миниха уже давно. Главной причиной его недовольства была скупость регента на чины, награды и ласку для фельдмаршала, оказавшего ему серьезную поддержку при обретении регентства. Перед переворотом Миних сумел найти общий язык с Анной Леопольдовной – та, не изощренная в интриге, сразу же стала жаловаться нашему герою на притеснения и грубости Бирона и тем самым подтолкнула фельдмаршала к решительным действиям. Судя по всему, столкновение между Анной Леопольдовной и Бироном рано или поздно должно было произойти. Как писал 1 ноября Финч, несмотря на величайшую мягкость и уважение, проявляемые публично регентом в отношении Анны, они враги: «Герцог всегда видел в принцессе смертельного врага и чувствует, что присвоение регентства в ущерб ей, особенно по устранении ее от самого престола, она ему никогда не простит». Так это и было.
Получив благословение матери царя, отважный воин с 80 солдатами в ночь на 9 ноября 1740 года двинулся к Летнему дворцу, где мирно почивал регент. Подойдя к дворцу, Миних приказал своему адъютанту Манштейну арестовать Бирона, а при попытке сопротивления – да, да! – прикончить. Манштейн вошел во дворец и, минуя отдающих ему честь часовых и кланяющихся слуг, уверенно и спокойно зашагал по залам, будто бы со срочным донесением к регенту. Но его прошибал холодный пот, и в душе нарастала тревога: он явно заблудился, спрашивать же у попадавшихся навстречу слуг, где спит герцог, он не мог – это было бы слишком странно и подозрительно. Впрочем, предоставим слово самому Манштейну (он пишет о себе в третьем лице): «Он прошел в сад и беспрепятственно дошел до покоев. Не зная, однако, в какой комнате спал герцог, он был в большом затруднении, не зная, куда идти».
Остановимся на минуту и представим себе чувства как мерзнувшего на ночном сквозняке фельдмаршала, так и его незадачливого адъютанта, потерявшегося во тьме дворцовых переходов. «После минутного колебания он решил идти дальше по комнатам в надежде, что найдет наконец то, чего ищет. Действительно, пройдя еще две комнаты, он очутился перед дверью, запертой на ключ; к счастью для него, она была двустворчатая и слуги забыли задвинуть верхние и нижние задвижки, таким образом, он мог открыть ее без особенного труда (а если бы слуги не забыли про задвижки, что делал бы Манштейн? – Е. А.). Там он нашел большую кровать, на которой глубоким сном спали герцог и его супруга, не проснувшиеся даже при шуме растворившейся двери.
Манштейн, подойдя к кровати, отдернул занавесы и сказал, что имеет дело до регента, тогда оба внезапно проснулись и начали кричать изо всей мочи, не сомневаясь, что он явился к ним с недобрым известием. Манштейн очутился с той стороны, где лежала герцогиня, поэтому регент соскочил с кровати, очевидно, с намерением спрятаться под нею, но тот поспешно обежал кровать и бросился на него, сжав его как можно крепче обеими руками, [и держал] до тех пор, пока не явились гвардейцы. Герцог, встав наконец на ноги и желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево; солдаты отвечали ему сильными ударами прикладов, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голого до гауптвахты, где его накрыли солдатской шинелью и положили в ожидавшую его тут карету фельдмаршала».
Сам Бирон в позднейших мемуарах к описанию печального эпизода собственного падения смог только добавить: «Тут меня ровно ни о чем не спрашивали». Да, уж конечно, – спрашивать будут следователи! Заметим попутно, что ночная беготня и шум подняли на ноги весь дворец, и только покойной императрице не было до всего этого никакого дела – она тихо лежала в гробу в парадном зале и не видела, как мимо пронесли мычащего и лягающегося ее обер-камергера.
«В то время когда солдаты боролись с герцогом, – заключает Манштейн свой приключенческий рассказ, – герцогиня соскочила с кровати в одной рубашке и выбежала на улицу, где один из солдат взял ее на руки, спрашивая у Манштейна, что с ней делать. Он приказал отнести ее обратно в ее комнаты, но солдат, не желая утруждать себя, сбросил ее на землю, в снег, и ушел».
Новый Годунов
На следующий день крошечный император разразился пространнейшим обличительным – в адрес свергнутого регента – манифестом. «Он, герцог Курляндский… Нашим вселюбезнейшим родителям, Нашей государыне матушке и Нашему государю отцу, столь великое оскорбление и пренебрежение публично нанести» посмел, «при том разные неслыханные, непристойные угрозы» употребил и вообще нарушал государственные права и виноват в «малослыханном похищении нашей казны». Кроме того, Бирон удостоился чести быть сравненным с Борисом Годуновым, которого тогда рассматривали как убийцу царевича Дмитрия и узурпатора. Вот и Бирон, «будучи надмен гордостию и ненасытством властолюбия», поступал «так же, как и вышеупомянутый Годунов».
Чтобы прийти к такому сравнению, потребовалось нарядить специальную комиссию, которая начала расследование преступной деятельности Бирона. Сохранились материалы следствия, и по ним видно, что найти криминал для расправы с регентом было довольно трудно, он ловко уходил из-под ударов. Когда его обвиняли «в небрежении здравия» императрицы Анны Иоанновны, которая, несмотря на подагру, хирагру и почечнокаменную болезнь, была вынуждена много времени проводить вместе с Бироном в конном манеже, то он, во-первых, ссылался на докторов, не предрекавших государыне скорого конца, и, во-вторых, рассказывал, как он самоотверженно боролся за ее здоровье и, увидев, что императрица «лекарство с великой противностью принимает, а часто и вовсе принимать не изволит», припадал к ногам Е. И. В., «слезно и неусыпно просил, чтобы теми определенными от докторов лекарствами изволили пользоваться. А больше всего принужден был Е. В. в том докучать, чтоб она клистер себе ставить допустила… к чему напоследок и склонил».
Еще в вину герцогу ставилось то, что он «в церковь Божию не ходил», все дела «по своей воле и страстям отправлял», «оставя свою природную совесть, домогался регентства», был невежлив с придворными и знатью и так на них «крикивал и так продерзостно бранивался, что и Ее величество сама от того часто ретироваться изволила». Представь, читатель, эту картину, достойную кисти художника: «Бирон, разгоняющий посредством многоэтажного мата двор и вынуждающий ретироваться императрицу Анну».
Серьезнее по тем временам были обвинения в том, что «к российским честным людям и ко всей нации был весьма зол», а одного нерасторопного придворного выругал «русской канальей». Чтобы сделать обвинения как можно весомей, следователи туманно намекнули на государственную измену: Бирон якобы заключал «тайные секретнейшие договоры и обязательства… к повреждению государственных здешних интересов с чужими державами».
Надо сказать, что ответы Бирона были обстоятельны и хорошо аргументированы. Он убедительно отвергал одно обвинение за другим, но даже трогательный рассказ о том, как он склонил императрицу поставить клистир, не убедил суровых судей: 14 апреля император Иван Антонович вынес приговор: Бирона и его братьев по «отписании всего их движимого и недвижимого имения на Нас, в вечном заключении содержать, дабы тяжкое оное гонение и наглые обиды, которые верные Наши подданные от него претерпели… без всякого взыскания не остались».
В общем, за все это решено было Бирона со всем семейством сослать в Сибирь, в Пелым, навечно. Сам великий инженер Миних заботливо подготовил чертеж дома для своего поверженного врага и послал специального комиссара в Пелым для наблюдения за сибирской новостройкой. Правда, в Сибири Бироны пробыли недолго – вскоре Елизавета Петровна приказала перевести их в Ярославль.
Неверный насест власти
Тотчас после ареста Бирона войска были собраны к Зимнему дворцу и присягнули на верность «благоверной государыне правительнице великой княгине Анне всея России» – таким стал титул Анны Леопольдовны. Наступил час фельдмаршала Миниха. «Ночная революция» 9 ноября 1740 года уже вознесла его на вершину власти, хотя, совершая ее, он многим рисковал. Манштейн, хорошо знавший своего честолюбивого патрона, иронически заметил, что Миних мог не раз арестовать регента днем, еще в покоях Анны Леопольдовны, однако «любивший, чтобы все его предприятия совершались с некоторым блеском, избрал самые затруднительные средства» – пошел ночью, понимая при этом, что «если бы один только человек исполнил свой долг (и поднял бы тревогу. – Е. А.), то предприятие фельдмаршала не удалось бы».
Весь двор потешался над Остерманом, который утром, после свержения Бирона, ссылаясь на болезни, отказался явиться к правительнице. Тогда Миних просил передать хитрецу, решившему переждать смуту, что есть некоторые признаки, могущие заставить Остермана сделать над собою усилие, – регент сидит в караульне. Остерман тотчас выздоровел и поспешил к разделу пирога. «Фельдмаршал Миних, – пишет Манштейн, – арестовал герцога Курляндского единственно с целью достигнуть высшей степени счастия… он хотел захватить всю власть, дать великой княгине звание правительницы и самому пользоваться сопряженной с этим званием властью, воображая, что никто не посмеет предпринять что-либо против него. Он ошибся».
Да, Миних ошибся: его, российского Марса, победителя страшного Бирона, вскоре низринула с Олимпа тихая, рассеянная женщина – Анна Леопольдовна. Произошло это так. Миних рассчитывал стать генералиссимусом за «подвиг» своего адъютанта в Летнем дворце, но просчитался – высшее воинское звание 10 ноября получил Антон Ульрих. Миних был оскорблен до глубины души и обращался с отцом царя без почтения, что было отмечено при дворе с неудовольствием. К тому же, сделав фельдмаршала первым министром, правительница поручила иностранные дела Остерману, а внутренние – Михаилу Гавриловичу Головкину. В итоге Миних остался не у дел.
Он вытерпел это только до весны 1741 года. 3 марта он подал прошение об отставке – к этому приему шантажа незаменимый фельдмаршал прибегал не раз, и всегда с успехом. Но тут правительница, немного поколебавшись, вдруг подписала указ, гласивший, что, поскольку Миних «сам Нас просил за старостью и что в болезнях находится и за долговременные Нам и предкам Нашим и государству Нашему верные и знатные службы его от воинских и статских дел уволить», то просьбу его удовлетворить. Миних пал жертвой своей амбициозности – ведь он думал, что незаменим, что без него не обойдутся и, как это бывало при Петре II и Анне Иоанновне, будут просить остаться и выполнят все его требования.
«Это известие, как гром, поразило его, – пишет Манштейн. – Его отблагодарили (отставкой) за его службу, как раз в то время, когда он воображал, что могущество его утверждается более чем когда-либо». Я думаю, сработал принцип «мавр сделал свое дело…» Кажется уместной и приводимая секретарем саксонского посольства Пецольдом латинская пословица «Proditionem amo, proditorem odi» («Люблю предательство, ненавижу предателя»). Миниху определили пенсию и караул возле дома, который отставной, но полный сил и замыслов деятель считал почему-то – в отличие от всех – почетным.
Надо сказать, что слабой женской рукой правительницы водила рука Остермана, который наконец почувствовал, что настал его час и что власть будет принадлежать ему. Мы теперь знаем, что и этот правитель низринулся с насеста власти через несколько месяцев после Миниха, и оба они уже при Елизавете отправились в Сибирь: один в Пелым, другой – в Березов. Судьбе было угодно, чтобы в Казани, по дороге в Пелым, бывший фельдмаршал встретился с бывшим регентом, которого везли из Пелыма в Ярославль – на новое место ссылки. Встреча была неприятна обоим. Миних ехал на место Бирона. Но поселиться в том доме, который он построил для своего врага, ему не удалось – пожар помешал Миниху проверить, такой ли он хороший архитектор. Больше повезло Остерману. Он обосновался в Березове, на месте, «нагретом» сначала Меншиковым, сосланным из-за интриг Долгоруких и Остермана осенью 1727 года, а потом самими Долгорукими, оказавшимися в Березове в 1730 году. В 1742 году настал черед Андрея Ивановича – свято место, как известно, пусто не бывает.
Простодушие и доверчивость
Провозгласив себя 10 ноября 1740 года великой княгиней и правительницей государства и став, в сущности, самодержавной императрицей, Анна Леопольдовна продолжала жить, как жила раньше. Мужа своего она презирала и частенько даже не пускала на свою половину. Ныне трудно разобраться, почему так сложились их отношения, почему принц был так неприятен Анне. Возможно, в нем не было изящества, лихости и мужественности графа Линара. Фельдмаршал Миних говаривал, что хотя и провел рядом с принцем две военные кампании, но еще его не знает: рыба или мясо. Когда Артемий Волынский как-то спросил Анну, чем ей не нравится принц, она отвечала: «Тем, что весьма тих и в поступках несмел».
Действительно, история краткого регентства Бирона показала, что в острые моменты, когда требовалось защищать свою честь и благополучие семьи, принц выглядел тряпкой, и не без оснований герцог говорил со смехом саксонскому дипломату Пецольду, что Антон Ульрих привлек к своему заговору против него… придворного шута, а потом на грозные вопросы регента отвечал с наивностью, что ему «хотелось немножко побунтовать». Еще раньше Бирон цинично заметил Пецольду, что главное предназначение принца в России «производить детей, но и на это он не настолько умен. Надобно только желать, чтобы дети, которые могут, пожалуй, от него родиться, были похожи не на него, а на мать», то есть на Анну Леопольдовну. Словом, вряд ли мог бедный Антон Ульрих рассчитывать на пылкую любовь молодой жены.
А драма самой Анны состояла в том, что она совершенно не годилась для ремесла королей, да ее к этому и не готовили. Кроме того, у нее отсутствовало множество качеств, для этого необходимых: трудолюбие, честолюбие, энергия, воля, умение понравиться подданным приветливостью или, наоборот, привести их в трепет грозным видом. Фельдмаршал Б. Х. Миних писал, что Анна «по природе своей… была ленива и никогда не появлялась в Кабинете [министров]; когда я приходил к ней утром с бумагами, составленными в Кабинете, или теми, которые требовали какой-либо резолюции, она, чувствуя свою неспособность, часто мне говорила: „Я хотела бы, чтобы мой сын был в таком возрасте, когда мог бы царствовать сам“».
Правительница Анна Леопольдовна
Далее Миних пишет то, что подтверждается другими источниками – письмами, мемуарами и даже портретами: «Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идучи к обедне, не носила фижм (дело, как читатель понимает, совершенно недопустимое! – Е. А.) и в таком виде появлялась публично за столом и после полудня за игрой в карты с избранными ею партнерами, которыми были принц – ее супруг, граф Линар – министр польского короля и фаворит великой княгини, маркиз де Ботта – министр Венского двора, ее доверенное лицо… господин Финч – английский посланник и мой брат (барон Х. В. Миних. – Е. А.)». Только в такой обстановке, дополняет Эрнст Миних, «бывала она свободна и весела в обхождении».
Эти вечера проходили за закрытыми дверями в апартаментах ближайшей подруги правительницы, ее фрейлины Юлианы (Юлии) Менгден, или, как ее презрительно звала Елизавета Петровна, Жулии, Жульки. Без этой «пригожей собою смуглянки» Анна не могла прожить и дня. Их отношения были необычайны. Как писал Финч, любовь Анны к Юлии «походила на самую пламенную любовь мужчины к женщине». Не хочется углубляться в сомнительные предположения на сей счет. Известно лишь, что было намерение поженить Линара и Юлию, которое не было осуществлено из-за переворота, хотя в августе 1741 года их успели обручить, и Анна подарила подруге несметное число драгоценностей и полностью обставленный дом. Цель этого брака состояла в том, чтобы замаскировать связь правительницы с Линаром. Многие наблюдатели сообщали, что значение Линара при Анне непрерывно возрастало. Французский посланник Шетарди получил из рук Елизаветы перехваченную ее людьми записку Линара к правительнице. Тон и содержание ее не оставляют сомнений относительно действительно огромного влияния саксонского посланника на Анну.
Осенью 1741 года Линар уехал в Дрезден, чтобы получить там отставку и стать при Анне Леопольдовне обер-камергером, то есть занять такую же должность, какую имел при Анне Иоанновне Бирон. По дороге назад, в Россию, он услышал о свержении Анны Леопольдовны и повернул обратно. И правильно сделал – не избежать бы ему испытания сибирскими морозами. Как бы то ни было, именно Юлия Менгден, посиживая у камина вместе с Анной за рукоделием (долгими вечерами подруги спарывали золотой позумент с камзолов низвергнутого Бирона), давала правительнице советы об управлении Россией. От этих советов провинциальной лифляндской барышни, имевшей колоссальное влияние на правительницу, у Остермана и других министров вставали волосы дыбом.
Вообще же Анна Леопольдовна была существом безобидным и добрым. Правда, как не без юмора писал Манштейн, правительница «любила делать добро, но вместе с тем не умела делать его кстати». Таким, как Анна, – наивным, простодушным и доверчивым – нет места в волчьей стае политиков, и рано или поздно они гибнут. Так произошло и с Анной. Получив достоверные сведения о готовящемся перевороте в пользу Елизаветы, она не нашла ничего лучшего, как рассказать об этом самой цесаревне, по-родственному ее пожурив и пригрозив взять под арест ее главное доверенное лицо – врача Лестока. Елизавете ничего не оставалось, как отбросить все мучившие ее сомнения и страхи и свергнуть свою родственницу.
Но это было в ноябре 1741 года, а до этого в течение целого года Россией правил император Иван VI, известный по его указам как Иоанн III Антонович (здесь, по-видимому, считались только цари; следовательно, Иваном I считался Иван IV Грозный – первый русский царь, а Иваном II – брат Петра Великого Иван V Алексеевич). Пройдем вслед за матерью к колыбели младенца-императора в опочивальне Зимнего дворца.
«Успел, к несчастью, родиться»
Что можно рассказать о младенце, ставшем самодержцем в возрасте 2 месяцев и 5 дней и свергнутом с престола в 1 год, 3 месяца и 13 дней? Ни многословные указы, им «подписанные», ни военные победы, одержанные «его» армией, сказать о нем ничего не могут. Младенец: он и есть младенец – лежит в колыбельке, спит или плачет, сосет молоко и пачкает пеленки. Сохранилась гравюра, на которой мы видим колыбель, окруженную аллегорическими фигурами Правосудия, Процветания, Науки. Прикрытый пышным одеялом, на нас сурово смотрит пухлощекий малыш. Вокруг его шейки обвита тяжеленная, как вериги, цепь ордена Андрея Первозванного – едва родившись, наследник стал кавалером высшего российского ордена. Что же, таков был удел Ивана Антоновича: всю свою жизнь, от первого дыхания до последнего, он провел в цепях.
Но вот единственный документ, который дает представление о подлинной жизни маленького Ивана, – описание императорских покоев. Пройдя через кабинет императора, покои для советников и секретарей, министерскую комнату, покой «для адмиралтейства», галерею, еще семь покоев, «большую залу и другую залу», мы попадем в опочивальню. Здесь всем командовала старшая мамка царя Анна Федоровна Юшкова, не отходившая от младенца ни на шаг. Ночевала она в соседней комнате, рядом жила и тщательно выбранная из множества кандидаток кормилица Катерина Иоанновна со своим сыном.
У царя были две дубовые колыбели, оклеенные «с лица парчею, а внутри тафтою зеленою», а в них клали «матрацы, подушечки, одеяльца, пуховички». Колыбели строил столярный мастер Партикулярной верфи Иоганн Шмит и употребил на это леса 33 пуда ценою на 7 рублей, 18 и 2/3 копейки. На маленьких скамеечках лежали подушечки, покрытые алым сукном. Не менее красивы были и «креселки» – малиновый бархат, золотой позумент. Стояли в опочивальне и «маленькие, высокие на колесцах кресла» – первый трон государя. Мебель, убранство комнат – все это были произведения искусства выдающихся мастеров, за работой наблюдали архитектор Растрелли и живописец Каравак. Особенно великолепными были вышитые обои. На них шел такой материал: серебро в нитках и шнурках, шелк разнообразный, гродетур, фланель, тафта, узкий и широкий позумент, как золотой, так и серебряный. Оконные и дверные занавеси подбирались в тон обоям, они могли быть зелеными, желтыми, малиновыми, и все непременно с позументом. Пол обивали сукном, красным или зеленым, заглушавшим все шумы и скрипы. До райской опочиваленки царя мог долетать лишь нежный перезвон часов, стоявших в дальних комнатах, да легкое шуршание платьев служанок и мамок, которые сдували каждую пылинку с младенца – повелителя империи.
Император Иван VI с матерью
Дошло до нас и описание «путешествия» императора из Летнего в Зимний дворец в субботу поутру 21 октября 1740 года, составленное Э. Финчем: «По дороге я встретил юного государя. Его величество сопровождал отряд гвардии, впереди ехали обер-гофмаршал и другой высший чин двора, камергеры шли пешком. Сам государь в карете лежал на коленях кормилицы, его сопровождала мать, великая княгиня Анна Леопольдовна. За их первой каретой ехало еще несколько, образуя поезд. Я немедленно остановил свой экипаж и вышел из него, чтобы поклониться Его Величеству и Ея Величеству».
Со слоненком подружиться
Да, у мальчика-императора такая возможность была. 10 октября 1741 года петербуржцы высыпали на улицу, чтобы поглазеть на невиданное зрелище, по сравнению с которым меркли все календарные празднества. В русскую столицу вступало посольство персидского шаха Надира Афшара. К этому времени он достиг вершины славы – к его ногам пала империя Великих Моголов. Разграбив Дели, он захватил добычи на 700 миллионов рупий. И вот частью ее шах решил поделиться с великой северной страной, воевавшей с турками, врагами Надира. При встрече с Анной Леопольдовной персидский посол сказал именно так: «Повелитель мой захотел поделиться отнятою у Великого Могола добычей с таким добрым союзником, каков российский император».
Император Иван Антонович. 1741 г.
Огромный красочный караван прошел по Невской першпективе. Посол в расшитых золотом одеждах гарцевал на великолепном скакуне, следом величественно вышагивали четырнадцать слонов, которые предназначались в подарок императору Ивану. Бесконечная вереница мулов и верблюдов тащила подарки и припасы. Но это было далеко не все посольство. Вступление персидского каравана в пределы империи у Астрахани поначалу вызвало панику в Петербурге – гигантское шестнадцатитысячное посольство весьма напоминало армию под прикрытием пальмовой ветви мира. С трудом удалось уговорить персов сократить посольство в четыре раза, но и так оно осталось огромным.
Но еще невероятнее были подарки – нет, сказочные дары! – персидского шаха: бесценные восточные ткани, сосуды, оружие и конская сбруя, усыпанные драгоценными камнями, редкостные алмазы. Вероятно, Анна Леопольдовна и девица Менгден забросили Бироновы позументы и перебирали эти камушки, гадая, сколько же дивных богатств у Надир-шаха в его столице Мешхеде.
Посольство Надира прибыло в Петербург уже после свержения Бирона. Любопытно, что за год до этого французский посланник Шетарди, узнав о назначении Бирона регентом, поразился похожести судеб этих двух людей, почти одногодков. До какого-то момента их жизненные пути совпадали просто удивительно. Надир – чужестранец в Персии, тюрк из племени афшаров, беглый раб из Хорезма – сумел полностью подчинить своему влиянию шаха Тахмаспа II Сефевида. Затем хитростью, силой и коварством он добился низложения своего повелителя и провозглашения шахом восьмимесячного сына Тахмаспа – Аббаса III. Надир стал при мальчике регентом. Но спустя четыре года он решил покончить с династией Сефевидов.
В 1736 году Надир собрал в Муганской степи большой курултай (собрание – до 20 тысяч человек) и предложил избрать нового шахиншаха: Аббас III – ребенок, а он, Надир, утомился от дел и хочет покоя. Это было притворство, и когда убили главу шиитского духовенства, который ратовал за сохранение династии Сефевидов, всем стало ясно, кто должен сесть на персидский престол. И хотя Надир заставил долго себя упрашивать, в конце концов он согласился взвалить на свои плечи эту ношу. Низложенного мальчика Аббаса III и его отца Тахмаспа II по приказу Надир-шаха умертвили. Так перестала существовать династия Сефевидов…
Забавно, но вскоре выяснилось, что Надир-шах прислал посольство для сватовства. До далекого Мешхеда докатилась слава о голубоглазой красавице цесаревне Елизавете Петровне, и, покорив Индию, Надир решил ослепить блеском золота и бриллиантов дочь Петра Великого. Но посланнику не удалось лицезреть ее огромных очей – Остерман не допустил. Цесаревна была в гневе и велела передать Андрею Ивановичу такие слова: «Он забывает, кто я и кто он сам – писец, ставший министром благодаря милости моего отца. Я же никогда не забуду, какие права предоставлены мне Богом и моим происхождением. Он может быть уверен, что ему ничего не будет прощено». И как мы уже знаем, не простила! Дело было не в том, что Елизавета рвалась в гарем Надир-шаха. Она рвалась к власти! Ее час приближался, она уже почувствовала свою силу, и это ясно проявилось в ее гневе.
«Швед вопиет: Ох мне, ах! Ох, мне страх!»
Наверняка этот известный петровский кант был популярен в Петербурге осенью 1741 года. 23 августа войска императора Ивана, врученные правительницей фельдмаршалу П. П. Ласси, наголову разгромили шведов генерала Врангеля под крепостью с труднопроизносимым для русских солдат названием Вильманстранд. (Хотя, думаю, солдаты-победители быстро приспособились, ведь называли же они Ревель – Левером, Шлиссельбург – Шлюшиным, а Ораниенбаум – Рамбовом.)
Швеция начала войну в конце июля 1741 года. Смерть Анны Иоанновны, свержение Бирона, а потом Миниха стали сигналом для реваншистов из Стокгольма. Они сочли момент удобным для того, чтобы попробовать вернуть себе Восточную Прибалтику, пересмотрев тем самым Ништадтский мир 1721 года. Швеция выставила три главные причины войны: убийство русскими шведского дипкурьера барона Синклера, отказ их посылать хлеб в Швецию и, наконец, война была объявлена освободительной. В шведском манифесте говорилось: «Намерение короля шведского состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании…»
Таким образом, как видит читатель, имелось в виду освобождение России от иноземного засилья! Командовавшие русскими солдатами генералы – немцы, англичане, шотландцы Кейт, Икскюль, Стоффельн, Фермор, Альбрехт – под началом Ласси, по-видимому, о благородной цели шведов не знали и делали свое дело, как всегда, профессионально, быстро и решительно. Совершив стремительный марш от Выборга навстречу шведской армии, к ночи 23 августа были под стенами Вильманстранда, где и разбили бивуаки. Несколько пуль (правда, по ошибке своих) насквозь пробили палатку, в которой невозмутимо спал Петр Петрович Ласси, «хоть и иноземец, но человек добрый», как говорили о нем солдаты.
Утром русские войска, преодолев сильно пересеченную местность, атаковали шведскую армию, а потом ворвались в крепость. Большая часть шведов погибла в сражении. Их командующий генерал Врангель и больше тысячи солдат и офицеров попали в плен. В русской армии были убиты генерал Икскюль, полковники Ломан, Бельмен, ранены генералы Альбрехт, Стоффельн, полковники Манштейн и Левашов. Общие потери шведов составили четыре с половиной тысячи из пяти тысяч трехсот участников битвы, а у русских меньше – две тысячи человек из десяти.
Для русской армии это был тяжелейший поход. Манштейн вспоминал: «Когда подумаешь о выгодах позиции, занимаемой шведами, и о неудобной местности, по которой русские должны были подходить к ним, то становится удивительным, что шведы были тут разбиты». Особая тяжесть легла на два гренадерских полка, которые атаковали неприятельскую батарею. Манштейн писал: «Так как место было тут чрезвычайно узкое и из леса, находившегося перед русскими, нельзя было выйти иначе как фрунтом только в две роты, приходилось спускаться по крутому оврагу и подыматься на гору в виду неприятеля и под чрезвычайно сильной его пушечной и ружейной пальбою, – то эти два полка были приведены в замешательство и отступили». Кейт приказал Астраханскому и Ингерманландскому полкам атаковать шведов и «это приказание было исполнено быстро и так счастливо, что после первого залпа, сделанного в 60 шагах от шведов, последние обратились в бегство и побежали прямо к городу, куда последовали за ними оба полка».
По мнению иностранца, русские солдаты вновь подтвердили свою блестящую репутацию. Саксонский посланник Зум писал накануне войны: «В оборонительной войне я считаю это государство непобедимым… Русский тотчас становится солдатом, как только его вооружают. Его с уверенностью можно вести на всякое дело, ибо его повиновение слепо и вне всякого сравнения. Он довольствуется плохою и скудною пищею. Он кажется нарочито рожден для громадных военных предприятий».
Победа над шведским львом была яркая, неожиданная, ее отмечали в Петербурге очень торжественно. Император был уже грозен для врагов! М. В. Ломоносов, после одобренной властями оды на взятие Минихом турецкой крепости Хотин в 1739 году, поспешил отличиться и на этот раз:
- Российских войск хвала растет,
- Сердца продерзки страх трясет,
- Младый орел уж льва терзает!
Из-за границы хорошего не насоветуют
Казалось, что победа над шведами, подтвердившая могущество России, укрепит власть Анны Леопольдовны и внутри страны. На это рассчитывал А. И. Остерман – руководитель правительства. Он составил пространное «Мнение о состоянии и потребностях России», которое можно рассматривать как инструкцию для начинающей правительницы. Кроме советов об экономии расходов, взимании недоимок, содержании флота, составлении свода законов хитроумный Андрей Иванович дает детальные советы, как прийти «к облегчению бремени правления». Он исподволь приучает правительницу Анну к мысли о необходимости совещаться с министрами, и особенно с ним. «Поелику, – пишет вице-канцлер, – государь не может быть без министров и слуг, то справедливость того требует, чтоб доверенность между государем и рабом была взаимна и совершенна».
Сладкие речи Остермана не особенно убаюкивали Анну Леопольдовну – она слушала и его противников. А они, в первую очередь министр Михаил Головкин и обер-прокурор Сената Иван Брылкин, советовали ей немедленно провозгласить себя императрицей, приняв всю полноту власти. Анна соглашалась с этими советами, и была даже назначена дата провозглашения императрицей Анны II – 7 декабря 1741 года, в день, когда ей исполнялось двадцать три года.
Но ничего не вышло, и свое двадцатитрехлетие Анна встретила в томительном путешествии под конвоем на дороге от Нарвы к Риге, и уже никогда в день ее рождения в столице не палили пушки и не зажигали фейерверки. Мы не знаем теперь, какой императрицей была бы Анна Леопольдовна. Может быть, возложив себе на голову корону, она бы изменилась – обстоятельства бы заставили. Ведь произошла же метаморфоза с австрийской эрцгерцогиней, а потом императрицей Марией-Терезией. Почти ровесница Анны (родилась в 1717 году), она в 1740 году унаследовала престол после смерти своего отца Карла VI и сразу же была вынуждена начать отчаянную борьбу против множества врагов, мечтавших оторвать от империи кусок пожирнее, захватить ее трон. Самым опасным врагом был прусский король Фридрих II, сумевший завладеть Силезией. Но все же молодая, неопытная Мария-Терезия оказалась достойной своего предназначения и сумела не только сохранить империю, но и упрочить ее положение в мире. Она собрала вокруг себя выдающихся людей – графа В. Кауница, графа Гаугвица, графа Хотека и других, провела реформы – административные, судебные, финансовые, которые обеспечили безбедное существование империи на долгие десятилетия. Хорошим помощником императрицы оказался ее муж Франц Стефан Лотарингский, а потом и сын Иосиф II, ее соправитель и преемник, родившийся всего лишь на несколько месяцев позже Ивана Антоновича…
К ноябрю 1741 года в окружении Елизаветы окончательно сложился замысел свержения Ивана и его матери. Уже давно цесаревна, пользуясь симпатией гвардии, с помощью французского и шведского посланников плела антигосударственный заговор. Но «плетение» это было довольно грубое, и многие знали о намерениях дочери Петра Великого. По разным каналам правительство стало получать известия о действиях заговорщиков и их зарубежных покровителей.
Самое серьезное предупреждение пришло из Лондона весной 1741 года. Читая послание статс-секретаря лорда В. Гаррингтона русскому правительству, удивляешься точности информации, в нем содержащейся, ясности и недвусмысленности каждой фразы текста. Такие бумаги готовят только профессионалы высочайшего уровня: «В секретной комиссии шведского сейма решено немедленно стянуть войска, расположенные в Финляндии, усилить их из Швеции… Франция для поддержки этих замыслов обязалась выплатить два миллиона крон. На эти предприятия комиссия ободрена и подвигнута известием, полученным от шведского посла в Санкт-Петербурге Нолькена, будто в России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой княжны Елизаветы Петровны… Нолькен также пишет, что весь этот план задуман и окончательно улажен между ним и агентами великой княжны и при помощи французского посла маркиза де ла Шетарди, что все переговоры между ними и великой княжной велись через француза-хирурга (Лестока. – Е. А.), состоящего при ней с самого детства».
Английский посол Финч вручил послание правительства Его Величества короля Георга II Остерману и Антону Ульриху. Оба государственных мужа благодарили, кивали, соглашались, но фактически ничего не сделали. Как известно, в нашей стране никогда и в грош не ставили дружеские предупреждения из-за границы о готовящихся мятежах, войнах, заговорах. Да и мудрый Остерман, вероятно, искренне не верил, что эта изнеженная и капризная красавица, прожигательница жизни способна на такое мужское, в стиле Миниха, предприятие – переворот. Нет, глупости! Но все оказалось не так, как предполагал Остерман. Напуганная откровениями простодушной Анны, в ночь на 25 ноября 1741 года Елизавета решилась: она надела кирасу, поехала в казарму преображенцев и затем… захватила Зимний.
«Ах, мы пропали!»
Анна Леопольдовна проснулась от шума и грохота солдатских сапог. За ней пришли. Есть две версии ареста Брауншвейгской фамилии. По первой, Елизавета вошла в спальню правительницы и разбудила ее словами: «Сестрица, пора вставать!» В постели рядом с Анной лежала Жулька. По другой, более правдоподобной версии, цесаревна, убедившись, что дворец блокирован, послала отряд гренадер на второй этаж арестовывать правительницу, а сама дожидалась внизу «благополучной резолюции и виктории». Ведь встречаться с племянницей Елизавете вряд ли хотелось.
Увидев солдат, Анна вскричала: «Ах, мы пропали!» По всем источникам видно, что сопротивления она не оказывала, безропотно оделась, села в приготовленные сани и позволила отвезти себя во дворец Елизаветы, что стоял у Марсова поля. Один из современников рассказывает о скверном предзнаменовании: незадолго до переворота при встрече с Елизаветой правительница оступилась и на глазах присутствующих упала перед ней на колени. Предзнаменование сбылось. Антону Ульриху одеться не позволили и полуголого снесли вниз, к саням. Надо полагать, что это было сделано умышленно: подобным же образом поступили и с Бироном, а затем с его братом Густавом. Расчет был прост – без мундира и штанов не очень-то покомандуешь, будь ты хоть генералиссимус.
Не все обошлось гладко при «аресте» годовалого императора. Солдатам был дан приказ взять ребенка, но лишь дождавшись, когда он проснется. Так около часа они и простояли молча у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде свирепых физиономий гренадеров. В суматохе сборов в опочивальне уронили на пол четырехмесячную сестру царя, Екатерину. Она, как выяснилось потом, из-за этого потеряла слух. Но на эти мелочи никто не обращал внимания. Ивана бережно перевезли к Елизавете, и она, взяв его на руки, якобы сказала: «Малютка, ты ни в чем не виноват!» Она крепко прижимала к груди этого ребенка – свой приз, своего врага, свою судьбу.
Хотя Елизавета захватила власть, положение ее было крайне неустойчиво: она не имела поддержки среди знати, были поначалу сомнения в верности армии и гвардии (ведь за ней пошло всего триста солдат и ни одного офицера). Неясно было, что же делать с императором и его родителями. Переворот получился бескровным, не было никакого штурма дворца, при котором могли бы якобы случайно погибнуть члены Брауншвейгской фамилии.
Елизавета понимала, что она узурпатор, ибо, захватив власть, она свергла законного императора, получившего трон по завещанию Анны Иоанновны, составленному согласно петровскому Уставу о наследии престола 1722 года. Не имела Елизавета прав на престол и по Тестаменту 1727 года Екатерины I, своей матери. Это завещание открывало дорогу к трону не Елизавете, а ее племяннику – сыну ее старшей сестры Анны, герцогу Голштинскому Карлу Петеру Ульриху, которому было в ту пору тринадцать лет. Не могла Елизавета не учитывать и тесных связей Антона Ульриха с правящими домами Европы: одна его сестра была замужем за прусским королем Фридрихом II, другая – за датским королем Христианом VI.
Раздумья новой императрицы были недолги. 28 ноября огласили манифест о высылке свергнутого императора, его сестры и родителей за границу, в столицу Курляндии, что было связано исключительно с «особливой природной милостью» Елизаветы, ее желанием, как она сказала Шетарди, «заплатить добром за зло». В чем же состояло зло, причиненное крошечным мальчиком своей троюродной бабушке, – об этом никто не говорил. В ту же ночь, в два часа, санный обоз с большим конвоем под командой генерал-полицмейстера В. Ф. Салтыкова по рижской дороге поспешно покинул Санкт-Петербург.
Ранненбург или Оренбург – не все ли им равно?
Перед отъездом Салтыков получил инструкцию, согласно которой экс-императора надлежало везти как можно быстрее через Нарву, Дерпт, Ригу до Митавы, оказывая «их светлостям должное почтение, респект (уважение. – Е. А.) и учтивость». Не успел поезд из многих крытых возков отъехать от Петербурга, как Салтыков одну за другой получил две новые инструкции, требовавшие от него совершенно противоположного: «Ради некоторых обстоятельств то (то есть быстрая езда до Митавы. – Е. А.) отменяется, а имеете вы путь ваш продолжать как возможно тише и держать роздыхи на одном месте дни по два», а в Нарве – не менее восьми – десяти дней и, доехав до Риги, ждать указа.
«Некоторые обстоятельства» заключались в том, что Елизавета пожалела о своем великодушном поступке. Более опытные ее сподвижники вопрошали: «А не произойдет ли какого замешания, когда император Иван окажется в чужих краях?» К тому же Елизавета опасалась, как бы отец Антона Ульриха герцог Брауншвейгский вместе с герцогом Мекленбургским, родным дядей Анны Леопольдовны, не воспрепятствовали проезду через их владения герцога Голштинского Карла Петера Ульриха, выписанного императрицей в Россию примерно в то же время. К тому же прусская королева Елизавета Христина – жена Фридриха II – была, как уже говорилось, сестрой Антона Ульриха.
Словом, Елизавете Петровне нужны были заложники. Вероятно, вскоре у нее созрело желание вообще оставить в России брауншвейгское семейство – иначе непонятно, зачем в Риге Анну Леопольдовну заставили присягнуть на верность Елизавете за себя и за детей. В присяге говорилось: «Хочу и должен Е. И. В… верным, добрым и послушным рабом и подданным быть». Короче говоря, на них продолжали смотреть как на российских подданных.
Постепенно режим содержания семьи начали ужесточать: строго следили за возможными контактами, перепиской. От «респекта и учтивости» не осталось и следа. В конце 1742 года всех арестантов перевели в Динамюнде – неприступную крепость на Даугаве. Стало окончательно ясно, что клетка захлопнулась навсегда. В январе 1744 года Салтыков получил указ отправить всю семью в глубь России – в Ранненбург (ныне Чаплыгин Липецкой области), причем «отписать, в сердитом или в довольном виде принцесса и муж ее явились при отправлении из Динамюнде». Генерал-полицмейстер сообщал, что когда члены семьи увидели, что их намереваются рассадить по нескольким повозкам, то «с четверть часа поплакали». Они, вероятно, думали, что их хотят разлучить.
Начальник конвоя капитан М. Д. Вындомский по ошибке повез арестантов не в Ранненбург, а в Оренбург (известно, что география – наука не дворянская!), и только в дороге маршрут был уточнен. Ранненбург был городом-крепостью, который Меншиков создал для себя. Отсюда осенью 1727 года он отправился дальше на восток – в Сибирь. Теперь пришла очередь Брауншвейгской фамилии – ее недолго держали в Ранненбурге. В конце августа 1744 года сюда прибыл личный посланник императрицы, майор гвардии Н. А. Корф с секретным указом…
Совершенное отчаяние
Корф должен был ночью отнять у родителей Ивана Антоновича и передать его капитану Миллеру, которому приказали везти четырехлетнего малыша в закрытом возке на Соловки, никому его не показывая и не выпуская из возка ни на минуту. Особо примечательно, что Миллер должен был называть мальчика новым именем – Григорий. Не было ли в этом намека на Лжедмитрия I – Григория Отрепьева?
Корф, судя по его письмам, не был тупым служакой-исполнителем. Он, понимая, что его руками делается недоброе дело, запрашивал, как поступить с ребенком, если он будет «неспокоен разлучением с родителями». Корфу жестко предписали из Петербурга: «Поступать по указу!» Второй запрос Корфа был о ближайшей подруге правительницы – Юлии Менгден. Он писал: «Если разлучить принцессу с ее фрейлиной, то она впадет в совершенное отчаяние». В столице оказались глухи к доброте Корфа – ему повелели немедленно отвезти арестованных на Соловки, а Менгден оставить в Ранненбурге. Что пережила Анна, когда ее разлучили с болевшим тогда сыном, и особенно с Юлией, трудно представить. Ведь, уезжая из Петербурга, Анна в ответ на обещание императрицы исполнить ее желание, попросила: «Не разлучайте с Юлией!» Скрепя сердце Елизавета тогда дала согласие. И вот теперь она его отменила.
Корф докладывал, что известие о разлучении подруг, о предстоящем путешествии, как они полагали – в Сибирь, всех как громом поразило. «Эта новость повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состояние принцессы (она была беременна. – Е. А.), они отвечали, что готовы исполнить волю государыни». По раскисшим осенним дорогам, в непогоду, холод и снег арестантов отправили в путь.
Император Иван Антонович с фрейлиной Юлианой фон Менгден
Вся эта издевательская жестокость скорее всего не была продиктована государственной необходимостью или опасностью, исходившей от арестантов. Здесь отчетливо видны пристрастия Елизаветы. Именно ненавистью дышит письмо императрицы к Корфу в марте 1745 года, когда Юлию и Анну уже разделяли сотни верст: «Спроси Анну, кому розданы алмазные вещи ее, из которых многие не оказываются [в наличии]. А ежели она, Анна, запираться станет, что не отдавала никому никаких алмазов, то скажи, что я принуждена буду Жульку розыскивать (то есть пытать. – Е. А.), то ежели ей жаль, то она ее до того мучения не допустит».
Раньше Елизавета так же долго терзала Анну вопросами о каком-то драгоценном опахале с красными камнями и бриллиантами, которое она не может никак найти. Предвзятость императрицы видна и в письме к Салтыкову от 1 октября 1742 года. «Господин генерал! – писала она. – Уведомились мы, что принцесса Анна вас бранит», – и требовала разобраться. Василий Федорович отвечал: «У принцессы я каждый день поутру бываю, токмо кроме ея учтивства никаких противностей, как персонально, так и чрез… офицеров ничего не слыхал, а когда ей что потребно, о том с почтением меня просит». Надо полагать, ответ Салтыкова не понравился Елизавете – ее ревнивой злобе не было предела.
Брауншвейгская семья ехала почти два с половиной месяца, но дальше Шенкурска возки из-за бездорожья продвинуться не смогли. Корф взмолился: нужно прекратить это немыслимое путешествие и хотя бы на зиму поселить арестантов, например, в Холмогорах, в пустующем архиерейском доме. Елизавета с неохотой согласилась. Весной следующего года решили, что Холмогоры будут не хуже, вернее, не лучше Соловков, и узников оставили в архиерейском доме. Началось долгое-долгое холмогорское заточение.
«Известная особа», ставшая в гробу «благоверной принцессой»
Анна Леопольдовна недолго прожила в Холмогорах. Она приехала туда с мужем и двумя дочерьми, Екатериной и Елизаветой, родившейся в 1743 году в Динамюндской крепости. 19 марта 1745 года Анна родила сына Петра, а 27 февраля 1746 года – Алексея. Появление на свет принцев радости у императрицы, понятно, не вызвало. Получив рапорт о рождении Алексея, Елизавета «изволила, прочитав, оный рапорт разодрать».
Понять раздражение Елизаветы можно, ведь согласно указу, подписанному Анной Иоанновной перед смертью, в случае если Иван «прежде возраста своего и не оставя по себе законнорожденных наследников преставится», престол должен был перейти к «первому по нем принцу, брату его от нашей любезной племянницы… Анны и от светлейшего принца Антона Ульриха, а в случае и его преставления» – к другим законным, «из того же супружества рождаемым принцам». Кроме того, сразу же после рождения 26 июля 1741 года принцессы Екатерины Антоновны был издан манифест, распространявший норму этого указа и на детей женского пола.
Рождение детей бывшей правительницы тщательно скрывали, коменданту их тюрьмы запрещалось даже упоминать о детях и «какого полу они». Даже после кончины Анны Елизавета, потребовав от принца сообщить подробности о смерти жены, предупреждала, чтобы он конспирации ради «только писал, какою болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца». Но, как часто бывало в России, о принцах можно было узнать уже на холмогорском базаре, о чем свидетельствуют многие документы. И слухи эти, весьма сочувственные к узникам, широко расходились по сотням других базаров и торжков – нельзя же забывать, что всероссийский рынок к этому времени если не сложился, то, несомненно, складывался вполне успешно.
Следом за рапортом о рождении принца Алексея, так огорчившем Елизавету, в столицу пришло известие о последовавшей 7 марта 1746 года смерти Анны от послеродовой горячки. В официальных документах для сохранения тайны была указана иная болезнь – «огневица», то есть жар, общее воспаление. Комендант Гурьев должен был действовать по присланной еще весной 1745 года инструкции: «Ежели, по воле Божией, случится иногда из известных персон кому смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положа в спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером».
18 марта поручик Писарев доставил тело правительницы в Петербург, точнее, в Александро-Невский монастырь. В официальном извещении о смерти Анны Леопольдовны она была названа «благоверною принцессою Анною Брауншвейг-Люнебургскою». Титула правительницы-государыни, великой княгини за ней не признавали, равно как и титула императора за ее сыном. В служебных документах чаще они упоминались как безымянные «известные особы». И вот Анна после смерти стала «благоверной принцессой».
Хоронили ее как второстепенного члена семьи Романовых. На утро 21 марта были назначены панихида и погребение. В Александро-Невский монастырь съехались все знатнейшие чины государства – всем хотелось взглянуть на эту женщину, о драматической судьбе которой было так много слухов и пересудов. Говорят, что, стоя у гроба Анны, Елизавета всплакнула. Может быть, эти слезы и не были притворными – грех есть грех.
Анну Леопольдовну предали земле в Благовещенской церкви, где ранее похоронили ее бабушку Прасковью Федоровну и мать Екатерину Иоанновну. До сих пор сохранилась белая мраморная плита над ее гробницей. Так 21 марта 1746 года три женщины, связанные родством и любовью друг к другу – царица Прасковья, «Катюшка-свет» и несчастная Анна Леопольдовна, – соединились навек в одной могиле.
«Он возбуждал к себе сострадание»
Умирая в архиерейском доме в Холмогорах, Анна не ведала, что ее первенец уже целый год живет с ней рядом, за глухой стеной. Мы не знаем, как капитан Миллер вез мальчика и что он отвечал ребенку, отнятому у родителей, все эти долгие недели, которые они провели в одном возке, но известно, что Ивана Антоновича привезли в Холмогоры втайне от семьи и поселили в изолированной части дома. Вероятно, комната-камера Ивана была устроена так, что никто, кроме Миллера и его слуги, пройти к императору не мог. Содержали его строго. Миллер запрашивал Петербург: «Когда жена к нему [Миллеру] приедет, допускать ли [ее] младенца видеть?» В этом было отказано. Ивану, по-видимому, так и было суждено за всю оставшуюся жизнь не увидеть ни одной женщины, кроме двух императриц – Елизаветы и Екатерины II.
Многие факты говорят о том, что, разлученный с родителями в четырехлетнем возрасте, Иван был нормальным, резвым мальчиком. Нет сомнения и в том, что он знал, кто он такой. Примечательно письмо Елизаветы к охранявшему арестантов в Динамюнде В. Ф. Салтыкову от 11 ноября 1742 года (ребенку в это время два года): «Господин генерал! Уведомились мы, что… принц Иоанн, играючи с собачкою, бьет ее по лбу, а как его спросят: „Кому-де, батюшка, голову отсекаешь?“, то он ответствует, что Василью Федоровичу». Полковник Чертов, готовивший на Соловках узилище для мальчика, получил инструкцию наблюдать за Иваном, чтобы «в двери не ушел или от резвости в окошко не выскочил». Позже, уже в 1759 году, то есть когда Иван сидел в Шлиссельбурге, офицер Овцын рапортовал, что узник называл себя императором и говорил: «Никого не слушаюсь, разве сама императрица прикажет».
Рассказывают также о многочасовой беседе Ивана с Петром III в 1762 году. Когда император спросил экс-императора: «Кто ты таков?», тот отвечал: «Император Иоанн». «Кто внушил тебе эти мысли?» – продолжал Петр. «Мои родители и солдаты», – отвечал узник, который помнил мать и отца и рассказал об офицере Корфе, который был с ним добр и даже разрешал ходить на прогулку.
Все это говорит о том, что Иван вовсе не был дебилом, идиотом, как его порой изображают. Значит, его детство, отрочество, юность, проведенные в холмогорском заточении, были подлинной пыткой, страшным мучением. Вероятно, сидя в темнице, он слышал лишь шумы за стенами своей комнаты, видел лишь своих тюремщиков – коменданта архиерейского дома и его служителя, которые почему-то называли его Григорием и не отвечали ни на один вопрос, обращаясь с ним грубо и бесцеремонно. Сохранилось упоминание о деле по поводу «учиненных человеком его (то есть Миллера. – Е. А.) младенцу продерзостях».
Конечно, Елизавета была бы рада узнать, что тело ее соперника везут в Петербург. Врач императрицы Лесток авторитетно говорил в феврале 1742 года французскому посланнику Шетарди, что Иван мал не по возрасту и что он «должен неминуемо умереть при первом серьезном нездоровье». Но природа оказалась гуманнее царицы – она дала младенцу возможность выжить. В 1748 году у восьмилетнего мальчика начались оспа и корь. Комендант, видя всю тяжесть его состояния, запросил Петербург, можно ли допустить к ребенку врача, а если будет умирать, то и священника. Ответ был недвусмысленный: допустить можно, но только монаха и только в последний час для приобщения Святых Тайн. Иначе говоря – не лечить, пусть умирает!
Один из современников, видевший Ивана, когда тому было больше двадцати лет, писал: «Иоанн был очень белокур, даже рыж, роста среднего, очень бел лицом, с орлиным носом, имел большие глаза и заикался. Разум его был поврежден, он говорил, что Иоанн умер, а он же сам – Святой Дух. Он возбуждал к себе сострадание, одет был худо». О «повреждении разума» скажем чуть ниже особо, а сейчас отметим, что Иван прожил в Холмогорах до начала 1756 года, когда неожиданно, глухой ночью, его – тогда пятнадцатилетнего юношу – вывезли в Шлиссельбург, а в Холмогорах солдатам и офицерам приказали усилить надзор за Антоном Ульрихом и его детьми – «смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки».
Последствия аудиенции сибирского мужика в Сан-Суси
Обстоятельства, сопровождавшие поспешный перевод секретного узника в Шлиссельбург, до сих пор остаются таинственными. Летом 1755 года на русско-польской границе был пойман некто Иван Зубарев, тобольский посадский, беглый преступник. Он дал такие показания, что его делом стали заниматься первейшие чины империи. Зубарев рассказал, что он, бежав из-под стражи за границу, оказался в Кенигсберге. Здесь его пытались завербовать в прусскую армию, а затем он попал в руки известного нам адъютанта Манштейна, который к этому времени стал генерал-адъютантом короля Фридриха II. Манштейн повез Зубарева в Берлин, а потом в Потсдам. По дороге его познакомили с принцем Фердинандом, братом Антона Ульриха, видным полководцем Фридриха II. Этот принц уговорил его пробраться в Холмогоры и известить Антона Ульриха о том, что весной 1756 года к Архангельску придут «под видом купечества» военные корабли и попытаются «скрасть Ивана Антоновича и отца его». Зубарева якобы познакомили и с капитаном – начальником предстоящей экспедиции.
Кроме того, Зубарев должен был возбудить к возмущению раскольников, прельщая их именем царя Ивана. Как рассказывал Зубарев, Манштейн говорил: «А как-де мы Ивана Антоновича скрадем, то уж тогда чрез… старцов сделаем бунт, чтобы возвести Ивана Антоновича на престол, ибо-де Иван Антонович старую верулюбит».
Через два дня тобольскому посадскому во дворце Сан-Суси дал аудиенцию сам Фридрих II, наградивший его деньгами и чином полковника. После этого Манштейн, снабдив Зубарева золотом и специальными медалями, которые мог узнать Антон Ульрих, отправил его через польскую границу. В Варшаве тот посетил прусского посланника и, заручившись его поддержкой, двинулся через русскую границу, при переходе которой и попался.
История, рассказанная Зубаревым, отчаянным авантюристом и проходимцем, загадочна. Наряду с совершенно фантастическими подробностями своего пребывания в Пруссии он приводит сведения абсолютно достоверные, говорящие о том, что, возможно, сибиряк побывал-таки во дворце Сан-Суси. К тому же настораживает, что постоянным героем его рассказов, организатором всей авантюры выступает Манштейн. Это чрезвычайно важно. Как только Елизавета взошла на престол, Манштейн уехал в Пруссию и поступил на королевскую службу. Дело это по тем временам было обычным. Но русское правительство настойчиво требовало возвращения Манштейна, а потом суд заочно приговорил его к смертной казни за дезертирство. Между тем бывший адъютант Миниха сделал карьеру у Фридриха, став его главным советником по русским делам.
Примечательно, что Зубарев рассказал и о встрече с фельдмаршалом Кейтом, который, как и Манштейн, долго служил в России, а потом тоже перешел на службу к Фридриху II. Отбрасывая явные домыслы Зубарева об Иване Антоновиче – «царе старообрядцев», в которых отразились слухи, ходившие в народе о заточенном в темницу императоре, пострадавшем «за старую веру», мы можем предположить, что с помощью Зубарева Фридрих II задумал освободить своих родственников из заточения.
Возможно, что весь этот план был предложен пруссакам самим авантюристом Зубаревым. Один из свидетелей по делу показал, что Зубарев, приехав с товарищами в Кенигсберг, спросил у прусских солдат, где находится ратуша, а потом сказал: «Прощайте, братцы, запишусь я в жолнеры (солдаты. – Е. А.) и буду просить, чтоб меня повели к самому прусскому королю: мне до него, короля, есть нужда!» Думаю, эта-то нужда и привела Зубарева на аудиенцию в Сан-Суси. И Манштейн, а за ним и Фридрих II решили рискнуть деньгами – вдруг замысел освободить брауншвейгскую фамилию осуществится?
Но дело Зубарева все равно остается темным. Следственные материалы о нем резко обрываются, и нет никаких сведений о наказании авантюриста. Впрочем, уже в наше время стало известно, что после всех описанных событий в Тобольске всплыл некий дворянин Зубарев и зажил своим домком. Возможно, что вся эта история была хорошо устроенной провокацией. Слухи о симпатиях дворянства к Ивану достигали ушей Елизаветы, и в ее окружении было решено спровоцировать заграничных родственников опального царя на какие-то действия. А это могло, по мысли властей, заставить проявить себя и сторонников Ивана внутри России. Известно дело некоего Зимнинского в Тайной канцелярии. Он признался, что говорил: «Дай-де Бог страдальцам нашим счастья и для того многие партии его (Ивана. – Е. А.) держат… а особливо старое дворянство все головою». Известно также, что в Берлин посылали из России некоего «надежного человека». Все это наводит на мысль, что Зубарев действовал по заданию властей и потом в награду получил дворянство, которого прежде тщетно добивался.
Как бы то ни было, 26 января 1756 года комендант архиерейского дома получил указ немедленно и тайно вывезти Ивана в Шлиссельбург, причем предписывалось, «чтобы не подать вида о вывозе арестанта… накрепко подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе арестанта, чтобы никому не сказывали».
Несчастнейшая из человеческих жизней
Иван Антонович прожил в Шлиссельбурге в особой казарме под присмотром специальной команды еще восемь лет. Можно не сомневаться, что его существование вызывало постоянную головную боль у трех сменивших друг друга властителей. Свергнув малыша в 1741 году, Елизавета взяла на свою душу этот грех. Но умирая, она передала его Петру III, а тот – своей жене-злодейке Екатерине II. И что делать с этим человеком, не знал никто.
Слухи о жизни Ивана Антоновича в темнице, о его мученичестве «за истинную веру» не исчезали в народе и вызывали серьезное беспокойство властей. Известно, что однажды, в 1756 году, Ивана привезли в Петербург, в дом Ивана Шувалова, где Елизавета увидела его впервые за пятнадцать лет. В марте 1762 года Петр III ездил в Шлиссельбург и разговаривал с узником. Вскоре после своего вступления на престол, в августе 1762 года, приезжала к нему и Екатерина II.
Этому визиту предшествовала довольно любопытная история. 29 июня 1762 года, на следующий день после свержения Петра III, Екатерина распорядилась вывезти Ивана Антоновича, названного в указе «безымянным колодником», в Кексгольм, а в Шлиссельбурге срочно «очистить самые лучшие покои и прибрать по известной мере по лучшей опрятности». Нетрудно понять, что у Екатерины было намерение поместить в Шлиссельбурге нового узника, очередного экс-императора, Петра III. Майор Силин в начале июля вывез Ивана на барке, но бурная Ладога проявила свой нрав – в тридцати верстах от Шлиссельбурга судно разбилось, узник и конвой едва спаслись, пришлось вернуться в крепость. Тут как раз произошло убийство свергнутого императора в Ропше, и везти его нужно было не в Шлиссельбург, а в Александро-Невский монастырь – в усыпальницу.
Но Екатерина об Иване Антоновиче не забывала. Она хотела найти ему место поглуше и поспокойнее. Императрица писала своему ближайшему советнику графу Никите Ивановичу Панину: «Главное, чтоб из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался, только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкой и в не весьма отдаленный монастырь, особенно где богомолья нет», – например, в Муромских лесах, в Новгородской епархии или в Коле, то есть на Кольском полуострове. Но осуществить этот замысел не удалось.
Нет сомнения, что Иван производил тяжелое впечатление на своих высоких визитеров. Он был, как писали охранявшие его капитан Власьев и поручик Чекин, «косноязычен до такой степени, что даже и те, кои непрестанно видели и слышали его, с трудом могли его понимать. Для сделания выговариваемых им слов хоть несколько вразумительными он принужден был поддерживать рукою подбородок и поднимать его кверху». И далее тюремщики пишут: «Умственные способности его были расстроены, он не имел ни малейшей памяти, никакого ни о чем понятия, ни о радости, ни о горести, ни особенной к чему-либо склонности». В манифесте о смерти Ивана Екатерина тоже утверждает: «С чувствительностью Нашею [Мы] увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого».
Важно заметить, что сведения о сумасшествии Ивана идут от офицеров охраны и их начальников. И те и другие были небольшими специалистами в психиатрии. Английский посланник писал в 1764 году о секретной беседе с графом Паниным, который только для него (и соответственно – для английского правительства) «раскрыл тайну» бывшего императора: «Ему случалось в разные времена видеть принца… он всегда находил его рассудок совершенно расстроенным, а мысли его вполне спутанными и без малейших определенных представлений. Это совпадает с общим мнением о нем, но сильно расходится с отзывом, слышанным мною насчет подробного свидания его с покойным императором [Петром III]. Государь этот… заметил, что разговор его был не только рассудителен, но даже оживлен». В самом деле, разговор Ивана Антоновича с Петром III, изложенный выше, не свидетельствует в пользу версии об узнике-безумце.
Представить Ивана сумасшедшим было выгодно власти. С одной стороны, это оправдывало суровость его содержания – ведь тогда психически больных за людей не признавали и держали в тесных «чуланах» на цепях или в дальних монастырях. С другой стороны, это в какой-то степени оправдывало его убийство: психически больной себя не контролирует и легко может стать игрушкой в руках авантюристов. Конечно, сомневаясь в компетентности и объективности тюремщиков, Панина, Екатерины II, мы должны помнить, что двадцатилетнее заключение не могло способствовать развитию личности ребенка. Для личности Ивана одиночество и то, что врачи называют «педагогической запущенностью», оказались губительны. Скорее всего, он не был ни идиотом, ни сумасшедшим, каким представляет его официальная версия властей. Его жизненный опыт был деформированным и дефектным.
В доказательство безумия Ивана тюремщики пишут о его неадекватной, по их мнению, реакции на действия охраны: «В июне [1759 года] припадки приняли буйный характер: больной кричал на караульных, бранился с ними, покушался драться, кривлял рот, замахивался на офицеров». Между тем известно, что офицеры охраны наказывали его – лишали чая, теплых вещей, наверно, и бивали втихомолку за строптивость и уж наверняка дразнили, как собаку. Об этом есть сообщение офицера Овцына, писавшего в апреле 1760 года: «Арестант здоров и временем безпокоен, а до того его доводят офицеры (охранники Власьев и Чекин. – Е. А.), всегда его дразнят». Для Ивана охранники были мучителями, которых он ненавидел, и его брань была естественной реакцией психически нормального человека.
«Положение Ивана было ужасно, – пишет современник. – Небольшие окна его каземата были закрыты, дневной свет не проникал сквозь них, свечи горели непрестанно, с наружной стороны темницы находился караул. Не имея при себе часов, арестант не знал время дня и ночи. Он не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли его не всегда были в порядке».
К этому можно еще добавить отрывок из инструкции коменданту, которую составил в 1756 году начальник Тайной канцелярии граф Александр Шувалов. В ней предписывалось «арестанта из казармы не выпускать, когда ж для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли». В 1757 году последовало уточнение: «В инструкции вашей упоминается, чтоб в крепость, хотя б генерал приехал, не впускать, еще вам присовокупляется – хотя б и фельдмаршал и подобный им, никого не впущать и объявить, что без указа Тайной канцелярии не велено».
Неизвестно, сколько бы тянулась эта несчастнейшая из несчастных жизней, если бы не произошло трагедии 1764 года.
«Пресечь пресечением жизни одного»
Ночью 4 июля 1764 года жители Шлиссельбурга вдруг услышали в крепости ожесточенную стрельбу. Там была совершена неожиданная попытка освободить секретного узника Григория. Предприятием руководил подпоручик Смоленского полка Василий Мирович. Осенью 1763 года он, служа в столице, узнал историю императора-узника. Жизненные неудачи и зависть мучили этого двадцатитрехлетнего офицера. Он хотел богатства, но на две его челобитные о возвращении некогда отписанных у его деда – сподвижника Мазепы – имений он получил отказы. Он хотел известности, но его (как он потом рассказывал) даже не пускали во дворец как унтер-офицера и выгнали из придворного театра, когда в него вошла окруженная блестящей свитой Екатерина II. Позже графу Панину на вопрос о причинах столь отчаянного поступка он прямо сказал: «Для того чтобы быть тем, чем ты стал!»
Мирович со своим приятелем Аполлоном Ушаковым разработали план операции: заступив начальником караула в крепости, Мирович вскоре получит из рук прибывшего нарочного (Ушакова) «указ» об освобождении Ивана и отвезет бывшего императора на шлюпке в столицу. Там он поднимет заранее составленными от имени Ивана манифестами, присягой и другими указами народ и солдат, займет Петропавловскую крепость, приведет к присяге полки и учреждения.
Но сообщника послали в командировку, во время которой он утонул, переправляясь через реку. Мирович начал действовать в одиночку. Почти сразу же после вступления в командование караулом крепости в ночь с 4 на 5 июля он поднял солдат в ружье по тревоге, приказал закрыть ворота крепости, арестовал коменданта и двинул свое войско на казарму, в которой сидел Иван. На окрик охраны подпоручик вместо пароля ответил: «Иду к государю!» Завязалась перестрелка. Мирович приказал притащить пушку, что и было исполнено. Это решило дело: охрана сложила оружие. «И мы, – писали в своем рапорте Власьев и Чекин, – видя [неприятеля] превосходную силу, арестанта… умертвили».
Действовали они согласно данной им инструкции, которая предусматривала и такой вариант развития событий. До нас дошли жуткие подробности убийства: Власьеву и Чекину не удалось сразу убить Ивана Антоновича. Раненный в ногу первым ударом шпаги, он отчаянно сопротивлялся, в спешке и панике его кололи куда попало, пока Власьев не нанес смертельный удар. Ворвавшийся в казарму Мирович увидел тело Ивана, приказал положить его на кровать и на ней вынести его во двор. Плача, он поцеловал покойному руку и ногу и сдался Власьеву.
Через полтора месяца бунтовщика казнили – отсекли голову. По свидетельству Державина, народ, огромной толпой облепивший Обжорный рынок – место казни и мост через ближайшую канаву, почему-то ждал, что Екатерина помилует преступника, и, «когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогнулся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились». Вечером тело сожгли вместе с эшафотом. Примкнувших к бунту солдат прогнали сквозь строй. Сам же истинный мученик российской истории был по указу Екатерины тайно похоронен «в особенном месте» в крепости. Так он и лежит где-то под нашими ногами, когда мы гуляем по двору Шлиссельбургской крепости.
История с убийством Ивана Антоновича вновь ставит извечную проблему соответствия морали и политики. Две правды – Божеская и государственная – сталкиваются здесь в неразрешимом конфликте. Получается так, что смертный грех убийства может быть оправдан, если это предусматривает инструкция, «присяжная должность», если грех этот совершается во благо государства, ради безопасности больших масс людей. Противоречие неразрешимое. Мы не можем с порога отвергать утверждение манифеста Екатерины, оправдывающее Власьева и Чекина как верных присяге офицеров, сумевших «пресечь пресечением жизни одного, к несчастью рожденного», неизбежные бесчисленные жертвы в случае удачи авантюры Мировича. Из следственного дела видно, что солдаты пошли за подпоручиком не задумываясь, власть же Екатерины в начале ее царствования была непрочна, и известие об освобождении Ивана могло бы вызвать брожение столичной гвардии.
Настроения солдат, которых поднял за собой Мирович, не могли не насторожить власти. Как выяснилось на следствии, в ответ на призывы подпоручика караульные отвечали: «Ежели солдатство будет согласно, то и мы согласны». «Солдатство» оказалось «согласно», и кровь в Шлиссельбурге пролилась. Неслучайно Екатерина писала Панину: «Весьма кажется нужно смотреть, в какой дисциплине находится Смоленский полк», в котором служил Мирович. По сообщениям иностранных дипломатов, правительству пришлось привести в боевое состояние полевые полки в Петербурге как противовес неспокойной гвардии. А как бы повело себя «солдатство», если бы вдруг экс-император Иван вместе с Мировичем прибыл в Петербург, и сколько бы тогда пролилось крови – не знает никто. Может быть, авантюра Мировича удалась бы не менее успешно, чем авантюра «Петра III» – Емельяна Пугачева.
Тем не менее сомнения в действиях власти появлялись даже у судей Мировича. Английский посланник писал, что Екатерина II была встревожена процессом, «многое было очень неприятно императрице, так, например, ревность некоторых судей, пытавшихся поднять вопрос о том, правы ли были офицеры, убивая Иоанна».
Спустя несколько дней после драматических событий в Шлиссельбурге дипломатическим представителям России за границей было направлено циркулярное письмо графа Панина о произошедшем. Что же узнали из него посланники и резиденты? Их ставили в известность, что «содержался от некоторого времени в той крепости один арестант по имени Безымянного, который в причине своего ареста соединял со штатским резоном резон и совершенного юродства в своем уме и потому был поручен особливому хранению двух состарившихся в службе обер-офицеров, при которых под их командою был малый от гарнизона пикет».
Далее кратко рассказывалось о попытке тоже безымянного караульного подпоручика освободить узника, «но, получа такое супротивление своему изменческому предприятию, какого только от верных и заслуженных офицеров ожидать было должно, наконец [он] взят и арестован тою собственною командою». Посланников заверяли, что попытка освобождения арестанта Безымянного – это не следствие «знатного заговора», а безумная авантюра «от отчаяния молодого промотавшегося и оттого в фанатизм впавшего» одиночки. Письмо завершалось предписанием: «Сообщая вам сие, прошу я вас делать из онаго такое употребление, какое разсудите вы за полезное для службы Ея Императорского Величества и уничтожения всяких ложных разглашений, в коих, конечно, не будет недостатков».
Можно представить себе задумчивость, которая охватила русских дипломатов при чтении этого не просто туманного, но дивного по содержанию правительственного документа. Кто такой «Безымянный», что за «штатский резон» и для чего неизвестному, где-то промотавшемуся подпоручику, впавшему в фанатизм, нужно было освобождать загадочного узника? Ну хотя бы сказали правду, чтобы увереннее врать, опровергая неизбежную клевету неприятелей России!
Нет, это слишком просто! Вот придут местные газеты – и посланники России узнают из них, что подпоручик Мирович 4 июля пытался освободить находившегося в заточении экс-императора Ивана VI и при этом офицеры охраны убили узника, а Мирович был арестован. И уже после этого можно будет смело врать мировой общественности, что ничего подобного никогда не было. Как это нам, живущим в XXI веке, до боли знакомо, как все узнаваемо!
«Известная комиссия в Холмогорах»
Кажется, что смерть Ивана Антоновича обрадовала Екатерину II и ее окружение. Никита Панин писал императрице: «Дело было произведено отчаянною ухваткою, которое несказанно похвальною резолюциею капитана Власьева и поручика Чекина пресечено». Екатерина отвечала: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшия в Шлиссельбурге: руководство Божие чудное и неиспытанное есть!» Одним словом, по известной присказке: нет человека – нет проблемы. Власьев и Чекин получили награду – по семи тысяч рублей – и полную отставку.
Конечно, «проблема» была решена, но не вся: «известная комиссия в Холмогорах» – так назывались в официальных документах узники архиерейского дома – продолжала «работать». Семья принца Антона Ульриха (он сам, две дочери и два сына) по-прежнему жила там. Дом стоял на берегу Двины, которая чуть-чуть виднелась из одного окна, был обнесен высоким забором, замыкавшим большой двор с прудом, огородом, баней и каретным сараем. Мужчины жили в одной комнате, а женщины – в другой, и «из покоя в покой – одни двери, покои старинные, малые и тесные». Другие помещения были заполнены солдатами, многочисленной прислугой принца и его детей.
Принц Антон Ульрих Брауншвейгский
Живя годами, десятилетиями вместе, под одной крышей (последний караул не менялся двенадцать лет), эти люди ссорились, мирились, влюблялись, доносили друг на друга. Скандалы следовали один за другим: то Антон Ульрих поссорился с Биной (Якобиной Менгден – сестрой Юлии, которой, в отличие от сестры, разрешили ехать в Холмогоры), то солдат поймали на воровстве, то офицеров – на амурах с кормилицами. Несколько лет тянулись истории с Биной: выяснилось, что у нее появился любовник – приезжавший из Холмогор доктор, и в сентябре 1749 года она родила ребенка «мужеска пола», за что ее заперли в отдельной комнате, а она буянила, била приходивших к ней с проверкой офицеров. Немало жалоб холмогорских узников относилось к качеству провизии, которую доставляли местные обыватели.
Принц, как всегда, был тих и кроток. С годами он растолстел, обрюзг. После смерти жены он стал жить со служанками, и в Холмогорах было немало его незаконных детей, которые, подрастая, становились прислугой членов Брауншвейгской семьи. Изредка принц писал императрице письма: благодарил за присланные бутылки венгерского или еще за какую-нибудь милостыню-передачу. Особенно он бедствовал без кофе, который был ему необходим ежедневно.
В 1766 году Екатерина II послала в Холмогоры генерала А. И. Бибикова, который от имени императрицы предложил принцу покинуть Россию. Но тот отказался. Датский дипломат писал, что принц, «привыкший к своему заточению, больной и упавший духом, отказался от предложенной ему свободы». Это неточно – принц не хотел свободы для себя одного, он хотел уехать вместе с детьми. Но эти условия не устраивали уже Екатерину. Ее встревожили как дело Мировича, так и разговоры в обществе, что она могла бы выйти замуж за одного из «Ивашкиных братьев» – все же царская кровь, не чета низкопородному Григорию Орлову, мечтавшему о формальном браке с императрицей. Принцу отвечали, что отпустить его с детьми невозможно, «пока дела наши не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли».
Так и не дождался Антон Ульрих, чтобы дела императрицы приняли благоприятное для него положение. К шестидесяти годам он одряхлел, ослеп и, просидев в заточении тридцать четыре года, скончался 4 мая 1776 года. Ночью гроб с его телом тайно вынесли во двор. Там его и похоронили – без священника, без обряда, как самоубийцу или бродягу. Провожали ли его в последний путь дети? Даже этого мы не знаем.
Неведомые цветы на лугах
Дети Антона Ульриха после его смерти прожили в заточении еще четыре года. К 1780 году они уже давно были взрослыми: глухой Екатерине шел тридцать девятый год, Елизавете было тридцать семь, Петру – тридцать пять, Алексею – тридцать четыре года. Все они были болезненными, слабыми, с явными физическими недостатками. О старшем сыне, Петре, офицер охраны писал, что «он сложения больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног. Меньшой сын Алексей – сложения плотноватого и здорового… имеет припадки». Дочь принца Екатерина «сложения больного и почти чахоточного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого».
Но несмотря на жизнь в неволе, без образования (в 1750 году в Холмогоры был прислан указ Елизаветы «о необучении детей известной персоны грамоте до указу»), все они выросли разумными, добрыми и симпатичными людьми, выучились они и грамоте.
Побывавший у них ярославский наместник А. П. Мельгунов писал о Екатерине Антоновне, что, несмотря на ее глухоту, «из обхождения ее видно, что она робка, уклончива, вежлива и стыдлива, нрава тихого и веселого; увидя, что другие в разговорах смеются, хотя и не знает тому причины, смеется вместе с ними… Как братья, так и сестры живут между собою дружелюбно, и притом незлобливы и человеколюбивы. Летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимою бегают взапуски [и] на лошадях по пруду, читают церковные книги и играют в карты и шашки. Девицы, сверх того, занимаются иногда шитьем белья».
Быт их был скромен и непритязателен, как и их просьбы. Главой семьи была Елизавета, полноватая и живая девица, родившаяся в Динамюнде. Она рассказывала Мельгунову, что «отец и мы, когда были еще очень молоды, просили дать вольность, когда же отец наш ослеп, а мы вышли из молодых лет, то испрашивали позволения проезжаться, но ни на что не получили ответа». Говорила она и о несбывшемся их желании «жить в большом свете», научиться светскому обращению. «Но в теперешнем положении, – продолжала Елизавета Антоновна, – не остается нам ничего больше желать, как только того, чтобы жить здесь в уединении. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели».
У Елизаветы было целых три просьбы, от которых у Алексея Петровича Мельгунова, человека тонкого, гуманного и сердечного, вероятно, все перевернулось в душе: «Просим исходатайствовать нам у Е. В. милость, чтоб позволено нам было выезжать из дома на луга для прогулки, мы слышали, что там есть цветы, каких в нашем саду нет»; чтобы пускали к ним дружить жен офицеров охраны – ведь скучно! И последняя просьба: «Присылают нам из Петербурга корсеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем для того, что ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить. Сделайте милость, пришлите такого человека, который умел бы наряжать нас». В конце этого разговора с Мельгуновым Елизавета сказала, что если выполнят эти просьбы, «то мы будем очень довольны, ни о чем более утруждать не станем, ничего больше не желаем и рады остаться в таком положении навек».
Прочитав доклад Мельгунова, Екатерина дрогнула – она дала указ готовить детей Анны Леопольдовны к отъезду.
Свобода, которая опоздала на целую жизнь
Екатерина II завязала переписку с датской королевой Юлией Маргаритой, сестрой Антона Ульриха и теткой холмогорских пленников, и предложила поселить их в Норвегии, тогдашней провинции Дании. Королева ответила, что может разместить их в самой Дании. Начались сборы. Неожиданно в скромных палатах архиерейского дома засверкали золото, серебро, бриллианты – это везли и везли подарки императрицы: гигантский серебряный сервиз, бриллиантовые перстни мужчинам и серьги женщинам, невиданные чудесные пудры, помады, туфли, платья.
Семь немецких и пятьдесят русских портных в Ярославле поспешно готовили платье для четверых узников. Чего стоят одни «шубы золотого глазета на собольем меху» для Екатерины Антоновны и Елизаветы Антоновны. И хотя императрица была чистокровной немкой, поступила она по-российски – знай наших! – чтобы датские родственники видели, как содержат у нас арестантов царской крови.
26 июня 1780 года Мельгунов объявил Брауншвейгской фамилии указ императрицы об отправке их в Данию, к тетушке. Они благодарили Мельгунова за вольность и только просили поселить их в маленьком городке, подальше от людей. Ночью 27 июня их вывели из дома. Впервые в жизни они вышли за пределы тюрьмы, сели на яхту и поплыли вниз по широкой, красивой Двине, кусочек которой они всю свою жизнь видели из окна. Когда в сумраке белой архангельской ночи появились угрюмые укрепления Новодвинской крепости, братья и сестры стали рыдать и прощаться – они думали, что их обманули и что на самом деле их ждут одиночки крепостных казематов. Но их успокоили, показав на стоявший на рейде фрегат «Полярная звезда», который готовился к отплытию.
До самого конца Антоновичей строго охраняли, и полковник Циглер, руководивший всей экспедицией, получил строгий указ не давать арестантам писать и отправлять письма, никого к ним не допускать. «Но если бы кто, – отмечалось в инструкции, – сверх ожидания, отважился войти на фрегат силою и тем вознамерился бы отнять из рук Циглера принцев и принцесс, в таковом случае велено ему отражать силу силою и оборониться до последней капли крови». К счастью, пункта об убийстве пленников в инструкции не было – видно, к 1780 году дела Екатерины приняли «надлежащее положение».
Ночью 1 июля капитан М. Арсеньев отдал приказ поднять якоря. Дети Анны Леопольдовны навсегда покидали свою родину. Они плакали, целуя руки провожавшего их Мельгунова. Плавание выдалось на редкость тяжелое. Долгих девять недель непрерывные штормы, туманы, встречные ветры мешали «Полярной звезде» дойти до берегов Дании. Мы не знаем, о чем думали и говорили ее пассажиры. Наверное, сидели, тесно прижавшись друг к другу, молились по-русски русскому Богу, мечтая лишь об одном – умереть вместе.
Но судьба благоволила к ним. 30 августа 1780 года показался Берген. Здесь Антоновичей пересадили на датский корабль. Они по-прежнему не были свободны, и их насильно разлучили со слугами – побочными братьями и сестрами, которых, как положено по тупым бюрократическим законам (ведь на слуг нет бумаги!), оставили на российской территории – на палубе «Полярной звезды».
Вырванные из привычной им обстановки, окруженные незнакомыми людьми, говорившими на чужом языке, принцы и принцессы были несчастны и лепились друг к другу. Тетка-королева поселила их в маленьком городке Горзенсе в Ютландии, но ни разу не пожелала повидаться с племянниками. А они, как старые птицы, выпущенные на свободу, были к ней не приспособлены и стали один за другим умирать. Первой в октябре 1782 года умерла их предводительница – Елизавета. В 1787 году умер Алексей, в 1798-м – Петр. Дольше всех, целых шестьдесят шесть лет, прожила старшая, Екатерина, та самая, которую уронили в суете ночного переворота 25 ноября 1741 года.
И вот в августе 1803 года император Александр I получил письмо как будто из другой, давно ушедшей эпохи. Екатерина Антоновна просила царя, чтобы ее забрали домой, в Россию, в монастырь; что, пользуясь ее болезнями и неведением, датские придворные и слуги грабят ее и «все употребляй денга для своей пользы и что они были прежде совсем бедны и ничего не имели, а теперича они оттого зделались богаты, потому что всегда лукавы были… Я всякий день плачу и не знаю, за что меня сюда Бог послал и почему я так долго живу на свете, и я всякий день поминаю Холмогор, потому что мне там был рай, а тут – ад». Государь молчал. И, не дождавшись ответа, последняя дочь несчастной брауншвейгской четы умерла 9 апреля 1807 года.
Глава 4
Порфироносная девица: Елизавета Петровна
Цена девичьих слез
Глухой ночью 25 ноября 1741 года генерал-прокурор Сената князь Я. П. Шаховской был поднят с постели громким стуком в дверь. Это был сенатский экзекутор. «Вы, благосклонный читатель, – писал в своих мемуарах Шаховской, – можете вообразить, в каком смятении дух мой находился! Нимало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов не имея, я сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил и вмиг удалился, но вскоре увидел [я] многих по улице мимо окон моих [людей], бегущих необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был, куда и я немедленно поехал… Не было мне надобности размышлять в которой дворец ехать». Все бежали к Царицыну лугу – Марсову полю, возле которого стоял дворец цесаревны Елизаветы Петровны. В эту глухую, темную, морозную ночь он сиял огнями. Веселые крики гвардейцев вокруг разожженных прямо на улице костров, густая толпа зевак, запрудивших все подходы к жилищу дочери Петра Великого, – все это с неумолимой ясностью говорило генерал-прокурору, что пока он спал, в столице произошел государственный переворот, и власть перешла к Елизавете. Так начался «славный век императрицы Елизаветы».
Думаю, что опытный царедворец Шаховской слегка лицемерил, рассказывая про то смятение, которое его охватило: о грядущем перевороте он, как и многие другие, наверняка знал заранее. Это уже давно был секрет Полишинеля. Великую княгиню Анну Леопольдовну, правительницу России при императоре-младенце Иване Антоновиче, а также ее министров не раз и не два предупреждали о честолюбивых намерениях тетушки Елизаветы. Об этом доносили шпионы, писали дипломаты из разных стран. Но больше всего первого министра Андрея Ивановича Остермана встревожило письмо, пришедшее из Силезии, из Бреславля. Хорошо информированный агент сообщал, что заговор Елизаветы окончательно оформился и близок к осуществлению; необходимо немедленно арестовать личного врача цесаревны И. Г. Лестока, в руках которого сосредоточены все нити заговора.
Анна Леопольдовна не послушалась тех, кто советовал задержать Лестока, и поступила по-своему – наивно и глупо. На ближайшем куртаге – приеме при дворе 23 ноября 1741 года, прервав карточную игру, правительница встала из-за стола и пригласила тетушку в соседний покой. Держа в руках бреславское письмо, она попыталась приструнить Елизавету по-семейному. Когда обе дамы вновь вышли к гостям, они были весьма взволнованы, что тотчас отметили присутствовавшие на куртаге дипломаты. Вскоре Елизавета уехала домой. Как писал в своих «Записках» генерал Х. Г. Манштейн, «цесаревна прекрасно выдержала этот разговор, она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, и что все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее несчастливой, что…», – одним словом, полились слезы, в потоках которых утонули все подозрения, ибо вместе с Елизаветой разрыдался и ее простодушный следователь, который, действительно, к своему несчастью, поверил, что цесаревна ни в чем не виновата.
Вернувшись к себе, Елизавета испытала леденящий страх. Она прекрасно понимала, что в случае ареста Лестока разоблачение неминуемо – болтливый и слабовольный хирург-француз все рассказал бы в Тайной канцелярии при одном только виде дыбы. И тогда… дальний монастырь, пострижение, прощай сладкая жизнь! Нет, это Елизавете представить было невозможно! Раз встав на путь лжи и клятвопреступлений, она решила не сходить с него до конца.
Через сутки, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, горячо и со слезой помолившись Богу, цесаревна надела кавалерийскую кирасу, села в сани и по темным и завьюженным улицам столицы полетела в казармы Преображенского полка.
Три сотни разгневанных кумовьев
В слободе Преображенского полка Елизавету уже ждали. Она, раскрасневшаяся от мороза и волнения, была прекрасна, как Венера, но лапидарна, как Юлий Цезарь, когда обратилась к солдатам: «Други мои! Как вы служили отцу моему, то при нынешнем случае и мне послужите верностью вашею!» В ответ гренадеры дружно прокричали: «Рады все положить души наши за Ваше Величество и Отечество наше!» – и устремились за своим прелестным полководцем в сторону Зимнего дворца.
Вряд ли стоит говорить, что гренадеры не были подняты со своих постелей так же внезапно, как генерал-прокурор Шаховской. Они были давно подготовлены к «революции» Елизаветы. Предварительные разговоры, намеки доверенных цесаревны, деньги и обещания, которые они щедро раздавали, сделали свое дело наилучшим образом. Но все же успех был бы невозможен, если бы не весьма благоприятная для Елизаветы политическая конъюнктура. После смерти императрицы Анны Иоанновны осенью 1740 года наступили смутные времена. Как помнит читатель, формально у власти стоял (точнее – лежал в люльке) двухмесячный император Иван Антонович – сын правительницы Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха. У трона крошечного императора сразу же началась отчаянная борьба. Вначале власть прибрал к своим рукам фаворит покойной императрицы Бирон, через три недели его сверг фельдмаршал Миних, которого вскоре оттеснил от власти Остерман.
Чехарда у трона, в которой участвовали преимущественно иностранцы на русской службе, безликость, неавторитетность верховной власти правительницы Анны Леопольдовны и всей Брауншвейгской фамилии слишком раздражали многих и прежде всего – гвардию. Этим и сумела воспользоваться цесаревна Елизавета Петровна. Особенно популярна она была среди гвардейских низов: из 308 рядовых, которые отправились с Елизаветой брать Зимний дворец, всего лишь 54 были дворянами, то есть меньше 20 %. Остальные были выходцами из крестьян, церковников, однодворцев и даже холопов. И хотя они уже оторвались от своей прежней социальной среды и находились во власти типично преторианской психологии с ее туповатой сплоченностью, фамильярным отношением к власть предержащим, весьма преувеличенным представлением о собственной роли в судьбе трона и страны, тем не менее, их особые симпатии к дочери великого царя и лифляндской прачки были очевидны.
Напротив того, дворянство, особенно родовитое, и тогда и позже с пренебрежением относилось к Елизавете, чье «подлое» и незаконное происхождение (ведь Елизавета родилась до свадьбы Петра I и Екатерины) и «простонародное» поведение коробило светских дам и кавалеров. Гвардейским же солдатам эта милая, веселая, «любезная взором» красавица очень нравилась. Она запросто, как некогда ее великий отец, водила с ними компанию. Более того, Елизавета даже породнилась со многими гренадерами, охотно откликаясь на приглашения быть крестной матерью их отпрысков. А крестное родство (по русским православным традициям – кумовство на «ты»), считалось весьма близким, ибо шло от Бога. И вот мы читаем в донесениях французского посланника Шетарди о том, как Миних на Новый 1741 год пришел поздравить цесаревну с праздником и был просто ошарашен зрелищем, которое перед ним открылось: «Сени, лестница и передняя были заполнены сплошь гвардейскими солдатами, фамильярно величавшими эту принцессу своей кумой. Более четверти часа он не в силах был прийти в себя в присутствии принцессы Елизаветы, ничего не видя и не слыша».
Тревога старого фельдмаршала понятна: сила Елизаветы – гвардейской кумы – состояла в том, что она была дочерью Петра Великого, которую – по мнению гвардейцев – несправедливо отстранили от престолонаследия, отдав трон Брауншвейгской фамилии. И Миних, увидав толпы гвардейцев во дворце Елизаветы, вполне это оценил.
Недовольство слабым режимом правительницы сочеталось у гвардейцев с идеализацией Петра Великого – (строгого, но справедливого, радевшего о благе подданных государя – не то что ничтожества, толпившиеся у трона Ивана Антоновича!). Идеализация эта в полной мере распространялась и на его дочь, в которой гвардейцы видели прямую продолжательницу великого, но ныне заброшенного дела Петра. Дошедшие до нас списки участников переворота показывают, что почти треть гвардейцев отряда Елизаветы начала службу при Петре Великом. К 1741 году это были пятидесятилетние, убеленные сединами ветераны, чьим рассказам о славных летах, проведенных рядом с великим царем, о белокурой девочке – его любимой дочери, выросшей на их глазах, жадно внимали молодые солдаты: среди участников переворота их было 120 человек, то есть больше трети. Все они были взяты в гвардию в конце царствования Анны Иоанновны. Придумал это Бирон. Опасаясь дворянских вольнодумцев в гвардейских мундирах, временщик начал обновлять гвардию за счет рекрутов из крестьян и других «подлых». Именно сочетание удальцов-ветеранов и необстрелянных наивных юношей, смотревших им в рот, и стало горючим материалом переворота. Искру в него бросила Елизавета, самолично явившись к гвардейцам – своим кумовьям.
Как маркиз Шетарди руководил заговором
В истории революции 25 ноября 1741 года есть одна страница, о которой Елизавете всегда хотелось забыть. Речь идет об активном участии в заговоре иностранных держав в лице французского посланника в России Иоахима Жана Тротти маркиза де ла Шетарди и шведского посланника Эрика Матиаса Нолькена. Французский дипломат, прибывший в Россию в 1739 году, имел от Версаля конкретное задание: разрушить русско-австрийский союз 1726 года, серьезно укреплявший позиции давнего врага «христианнейшего» короля Людовика XV – Австрии, или, как тогда говорили, Империи. Добиться этого можно было лишь путем смены проавстрийского правительства Анны Леопольдовны.
Ту же цель ставил перед собой и Нолькен. В Стокгольме были очень сильны реваншистские настроения. Шведским правителям казалось, что при ослаблении власти в России и при первом волнении в Петербурге можно добиться пересмотра Ништадтского мира 1721 года и возвращения Швеции Восточной Прибалтики. Нолькен и Шетарди начали вести подрывную работу: искать и поддерживать те силы, которые были бы в состоянии свергнуть правительство Анны Леопольдовны. И вот осенью 1740 года Нолькен первым вышел на Елизавету, и она вступила с ним в переговоры, точнее – в недостойный ее, дочери Петра Великого, политический торг.
Нолькен предложил ей простой и ясный план: цесаревна подписывает обращение-обязательство к шведскому королю с просьбой помочь ей взойти на престол, король начинает войну против России, наступает на Петербург и тем самым облегчает переворот в пользу Елизаветы. Для исполнения плана он дает Елизавете сто тысяч экю, а она обещает, в случае успеха предприятия, удовлетворить все территориальные претензии Швеции. Цесаревна была на все согласна, но просила выдать ей вперед деньги, в которых, как всегда, очень нуждалась. Нолькен настаивал на обратном варианте – сначала письменное обязательство, а потом деньги. Елизавета не возражала, была готова тотчас подписать нужную бумагу, но деньги просила выдать раньше. За этим бесплодным спором и застал заговорщиков Шетарди, пронюхав у Нолькена о честолюбивых намерениях цесаревны. Он сразу же ввязался в интригу и начал действовать.
Сделаем небольшое отступление. В действиях Нолькена и Шетарди был, конечно же, криминал, но участие иностранных дипломатов в интригах при дворе своей аккредитации в те времена было явлением обычным. Можно написать целую сагу о том, как русские посланники золотом устилали дорогу для угодных России ставленников в Польше, Швеции и других странах. И вообще, редкий международный трактат не содержал тайных статей о вмешательстве высоких договаривающихся сторон во внутренние дела третьих стран. Нолькен и Шетарди не были благородным исключением из этих грязных правил.
Шетарди, в отличие от осторожного Нолькена, денег для цесаревны не жалел, он не на шутку увлекся заговором, мысля себя его движущей силой, главным, как бы теперь сказали, координатором. Маркиз был по природе своей человеком пылким, романтичным, но легкомысленным и глупым. Условные знаки, пароли, записки, передаваемые во время менуэта или котильона, плащи, ночная тьма, переодевания – весь этот пошлый набор заговорщицкой атрибутики пошел в ход. Как пишет мать Екатерины II, княгиня Иоганна-Елизавета, свидания заговорщиков «происходили в темные ночи, во время гроз, ливней, снежных метелей, в местах, куда кидали падаль», то есть на помойках. Соглядатаи регулярно сообщали начальству о том, как французский посланник тайно, по ночам, огородами пробирался во дворец Елизаветы, но явно «не для амуру».
Шетарди и Нолькен непрерывно писали своим министрам пространные реляции, обещая, что вот-вот успех увенчает переговоры с цесаревной. Но нет! Елизавета почему-то стала тянуть время: она колебалась, сомневалась, медлила, а главное – бумаг никаких не подписывала. Наконец, Нолькен и Шетарди пришли к выводу, что Елизавета серьезно опасается подписывать какиелибо обязательства о будущих уступках земель, отвоеванных ее отцом – победителем тех же самых шведов, ибо она рискует «сделаться ненавистной народу, если окажется, что она призвала шведов», чтобы взойти на престол такой ценой.
Вскоре выяснилось, что остановить запущенную машину уже невозможно: победные реляции дипломатов об успехах в переговорах с Елизаветой сыграли свою роковую роль. В Стокгольме решили действовать, не дожидаясь от Нолькена подписанных цесаревной бумаг. Летом 1741 года Швеция начала войну против России в Финляндии и… сразу же потерпела сокрушительное поражение под Вильманстрандом 23 августа 1741 года. Надежды на шведскую помощь с треском провалились. От пылкого Шетарди тоже толку было мало. Рассчитывать Елизавете приходилось только на себя. И после куртага 23 ноября 1741 года она решила действовать самостоятельно.
Впрочем, маркиз Шетарди до самого конца полагал, что именно он руководит заговором в пользу Елизаветы, и можно представить его ужас, когда ночью 25 ноября в его дом, стоявший на Адмиралтейской площади, почти напротив резиденции императора, стали грубо ломиться солдаты. Он подумал, что разоблачен и его неминуемо ждет Сибирь. На самом деле вышла ошибка – часть гвардейцев, сопровождавших Елизавету, была откомандирована от основного отряда, чтобы арестовать Остермана, Михаила Головкина и других сановников Анны Леопольдовны. В темноте солдаты перепутали дом, чем и перепугали до смерти всю французскую миссию во главе с Шетарди.
Можно предположить, что маркиз, стоя у окна в ночном колпаке и халате, видел сам «штурм Зимнего», который он так усиленно готовил на балах и помойках. Выйдя из саней на Адмиралтейской площади, Елизавета в сопровождении трехсот своих кумовьев, чтобы не слишком шуметь, пошла к Зимнему пешком. Солдаты нервничали, спешили, цесаревна же путалась в юбках, вязла в снегу, да и, вероятно, ей было трудно идти в тяжелой кирасе, – одним словом, она явно задерживала всю честную компанию. Вот тогда-то и произошел невиданный в истории революций и переворотов эпизод: гренадеры, недолго думая, подхватили, как перышко, на свои широкие плечи прелестную Венеру, и она, верхом на своих солдатах, въехала в Зимний дворец.
Штурм Зимнего
Архиепископ Арсентий в проповеди в день коронации Елизаветы, изумляясь свершенному императрицей в памятную ночь штурма Зимнего, помянул мужество ее, когда эта девица была принуждена, забыв деликатность своего пола, «пойти в малой компании» на очевидный для жизни риск, «не жалеть… за целость веры и Отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля».
В описанную красноречивым пастырем ночь неприятель этот блаженно спал в колыбели, с вечера насосавшись молока из груди кормилицы Катерины Ивановой, и не подозревал, что против него «заводят шеренги». Спали и родители императора, приближенные и слуги. Ворвавшись во дворец, Елизавета не мешкала: входы и выходы были перекрыты, караул сразу же перешел на сторону мятежников, и затем в императорские апартаменты на втором этаже устремилась «группа захвата». Солдаты разбудили и арестовали правительницу России Анну Леопольдовну и ее мужа Антона Ульриха. Ни принц, ни его супруга сопротивления не оказывали. Они безропотно подчинились своей горькой судьбе и позволили увезти себя во дворец Елизаветы, куда вскоре проследовала и сама хозяйка. Ей, счастливице, пора было принимать поздравления – курьеры будили своих начальников, и те, кое-как одевшись, спешили, подобно Шаховскому, на поклон.
Завершая описание «штурма Зимнего», отметим, что, несмотря на легкость и бескровность переворота, во всей этой истории были моменты весьма острые, и Елизавета проявила в них всю свою волю и характер. Ей, привыкшей к праздничной, беззаботной жизни, было совсем не просто решиться на государственный переворот. В тот момент, когда она в сопровождении только трех человек – Лестока, Воронцова и учителя музыки Шварца – садилась в сани, чтобы ехать в казармы преображенцев, никто не мог дать гарантий, что успех заговорщикам обеспечен, что сопротивления не будет, что ее, наконец, не ждет наказание за государственное преступление. Ночь переворота всегда черна и страшна, как бездна, в которую нужно шагнуть не раздумывая. И чтобы преодолеть этот страх, требуется мужество даже сильным мужчинам. Цесаревна – слабая женщина – такое мужество проявила, и даже дважды. Вначале она подняла солдат на мятеж, а потом возглавила штурмовую группу. Иначе она поступить не могла, ведь среди мятежников не было ни одного офицера, чтобы командовать солдатами. Так что пришлось ей, действительно забыв «деликатность своего пола», в первый и последний раз в жизни выступить в роли военачальника…
А потом был ярко освещенный дворец, шампанское, толпа льстивых царедворцев, павшая к ее ногам. К утру манифест о восшествии на престол и присяга подданных были готовы, войска и жители присягнули, и под крики «Виват!» и пушечную пальбу императрица вступила в Зимний дворец. Из окна ее нового жилища была видна Петропавловская крепость, шпиль собора, под полом которого вечным сном спали ее родители. Может быть, в суете новоселья Елизавета на минуту остановилась у окна и вспомнила прошлое – между ее новым дворцом и крепостью пролегало не только белое ледяное поле застывшей Невы, но и тридцать лет жизни цесаревны, ставшей императрицей.
«Четвертная лапушка»
Елизавета родилась, несомненно, под счастливой звездой. Событие это произошло 18 декабря 1709 года, когда русская армия завершала победную кампанию 1709 года торжественным вступлением в Москву. Сохранившиеся гравюры показывают, сколь красочным и величественным было это зрелище: несли трофейные знамена, вели знатных пленных, генералов, приближенных Карла XII, тысячи солдат и офицеров. Петр, распоряжавшийся всей церемонией, перед самым ее началом получил известие о благополучном разрешении Екатерины дочерью. Он дал приказ отложить на три дня вступление победителей в старую столицу и начал пир в честь рождения девочки, названной редким тогда именем Елизавет.
Детство и юность Елизаветы прошли в Москве и Петербурге. Девочку воспитывали вместе со старшей сестрой Анной, родившейся в 1708 году. Отец девочек был почти все время в разъездах, мать часто его сопровождала. Дочерей царя опекали либо младшая сестра Петра, царевна Наталья, либо семья Меншикова.
Теперь, проходя по анфиладе нарядных и уютных залов Меншиковского дворца-музея, невольно думаешь о том, что тогда, во времена детства Елизаветы, здесь не было так тихо и чинно. Царские дочери в веселой компании с Сашей и Машей – дочерьми светлейшего князя, а также с его сыном Александром, должно быть, устраивали изрядные шум и беготню. А потом их уводила обедать или спать заботливая горбунья Варвара Арсеньева – сестра хозяйки дома княгини Дарьи Меншиковой. В своих письмах к Петру и Екатерине Меншиков писал: «Дорогие детки ваши, слава Богу, здоровы».