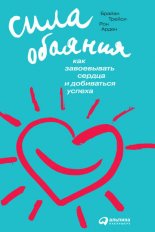Щастье Фигль-Мигль
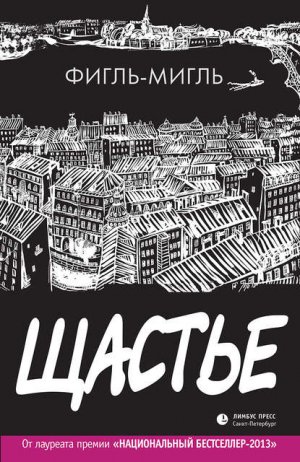
— И вы так спокойны?
— Потому что я смирился. В конце концов, что такое счастье? Пустяк, безделица. Как это… да, девичья игрушка. Ваш друг анархист говорил вам, что человеческая личность важнее всего? Неба и земли, общества и времени? Эта маленькая, жалкая, ничтожная личность, нетвёрдая в вере, неверная в любви, безжалостная в своем малодушии…
— Вообще-то он говорил, что важнее всего гармония.
— Для человека гармония невозможна.
Я зевнул.
— И что будем делать?
— Как что? Я выполню свой долг, вы — свой.
— Конечно, — кивнул я, — раз уж это мой бизнес. Но я не уверен, что смогу.
— Вы неточно формулируете. Вы не уверены, что захотите. Ваши личные чувства…
— Я не думаю, что у меня есть личные чувства.
— Они есть у всех.
— Что до формулировок, — сказал я, — то вы тоже недоговариваете. Я ведь видел ваше счастье.
— Чтобы понять, недостаточно увидеть, — холодно отпарировал Канцлер. — Я не говорил вам, что не хочу быть счастливым. Я сказал, что это не имеет значения.
— Что же тогда имеет значение?
— Готовность идти до конца, — ответил Канцлер, поднимаясь. — Только это. И вы тоже пойдёте, Разноглазый. Идти-то вам всё равно больше некуда. Полежите пока. Я распоряжусь приготовить вам комнату. Вы не доберётесь до дома в таком состоянии.
— Нет-нет, — сказал я. — Доберусь. Пойду до конца, до родной постели.
Я заметил, что радостных стало больше и они стали гораздо агрессивнее. Женщины боялись ходить даже по трое. Радостные подкрадывались или выпрыгивали из кустов, из-за угла, из-под припаркованной машины — и отнимали сумки с продуктами, одежду. Являвшиеся порою на крики менты, поглумившись, лишали жертв нападения денег и чести, резонно полагая, что и это спишут в ближайшем рапорте на радостных. Наконец обыватели выразили свое недовольство, закидав грязью и чем-то гнилым ворота администрации. Менты после этого стали осторожнее, ну а радостным было всё равно.
Я шёл из аптеки, когда увидел целую шайку, наседавшую на какого-то паренька. Тоненький пацан молча, сосредоточенно отбивался. Я поднял обломок кирпича и перешёл дорогу. Не сразу, но победа досталась нам. Помогая пацану отряхнуться, я взглянул на него внимательнее.
— Дядя! Ты чего здесь?
— Так, ничего. Кропоткина ищу.
— Почему у нас?
Дядя потерянно поднял (подняла?) глаза.
— Не только у вас.
Я задал вопрос, который не давал мне покоя:
— Слушай, Дядя. Ты меня извини, конечно, но ты парень или девушка?
Ответом мне был ненавидящий взгляд.
— Ага. Значит, девушка. Тогда пойдем позавтракаем. Расскажешь, что происходит.
— А парню ты бы что сказал? «Пойдем выпьем»?
— Нет, «пойдем пообедаем». Парни-то прожорливее, завтраком не накормишь. Сама понимаешь.
Ей и это не понравилось.
— Почему прожорливее?
— Потому что тупее, — сказал я терпеливо. — У тупых кровь отливает от головы, а куда-то ей приливать надо? Пошли, пока дворники не набежали. А выпить и за завтраком можно, если есть желание.
— Я тебе не верю, — сказала Дядя первым делом. — И помощи твоей не прошу. Вообще не прошу, понял? Ты… Ты его видел? Знаешь что-нибудь?
— Ничего я не знаю.
Дядя угрюмо замялась.
— А что на Охте? — выговорила она наконец.
— На Охте я никого из ваших не видел. — Я улыбнулся. — Интересно, есть ли хоть один человек, который не знает, что я там был?
Ей это не показалось смешным.
— Правду не скроешь. — Она подергала себя за всклоченные волосы. — Кропоткин так говорит: шила в жопе не утаишь. Скажи мне… просто скажи… Зачем тебя Канцлер вызывал? Кого ты там…
Она не смогла договорить.
— Ты их не знаешь. Они вообще не анархисты.
— Да?
— Конечно. Зачем бы мне врать?
Она не смогла ответить на этот вопрос, поскольку сама не отличалась лживостью. У неё не было необходимых навыков и душевных ресурсов, чтобы оценить подобную риторику.
Мы еще долго вели разговор, полный недомолвок и откровенной лжи. Я разглядел Дядю и пришел к выводу, что она симпатичная девчонка.
— Тебе есть где остановиться?
Она кивнула.
— Товарищи помогут. — Против её воли это прозвучало кисло-прекисло. — Правда…
— Правда?
— Все боятся, — пояснила она неохотно. — Готовы накормить, дать ночлег — и ничего больше. Понимаешь? Накормить меня и родители накормят, если вспомнят, конечно, с перепоя. Накормить — это разве подвиг?
— А что ты хотела? Собрать армию?
— Нас не так мало.
— Что ты, я не об этом. На боевой дух количество вообще не влияет.
Потом я спросил о Злобае и Поганкине.
— Про Поганкина не знаю, а Злобай на нашем кладбище.
— А что с Большеохтинским?
— Канцлер его зачистил. — Её губы помертвели от ненависти. — Как будто не знаешь.
— Я провел лето в Городе и новостями не интересовался. — Я подобрал и протянул Дяде оброненную ею вилку. — А ты знаешь, что Кропоткин был на В.О.? Ты его после видела? Может, он ушел на Католическое кладбище?
— Без меня? — вырвалось у неё. Она залилась краской и в злобе на это ударила кулаком по столу. — Я хочу сказать, никому не сказав? Чтобы Кропоткин убежал как трус, как предатель? Ты его плохо знаешь.
— Это да, — сказал я. — Но может, узнаю получше.
Дверь была открыта; Людвиг дремал, свернувшись клубком в большом продавленном кресле. Наглядевшись на его напряжённое скорбное лицо, я прошёлся по квартире. В ней было мало света, много пыли и какое-то количество приглушённых робких запахов. В кухне на столе лежали бумаги и книги, в спальне на неубранной кровати — бутерброды на тарелке. Мне взбрело в голову порыться в письменном столе, но клиент некстати ожил.
— Это ты?
— Если ты ждал кого-то другого, могу побыть и им.
— Кем именно?
— Тебе решать. — Я устроился на диване, закурил. — Выглядишь получше. Что снилось? — Я всмотрелся в его сразу ставшее отчуждённым лицо и вздохнул. — Ну же, Людвиг. Это входит в стоимость услуги.
Людвиг уселся поровнее.
— Тебе не грустно всё на свете мерить на деньги?
— Не знал, что в систему мер включены эмоции.
— До чего ж ты упрямый гад. Не устал острить?
— Не знал, что вообще острю. — Я пожал плечами. — А ты упёртый. Руку давай.
Александр сидит на крыше высокого склепа, обнимает за шею мраморного ангела и болтает ногами, а за спиной у него, за ангельскими крыльями, то ли всходит, то ли заходит солнце. Эта картинка слегка подпорчена видом Александра и некоторыми несообразностями освещения, но я чувствую себя в привычной обстановке. Я не спеша обхожу склеп, и тот словно поворачивается вслед за мною: мне не удаётся зайти привидению за спину. Проклятое солнце слепит глаза, словно хочет их выжечь. Я останавливаюсь, вплотную приближаюсь к склепу, задираю голову. «Теперь, когда ты умер, ты доволен, что не живешь больше?» — «Фу, Разноглазый. Ты меня убиваешь, и при этом мы будем рассуждать о природе души?» — «Почему бы нет?» — «Действительно. Ну, на том свете всё так же наперекосяк, как и на этом. Впрочем, „тот“ для меня уже „этот“, но ты, надеюсь, понял, что я имею в виду». — «Понял. И что с тобой будет дальше?» — «Ничего. Со мною уже ничего, разве нет?» — «Не хочешь говорить?» — «Почему ты уверен, что мне есть что сказать?»
Я вожу рукой по грубому необработанному камню. «Наверное, угрожать тебе бессмысленно?» — «Почему же бессмысленно? Ты можешь получить от этого удовольствие».
Тошной волной на меня накатывает убеждённость, что он знает ответы на мои вопросы — те вопросы, которые я не умею сформулировать и тем более задать. Никогда я не испытывал такой обиды и такого тяжёлого, мутного чувства безнадежности, неожиданно вспыхнувшей гневом.
— Ну вот и всё, — сказал я Людвигу. — Спи спокойно.
Через неделю, уходя от Аристида Ивановича, я шёл по бульвару, на котором когда-то встретил Фиговидца, и заметил взбудораженную компанию на скамейке за деревьями. Я остановился послушать.
— Людвиг выбросился из окна.
— Что за вздор. Он живёт на первом этаже.
— Я не сказал, что из своего. На это-то ума хватило.
— Когда похороны?
Я пошел дальше. Меньше всего мне хотелось знать, когда похороны.
Так вышло, что с Фиговидцем я стал видеться нечасто и почти всегда — случайно, и всегда — против его желания. Я встречал его в барах, на улицах — доставал из-под стола, вытаскивал из кустов, — и, наконец, с большим трудом извлек из сердцевины бестолковой кабацкой драки. Спотыкаясь, я за рукав волок фарисея на воздух, а нам вслед летели проклятия и пустые бутылки: совсем как дома.
Я достал платок и стал стирать кровь с его разбитой рожи.
— Ты чего? — буркнул он.
— Ничего. Вспоминаю, когда в последний раз видел тебя трезвым.
— И как, вспомнил?
— Конечно. У меня хорошая память.
Мы уселись на скамейке и закурили. Фиговидец наклонился вперед, зачарованно следя за медленно капавшей из носа кровью.
— Голову-то запрокинь.
Он ответил матерно и вроде успокоился.
— Тебя не было, когда Людвига хоронили, — заявил он через какое-то время.
— Этот гадёныш угробил мою репутацию, а я пойду к нему на похороны?
— При чем здесь ты?
Я осекся. Людвиг мог и не болтать о наших сеансах.
— Как всё прошло?
— В пределах допустимого. Самое смешное, что он не успел уничтожить бумаги — или не решился, кто его знает. Всё было приготовлено, но как для отправки на помойку, а не в архив. Что-то он начал рвать, что-то поджёг, а потом залил водой, побоялся, наверное, что весь дом полыхнёт.
— Ну и что? Он же всё равно собирался с собой покончить.
— С собой, а не с соседями.
Тяжело летели мокрые листья, небо было тяжёлым, и дыхание сидящего рядом человека — тоже. Вряд ли бы он меня услышал, даже если мне было бы что сказать.
— Почему нам стало не о чем разговаривать? — спрашивает Фиговидец.
— События закончились. Совместные, я имею в виду.
— А почему нельзя поговорить о несовместных?
Я засмеялся:
— Попробуй.
Он пробовал, пробовал, но так ничего и не сказал.
— Значит, на похороны вы не пошли, — говорит Илья. — А как насчёт свадьбы?
— Чья свадьба?
— Моя.
Мы сидим в невероятно помпезном ресторане, где на каждую перемену приходится по три тарелки, а на каждую тарелку — по официанту. Все трое — рослые, видные парни; то ли их отбирали на конкурсе красоты, то ли разводят в закрытом питомнике. Я с удовольствием смотрю на их белые куртки — нет слов, какие белые, какие невинные.
— Так у вас всё в порядке?
— Я же влюблен, — напоминает Илья насмешливо. — Как у меня может быть «всё в порядке»?
— Зачем тогда женитесь?
— Рано или поздно все женятся. Точно так же, как рано или поздно все умирают.
Его голос, лицо и руки так спокойны, что даже рыба на тарелке начинает позёвывать. Я жду, когда он перейдёт к делу, и заодно соображаю, чем бы это могло быть. За огромными окнами — яркая осень. На белой скатерти — бледные цветные блики. Я вижу, как моя рука лениво возится с бокалом, а в бокале плещется и сыплет искрами целый мир.
— Мой дорогой, — говорит Илья, — не ломайте голову над вопросом, что мне от вас понадобилось. Я сам этого не знаю. Возможно, просто прихоть?
— Возможно, — соглашаюсь я.
Этот красивый самонадеянный человек никогда не скажет мне правды; я никогда не стану допытываться; мы приятно проведём время, и он оплатит счёт. Я даже не буду гадать, кому он хочет досадить, приглашая меня на свою свадьбу.
— А вам, Разноглазый, ничего от меня не нужно? Попросить? Спросить?
— Я становлюсь нелюбопытным.
— Это уже не спасет.
— От чего?
Он подождал, пока я вволю налюбуюсь его неисповедимой улыбкой.
— От жизни. Почему, кстати, вы отказались шпионить за Канцлером?
— Предложено было неубедительно. И вообще это не мой бизнес.
— Даже за отдельную плату?
— Угу.
— Может, оно и разумно. Тогда передавайте ему привет. Если сочтёте момент подходящим.
Не было, не могло быть момента, который подходил бы для такого привета: и пощёчины, и святотатства. Напротив меня сидел, смотрел мне в глаза мир денег: непредставимых, победоносных. Что ему понадобилось от мира фанатизма и как он рассчитывал с ним поладить, меня не касалось. Я не хотел, чтобы меня использовали как посредника, даже если от моего желания мало что зависело.
— Николаю Павловичу в высшей степени присуще чувство долга, — сказал я. — Настолько, что куда бы он ни взглянул, только его и видит. Он нашёл чувство долга даже у меня.
— А почему вы считаете, что у вас его нет?
— Потому что я бы, наверное, знал, если бы оно у меня было.
— Ерунда. Человек о себе самом не может знать вообще ничего. Хотя к этому не мешало бы стремиться.
— Зачем?
— Затем, что только узнав о себе, становишься свободным.
— Или трупом.
— Или трупом.
Я не удержался и фыркнул, до того грамотно это было сказано: простодушный тон, простосердечный взгляд, простоумный расчёт. Илья Николаевич помолчал, поулыбался, полюбовался и сменил тему.
— Тот, кто привык всё контролировать, часто начинает тревожиться, действительно ли под контролем всё. Он подозревает, вынюхивает, устраивает проверки…
— И обязательно что-нибудь находит.
— Ну да. Но только не стань он искать, и находить было бы нечего.
— Слишком сложно, — говорю я. — Стремление к порядку порождает хаос, жажда совершенства — крах, тотальный контроль — тотальную анархию. Эта логика выглядит чересчур железной. Это всего лишь рассуждения… в духе Кропоткина.
— И почему вы считаете, что он не прав?
— Жизнь показала.
— Зря вы доверяете жизни, Разноглазый. Она того не стоит.
После этого разговор перестал рыскать и пошел ровно, безрадостно, как послушная собака. Илья был опасный человек и приятный собеседник: применительно к обстоятельствам, худшего сочетания не найти.
— А что это вас не было на похоронах? — спрашивает Аристид Иванович довольно-предовольно. — Всё прошло на уровне. И время удачное, — он тянется стряхнуть пепел и очень ловко вместо пепельницы попадает в мою руку. — Правильно, помирать нужно осенью, с природой за компанию. Ну скажите, как листья с деревьев летят?
— Уныло?
— Они летят безропотно! Главное — не сопротивляться. Когда сопротивляешься, выходит больнее, чем могло бы.
— Природа-то весной оживёт.
— А кто сказал, что мы не оживаем?
— В виде лютиков?
— Ну какая разница, в виде чего?
Я спешу согласиться. Начни спорить с Аристидом Ивановичем, в итоге всей душой поверишь, что никакой разницы между тобой и лютиком нет.
Не знаю как, но Вильегорский мне помог: ничего не делая, разговорами. Я приходил к нему опустошённый, а уходил успокоенный. Сеансы давались всё легче, и я нервно хмыкал, представляя выражение лица Аристида Ивановича, когда я скажу ему, что работа сделана.
Чужая боль не смогла стать моим кошмаром. Она трепетала у меня на пальцах, стекала, стихала. Я бродил по неглубокой воде, и призрак, который брёл рядом, становился всё прозрачнее, всё покорнее.
Хуже было с Кропоткиным: здесь не мог помочь никто. Я гонял его по подвалам, бесконечным коридорам и крыше — но, впрочем, не он ли меня дразнил и подманивал? — а потом, полуобморочного, Канцлер силком выволакивал меня с Другой Стороны, окунал головой в ледяную воду припасённого ведра. Я осторожно намекнул, что могу и захлебнуться, и окунания эти хорошо бы на что-нибудь заменить. Почему не испробовать холодный компресс, нашатырный спирт, добрые старые пощечины, наконец? Но нет, Николай Павлович держался за чёртово ведро, словно оно было последним драгоценным обломком семейной традиции.
Когда я приходил в чувство, у меня недоставало сил вытереть волосы. Я обмякал на диване, и вода текла с прядей, монотонно капала на пол. Канцлер отрешённо прогуливался вдоль окна — без пиджака, рукава рубашки подвернуты, а на столе лежали его запонки. Я смотрел на них, как на хрусталь в руке гипнотизёра.
— Я вас никогда не спрашивал, — говорит Канцлер, — но как вы относитесь к искусству?
— К какому?
— К искусству как таковому.
Медали Адриана, аукцион в Русском музее, любовь Алекса к стихам и ненависть Фиговидца к поэтам — вот всё, что я знал об искусстве как таковом.
— А что, должно помочь?
— Искусство никому ничего не должно. Вы же не говорите, что Бог нам что-то должен? К Богу обращаются с молитвой, а не с требованием исполнить долг.
— Я про Бога не очень наслышан. Это что-то, связанное с Армагеддоном?
— Нет, это что-то, связанное с гармонией. Вы сейчас разъяты на части, и одни враждуют с другими, поэтому всё так трудно.
— Не вы ли говорили, что для человека гармония невозможна?
— Разумеется. Зато возможна такая степень дисгармонии, при которой человек вообще перестаёт существовать. Бог и Искусство гармоничны; на их недоказанное милосердие мы и уповаем перед лицом хаоса.
— И что мне теперь, Сологуба читать?
Канцлер воззрился на меня почти ошарашенно.
— Это было бы очень кстати. Простите, а откуда вы о нём знаете?
Я рассказал о своем знакомстве с Алексом — и про сестру Алекса рассказал — и, подумав, поведал о предстоящей свадьбе. Я видел, что Николаю Павловичу мучительно выслушивать сплетни, и жадность, с которой он всё же слушал, напоминала отчаяние кинувшихся в пучину порока или гибельной страсти. Я был рад, что ему плохо; мне даже самому стало значительно лучше.
— Илья был мне другом, — сказал он наконец. — Я рад, что он обретёт счастье.
— Ну, до счастья ему как до луны на четвереньках.
— Для души любить важнее, чем быть любимым, — ответил Канцлер просто. — Если душа не страдает, то что же это за душа? А если счастье не выстрадано, то как мы поймем, что это счастье?
— Не вы ли говорили, что счастье не имеет значения?
Он посмотрел полусердито, полусмущённо.
— Так и есть. Но нашим душам — всё равно.
— По-моему, вы сами влюблены, — брякнул я.
— Мне сорок лет.
— Илье Николаевичу это не помешало.
— Илья Николаевич живет другой жизнью.
— Да, уж на него-то варвары не наседают.
Канцлер нежданно улыбнулся: мягко, грустно, как-то так, что захотелось (на что и был расчёт) извиниться.
— Вы мне тоже не верите? И ладно. Ждите дня, когда придётся поверить собственным глазам. Как это вы сказали… Армагеддон?
— Кстати о любви. Вы до своего Армагеддона не доживёте. Кропоткина любили очень многие и очень сильно.
Теперь улыбка была откровенно надменной, пренебрежительной.
— Что сможет мне сделать это отребье?
— Вот уж не знаю, — сказал я. — Сильные чувства делают людей изобретательными.
Радостных на улицах стало больше, листьев на деревьях — меньше, солнца — вообще нисколько. На Город обрушились наводнения. В провинции бушевал грипп, росла инфляция, менты и авиаторы обезумели, словно сдавали квартальный отчет своих чёрных дел. Я шёл из аптеки.
На меня навалились сзади и ударили — насколько могу судить, сразу и по ногам, и по голове. Падая, я ещё не унывал, но через пару минут выяснилось, что судьба приготовила мне адресные побои, а не случайное ограбление. Били втроем или вчетвером, и, приглядевшись к обуви, я начал соображать.
Я не чувствовал страха, только боль. Самым гадким было ощущение, когда рот наполнился кровью. Наконец бойцы взяли паузу.
— А, — сказал я, отплевываясь и озираясь, — знакомые всё лица. Приветик.
— Поговорим, — предложили мне без вопросительной интонации.
— Ты меня удивляешь, товарищ. Или убивать, или разговаривать. По крайней мере, мне говорили именно так.
— Когда ты убивал или когда ты разговаривал? — спросил, подходя, Поганкин.
— Уже не помню.
Я оглядел их: Дядя, которую трясло от гнева и горя; довольно улыбающийся Недаш; кладбищенский функционер, забыл, как его; угрюмая рожа Злобая. На лице Поганкина читалось умеренное, почти сочувственное любопытство.
— Не хочешь соображать, — сказал Недаш.
— Хочу, но не получается.
— Нам нужна информация.
— Стволы вам нужны, а не информация.