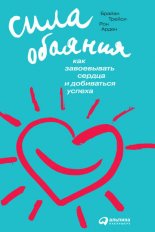Щастье Фигль-Мигль
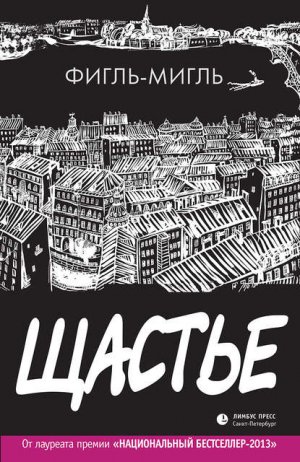
СЕЙЧАС
1
В аптеке я купил новую зубную щётку и кокаин. Это было утром — холодным, дождливым. («Утро туманное, утро седое», — пело аптечное радио незнакомым древним голосом. Голос падал, как капли сырости, откуда-то сверху на прилавок и маленькую отрешённую женщину в сером халате, на котором неожиданно ярко блеснул значок Лиги Снайперов.) А в шестом часу, пройдя блокпост, я шёл по Литейному мосту, и погода казалась прекрасной. Город мерцал в рассеянном свете апреля, вода блестела, небо становилось все прозрачнее, воздух — чище. Чистоту и покой можно было есть большой красивой ложкой, серебряной-пресеребряной. Всё, что вырастало впереди, слева и справа — дома тихой набережной, перламутровая стрелка Васильевского острова, — словно улыбалось со сдержанной радостью, растворяя в одной сияющей чаше жемчуг воздуха, архитектуры, воды.
На уходящих в воду гранитных ступенях кто-то оставил, намереваясь вскоре вернуться, складное деревянное кресло. На кресле лежала книга. Вещи терпеливо ждали своего владельца. Я повернул направо.
На парапете, лицом к воде, свесив ноги, сидел маленький мальчик в вязаной шапке с козырьком и аккуратном бушлатике. Его придерживала дама в просторном сером пальто. Её светлые длинные волосы были распущены.
— Мама, а кто там, за рекой?
— Никого, котёнок. Волки и медведи.
Я остановился послушать.
— Разве волки и медведи не в зоопарке?
— Там такие, которые бегают сами по себе.
Ребёнок задумался.
— А кто их кормит?
— Они сами.
Мальчик недоверчиво засмеялся.
— Как же они это делают? В зоопарке им дедушка привозит еду в тележке. Как они сами будут возить и класть в миски?
Мама тоже задумалась.
— Они едят друг друга.
— Сырыми? — спросил мальчик в ужасе.
— Не думай об этом.
— Там не волки и медведи, а такие же люди, как ты, — сказал я.
Мальчик ойкнул. Дама обернулась. У неё было уверенное, приветливое, милое лицо. Почти у всех богатых такие лица. Совсем молодая женщина посмотрела на меня укоризненно, потом — с тревогой. Она дёрнула головой, выискивая городового. Чтобы успокоить её, я снял тёмные очки. Увидев мои глаза, она смущённо закусила губу, опустила голову. Потом нерешительно сняла сына с парапета. Очень похожий на неё мальчик смотрел на меня без испуга, со спокойным любопытством приручённого зверька. Такой взгляд был у белок в Летнем саду. Взрослые кормили их фисташками, а дети — выковырянными из шоколадок орехами, и никто никогда не обижал на памяти пяти человеческих поколений.
— Пойдем, Котик, нам пора к обеду.
Он послушно дал ей руку. Его ясные глаза и ясные пуговицы отразили мою улыбку. Когда они уходили, держась за руки, их фигурки растворил неожиданный и быстрый, как молния, солнечный луч.
Первый клиент жил на Фонтанке, напротив Замка, занимая третий этаж небольшого весёленького домика. И бизнес у него был весёлый: экстремальный туризм. Его люди водили богатых шалопаев на наш берег. Это было нелегально, грозило крупными штрафами, если любителей адреналина ловил береговой патруль, и сложными переломами, если их ловила Национальная Гвардия. Их могли поймать менты, дружинники, члены профсоюзов, китайцы, анархисты, мало ли кто — любая банда или ассоциация — и потребовать выкуп. В конце концов их мог, поймав, покалечить или убить — насколько убийство вообще было возможно — кто-то из радостных, или авиаторов, или Лиги Снайперов. Кого когда-либо отпугивали подобные вещи? Никого. Чем бессмысленнее и опаснее было путешествие, тем дороже оно стоило, и мой клиент процветал даже с учетом всех штрафов и взяток. Зато его донимали привидения. По крайней мере, он был уверен, что донимают. Время от времени я пытался его разубедить, от этого он нервничал ещё сильнее и вызывал меня ещё чаще. А порою он оказывался прав, и привидения появлялись: давние жертвы среди экстремалов и персонала фирмы. В такие дни он цеплялся за меня до синяков и так потел, что его запах прилипал к белью, мебели, стенам комнаты, моей одежде.
Он принял меня в спальне. Не понимаю, почему они все вбили себе в головы, что мне удобнее, а им приличнее разыгрывать этюд «доктор и тело в постели». Может быть, когда собственные тела, голые и придавленные одеялами, казались им такими беспомощными, моё могущество в их глазах многократно возрастало.
— Дорогой, — простонало тело, — скорее, скорее.
Я киваю, сажусь на край многоспальной кровати, беру его руку и ободряюще хмурюсь. Правильнее было бы ободряюще улыбнуться, но этот клиент не любил, когда я улыбался, он требовал серьёзного отношения, не совместимого, на его взгляд, с улыбкой. Он был уже пожилой человек — мягкий, пугливый, лишённый чувства юмора и плохо вязавшийся со своим энергичным и зловещим бизнесом. Точнее всего будет определить его словами «старый пидор». Я смотрю ему в глаза.
Зрачок медленно расплывается по радужной оболочке, гася чёрным сперва её ртутно-серый блеск, потом белки глаз, лицо, комнату, весь мир. Погружаясь в темноту, я перестаю чувствовать своё тело — от головы к ногам — и утрачиваю слух. Я вижу разрозненные предметы. Осенние листья, комок из пуха и перьев, перчатка, кожаный рыжий блокнот, термометр, упаковка аспирина впаяны в чёрное, как музейные экспонаты в бархат. Кое-где попадаются не вещи, а слова («смерть», «кофе», «жирно») и ряды цифр: короткие, как номера телефонов, длинные, как банковские расчёты. И вот я попадаю в парк, почти точную копию Михайловского сада. Он пуст; здесь чисто, гуляет ветер, ветер несёт по песку листья и пряди состриженной с газонов травы. Я иду, нагибаюсь, переворачиваю палые листья, заглядываю под кусты, иду туда, где краем глаза уловил мелькнувшую тень. Я обхожу всё, и никого не вижу. Напоследок я останавливаюсь у озерца на самом краю парка — за ним уже ничего нет, всё мутнеет, расплывается серой кашей тумана. В озерце поверх воды плавает полузастывший вязкий жир. Здесь тяжело дышать. Я сажусь на скамейку, жду. Под ближайшим кустом лежит в траве яркая детская игрушка: попугай, раскрашенный в семь весёлых цветов. Попугай очень старый (царапины, щербины, краска облупилась, одна лапа отломана, неглубокая вмятина не наполнена глазом), но вид у него живой и сварливый. «Тронь, тронь, попробуй», — говорит он на понятном нам обоим языке. Мне не встречались привидения в виде старых деревянных игрушек, но я знаю, что игрушки не беззащитны. Мне хочется посмотреть, из чего были сделаны глаза. (Второго глаза, который, возможно, цел и способен удовлетворить моё любопытство, я не вижу; придётся встать, дотронуться, перевернуть или взять в руки.) Жирные волны загустевшего воздуха разбиваются о мой первый шаг.
— Вам нужен не я, а врач, — сказал я наконец. — Что-то с печенью, а?
— А-а-а, — передразнил он недовольно. — А я так надеялся, что это они.
И он, и многие другие никогда не говорили «привидения», «призраки» или что-то в этом роде, лишь голосом позволяя себе подчеркнуть страх и отвращение, распиравшие изнутри какое-нибудь неприметное местоимение. Ещё ему очень хотелось спросить, что же я видел. Он не решался. Осторожно, как ставят гранёный стакан на стеклянную полочку, он положил руку себе на лоб. Мизинцем другой руки он смущённо, с безмолвной просьбой, немой надеждой, поскрёб мое колено.
— Парапсихология здесь бессильна, — сказал я. — Вызовите доктора, а он пропишет вам покой, диету, смену занятий, поездку в Павловск…
Он застонал и завертелся среди подушек.
— А на кого я оставлю бизнес?
— Да продайте его, — необдуманно пошутил я.
Он так и прыгнул. Он заметался по комнате, теряя и подхватывая тяжёлый тусклый халат, мигом переворошил груду флаконов на туалетном столике и, наконец, едва не влетев в зеркало, остановился перед ним, растерянно вглядываясь в жирного растерянного зеркального человека.
— Продать! Наследственный бизнес!
Это тоже было у них общее. Если твои дедушки до седьмого колена владели булочной или казино, или зубоврачебным креслом, или помойной ямой, ты тоже был обязан продавать хлеб, обирать игроков, изучать дыры в чужих зубах, контролировать вывоз мусора — как бы тебя от этого ни тошнило. Закон преемственности был неписаным, неоспоримым и безжалостным.
— И кому вы предполагаете его оставить?
— Надо жениться, надо жениться, — уныло пролепетал он, садясь в кресло спиной к зеркалу. — Погуляю ещё пару лет и женюсь.
Пара лет у него давно перевалила за пару десятилетий. У него не было ни братьев, ни сестер, ни каких-либо родственников. Он не мог надеяться, что всё как-нибудь разрулится. Он не мог свалить вопрос на компаньона, которого тоже не было. Он не мог больше оттягивать, хотя именно этим и занимался. Его совесть постоянно была обременена попытками то не думать о будущем, то думать. Наследственный бизнес делал его богатым и несчастным.
В довершение всего он был пацифистом. Привидения, по замыслу, его донимали, но он запретил мне их уничтожать. Только отпугивай, знаешь ли, пояснил он мне в первый же раз, просто отпугивай. Постарайся им втолковать. Как и что я мог втолковать призраку, его не интересовало. Он никого не хотел убивать, нет-нет. У него были принципы, принципы тоже были наследственные. Наследственная квартира, наследственный парадный чайный сервиз, наследственные серебряные ложки, наследственные проблемы с печенью! Даже пристрастие к мальчишкам не было у него благоприобретенным.
Один такой миньон вошёл сейчас в комнату с круглым серебряным подносом в руках. Поднос был заставлен графинами, стаканами, наполненным сластями серебром. Мальчик, похожий на красивую девочку — а может, это была девочка, похожая на красивого мальчика, — движением головы откинул со лба густые спутанные волосы и улыбнулся. Клиент ожил. Он подскочил, сам принял поднос, отнёс его на стол, вернулся и ласково ухватил андрогина за ухо, заставляя того повернуться в профиль.
— Кукла! — восхищённо восклицал он. — Антиной! Смотри, Разноглазый, как на медалях Адриана!
Половина Города была помешана на андрогинах и медалях. Один буйнопомешанный пижон даже водил меня в Эрмитаж чем-то таким любоваться.
— Душка, пусти, — сказал Антиной. — Не можешь без конфуза.
— Ты рот-то закрой, — сказал я. — Медали не разговаривают.
Мальчишка надулся и замолчал. Его старший друг взглянул на меня быстро, смущённо, с упреком, с уважением. Грубость была дурным тоном, дурной тон был почти преступлением — иногда они в этом нуждались. Кто-то один должен быть грубым, чтобы на его фоне кто-то другой ценил свою вежливость.
— Хочешь выпить, дорогой?
— Нет, у меня ещё клиенты. Кстати, о бизнесе: вам самому никогда не хотелось там побывать?
«Там» я подчеркнул примерно той же интонацией, которой он подчёркивал «их», хотя говорили мы о разном. Но он понял и всплеснул руками.
— Боже сохрани! Я никогда не понимал, как у людей хватает безрассудства соваться к… — он запнулся, — ездить за реку. Так рисковать, подумай только! И ради чего?
— Что там вообще такое? — лениво спросил андрогин. Он залез с ногами на кровать и лениво катался по ней, сминая шёлк многочисленных тряпок уверенными движениями красивого гибкого тела. Шёлк мерцал и струился.
— Как что? — сказал я, вставая и отдергивая штору, чтобы посмотреть, как ткань и его волосы вспыхнут в луче слабого солнца. — Волки и медведи.
Владелец экстремального туризма окончательно смутился.
— Ну, ну, мальчики, — расстроенно забормотал он, — полно! — Он улыбнулся мне. — Кстати, о клиентах. Что если бы ты как-нибудь — так, совершенно между прочим — поделился с доктором своими опасениями?
Его доктор, гроза пациентов, сам меня боялся. Кого, как не врачей, привидения посещают с наибольшей охотой? Среди моих клиентов он был самым терпеливым, беспрекословным, аккуратным в оплате. Хотя нет, платили все очень аккуратно. Это тоже было наследственным принципом.
— О вашей печени?
— Ну да. Ты бы сказал, что мне действительно нужен отдых…
— Я в Павловск не поеду, — заявил андрогин. — Там скука смертная и клубы как в каменном веке. Сидят старики по углам и пускают бациллы. Я закрылся платком и отключился, а потом болел гриппом.
— С кем ты ездил в Павловск? — ревниво и беспокойно спросил мой клиент.
— Откуда тебе знать, какие в каменном веке были клубы? — спросил я.
Оба вопроса Антиной пропустил мимо красивых маленьких ушек.
— А пока я спал, — продолжал он, с задумчивой гримаской разглядывая сперва свои ногти, потом — узорчатый край покрывала, потом, положив на этот узор руку, опять ногти, — какой-то тип упал в камин. Его вытаскивали, а он хоть бы что, даже не проснулся. А я проболел две недели, лежал в постели и пил антибиотики.
— Когда же это было? — беспокойство в голосе моего клиента было теперь не ревнивым, а участливым.
— Я так и не впёр, — закончил мальчишка, зевая, — от кого заразился. Они все кашляли. Разве это справедливо, Разноглазый?
Второй клиент не был клиентом. Я мог бы назвать её клиенткой, что тоже неточно. Она была клиенткой когда-то давно, потом у нас была связь, потом она сказала, что я разбил ей сердце, ещё потом — что погубил. Теперь она решила, что умирает. Впрочем, это могло быть и правдой. В любом случае, пока она умирала, я её навещал, если мне было по дороге.
В Городе предпочитали ходить пешком, хотя здесь был трамвай (№ 3 и № 7, ходившие по неменяющемуся расписанию незапоминающимися маршрутами). Велосипед считался простительным пижонством, считаные лимузины нуворишей публика аккуратно не замечала — и как только появлялись, втиснувшись в ежегодную квоту, очередные чужаки, эти красивые тяжёлые машины тут же меняли владельцев — а тот, кто год назад глядел Тримальхионом и наглым триумфатором, покупал себе трость и таксу, безропотно капитулируя перед укладом жизни своего нового окружения — и ещё через пару лет его дети писали в гимназических сочинениях о прогулках по городу, как о чувственном, никогда не приедающемся удовольствии…
Я иду через мостик, через трамвайные пути, через Марсово поле. Вот на скамейке, спиной ко мне, сидят два господина в почти одинаковых мягких пальто; вокруг скамейки повизгивают и скачут две блестящие раскормленные таксы: хвосты выражают волнение и радость, морды — как у хлопотливого, со множеством дел человека. На одном господине котелок, другой нервно приглаживает аккуратную непокрытую голову, теребит неразличимый выбившийся клочок за ухом. Господа разговаривают.
Я остановился послушать.
— Я ему говорю: ведь мы же договаривались, — торопился нервный господин, — а он мне: покажи контракт. Я ему говорю: мы договаривались, а он: покажи, где это написано. Я говорю: ты что, об устном соглашении не знаешь? А он: подавай в суд и поищи свидетелей. Ну что с ним делать?
— А давай его разорим, — сказал господин в котелке, наклоняясь погладить собаку.
— Какие ты, Илья, дикие меры предлагаешь! Человека сперва нужно воспитывать, а потом уже, если не помогло, мстить.
— Это не месть, а бизнес.
— Я хочу сказать: мстить за то, что он воспитанию не поддается.
— Свидетели есть?
— Какие свидетели! — воскликнул нервный в совершенном отчаянии. — Я ему говорю…
Я пошёл дальше.
Картинно-хрупкая горничная провела меня в затемнённую спальню. Женщина приподнялась со своих картинных подушек. Её лицо было серо-зелёным, под цвет глаз, протянутая мне рука — чудовищно худой. Она старалась быть спокойной и вежливой. Я видел, что она рада и что ей не по себе. Я придвинул кресло поближе к кровати.
— Вам лучше?
— Да, — сказала она сердито. — Я умираю.
— Вы не умрёте. От воспаления лёгких умирают только в старых книжках.
Всё, что при полном освещении блестит, в полумраке начинает очень приятно мерцать: полированное дерево, стекло, цветы и ваза, в которой они стоят, кожаный переплёт засунутой под подушку книги, ткань и кружевные прошивки пеньюара. Мерцание наполняло комнату, как лёгкий дым. На маленьком круглом столике стояла одинокая белая чашка с каким-то густым отваром. На стене я заметил круглого паучка. Она любила пауков и запрещала убирать в своих комнатах паутину.
— Я сейчас видел по дороге мальчишку с большим букетом, и сам он был не больше букета. Подходил трамвай, а он держал в охапке тюльпаны, и они закрывали ему лицо. А потом я подумал, что он закрылся нарочно. Нянька не могла добиться, чтобы он сдвинулся с места.
— Я люблю тюльпаны.
— Когда вам разрешат выходить, их станет ещё больше.
— Никогда не разрешат.
Паучок пустился в путь, вверх и в сторону, где перед ним лежал неширокой полосой солнечный луч, пробившийся сквозь какую-то щель в шторах. Добравшись до луча, он замер, словно на берегу светлой реки.
— Почему вам так хочется умереть?
— Я не хочу жить, — пробормотала она. — Как я могу жить? — Она отвернулась. — Есть вещи похуже неразделённой любви.
— И что же это такое?
— Любить, стыдясь своего чувства! — крикнула она и порывисто села. — Любить недостойного!
Некоторые женщины, разозлившись, становятся очень красивыми. И даже теперь, сквозь болезнь, сквозь корку мгновенно проступившего на лице возраста, её воодушевлённая мрачная красота разгорелась огнём. Я смотрел на огромные сверкающие глаза, длинные ресницы. Надменные ноздри длинного носа и злой рот были опалены лихорадкой. Я вспомнил другие безупречные, рассчитанные на эффект лица, и тяжелой стеной они встали между живым лицом и моим взглядом. Тогда живое лицо погасло.
Вспышка не прошла ей даром; она закашлялась, потом зажмурилась и замерла, забившись в глубь одеял.
Я позвал ее по имени.
— У меня только та надежда, что я умру, — сказала она глухо, не шевелясь. — Ты веришь, что я буду тебя мучить, Разноглазый?
— Нет, не верю. Я ведь тебя не убивал.
— Нет, убил!
— Нет, не убивал.
Отвар в чашке, наверное, давно остыл, на его тёмной поверхности появилась тусклая плёнка. Я перевёл взгляд на сухие тёмные губы.
— Не убивал, — повторила она. — Верно. А за рекой думают, что нельзя убить, разбив сердце?
— За рекой нет возможности думать о таких вещах.
— Животные, — сказала она с отвращением.
С того места, где я сидел, можно было, повернув голову, увидеть часть окна. Плотно укутанное, оно не пропускало свет, но свет за ним был, это чувствовалось. Кусочек шторы зашевелился и вспух, словно с той стороны на него кто-то дунул. Я почувствовал движение воздуха.
— Я могла бы тебя проклясть.
— Да, наверное.
— Ты таких видел?
— Проклятых? Видел одного. Он тогда уже был не жилец.
— Нет! — Она забеспокоилась, сжала руки. — Живи долго, любовь моя! Дольше всех, кто когда-нибудь будет тебе дорог! — Она немного задыхалась, но, возможно, от болезни, а не гнева или важных, торжественно глухих слов. Паучок, собравшись с духом, побежал и исчез. — Я не хочу твоей смерти! Я хочу, чтобы тебе было больно!
— Очень жаль, — сказал я. — Ну так как?
Она молчала и думала, потом кивнула.
— Что нужно делать?
— Нужен фетиш. У вас есть что-нибудь дорогое… на память обо мне?
Она неожиданно покраснела, сунула руку куда-то под перины и извлекла серенькие с коричневым рисунком трусы.
— Вот те раз! Как же это я без трусов ушел?
— Вы торопились.
— Ну, хорошо. — Я помог ей сесть поудобнее. — Теперь сосредоточьтесь и проклинайте.
Она сидела молча, неподвижно, устало сжимая нелепую тряпочку. Она смотрела в сторону.
— Дышите глубже.
— Я не могу, у меня всё заложено.
— И голову поднимите.
— Так?
— И не моргайте.
Она опять долго молчала и думала.
— Да, — сказала она наконец. — Проклинаю. — Это прозвучало тихо, устало, почти виновато. — Не приходите больше. Не ходите на похороны. Вам всё расскажут.
— Я никогда не хожу на похороны. — Я придвинулся, наклонился и поцеловал её закрытые глаза. — Мне жаль, но вам просто не от чего умереть. Люди не умирают оттого, что им грустно.
В скверике у Эрмитажа стоял пикет защитников дикой травы. Я прочёл на аккуратном плакате:
ГАЗОНЫ УБИВАЮТ ПРИРОДУ.
СОРНЯКИ ТОЖЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ!
Чистенькие опрятные пикетчики дали мне листовку: на блёкло-сиреневом фоне, в меланхолической китайской манере, тушью был нарисован репейник.
Отсюда уже рукой было подать. Я в первый раз шел на Васильевский остров, к новому клиенту. Сегодняшнему клиенту № 3, если всё же причислять мою бедную возлюбленную к клиентам. Она мне заплатила за консультацию, хотя могла этого не делать. Вероятно, хотела унизить. Я сунул руку в карман, на ходу достал и пересчитал деньги. Ничто не украшает богатых так, как щедрость.
На В.О. жили фарисеи. Как богатые отгородились от быдла, так фарисеи отгородились от всего мира. На Дворцовом мосту тоже стоял блокпост. Это был, наверное, самый разгильдяйский блокпост на свете. Витавший в небесах охранник оторвался от толстой книжки и благодушно махнул рукой, не взглянув на приглашение, которое я держал наготове.
Охранник сидит на лавочке, защищённый от ветра; приваливается спиной к своей игрушечной дощатой будке. Он отрешённо улыбается моему пальто — пальто богатого сноба… кивает… опять ныряет в омут блёкло-желтых страниц. На нем тёплая куртка, на куртке — разноцветный блеск нашивок. Его губы трепещут. Широкое простое лицо с плавной точностью воды отражает трепет неисповедимых путей бумажной жизни.
— О чём пишут? — спросил я.
— Об индейцах. — Голос прозвучал гулко, словно из глубины поглотивших индейцев веков. — Сейчас убьют парня ни за что.
— Хорошего парня?
— Ну, знаешь, это уже философия. — Его взгляд, в попытке сфокусироваться на мне, качнулся из стороны в сторону. — Жалко же, когда один против всех.
— А на что он рассчитывал?
— И правда. — Охранник колупнул озадаченным пальцем страницу. — Ну и что?
— Ты с самого начала знал, что он погибнет.
— И что?
— Ты всё знал, и знал, что расстроишься.
— Да я не расстроился, — насупился он. — Мне просто жалко. И интересно, что дальше.
— Много осталось?
Он прикинул.
— К концу смены добью.
И я пожелал ему удачи.
Я спросил дорогу у бледного существа в круглых очках. Существо охотно, подробно и бестолково объясняло, потом выразило готовность проводить, потом достало из кармана потрёпанного ватника (позже я узнал, что это особый местный шик) мелок и, присев, начертало на старом потрескавшемся асфальте план улиц. Асфальт проседал, бледно-голубой мел крошился, тугодумная рука пальцем поправляла чертёж. Я поблагодарил. Существо приветливо и надменно улыбнулось и заспешило в сторону университета.
Здесь всё было очень древним. Даже камни набережной и зданий, казалось, никогда не были просто камнями; никто никогда их не отёсывал, не складывал, не подгонял друг к другу, и они так и появились в начале времён в виде набережной и зданий. В широких щелях асфальта мирно росла трава. То, что прежде было скверами, превратилось — это было видно и сейчас, когда деревья и кустарники едва покрылись зелёным, серо-голубым пушком, — в густые запущенные сады. Было еще тише, чем в Городе. Тишина катилась за моими шагами, тщательно подбирая — на лету подхватывая — осколки звука, звук. К вечеру дрожащая весна сбежала, рассыпав по земле мохнатые жёлтые цветочки, но её глаза смотрели то с неба, то меж стволов — сквозь сухие коричневые прутья, которые только через несколько недель станут диким виноградом; из-под ржавого после зимы плюща. Над неубранными кучами палой полусгнившей, прогревшейся листвы мреял пар. Где-то далеко глухо ухнул сорвавшийся камень. Цитадель фарисеев была похожа на лес, наверное, на забытый посреди холодного моря остров — нагромождение диких скал и хвои.
Фарисеи, посвятившие себя гуманитарным наукам, умели только читать, писать и презирать. Их отцы и прадеды тоже читали, писали и презирали. Всем выплачивался пенсион из городской казны, многие получали гранты от благотворительных фондов и частных лиц, многие работали у богатых: учили их детей в гимназиях и на дому, обслуживали музеи. То, что они не следили за своим островом, нельзя было списать на бедность.
Я добрался без приключений, но в большой мрачный дом вошел с чувством, что могу и не выйти: этот дом обещал рухнуть в любую минуту. (Дома порою действительно падали, вываливая на тротуар — или, наоборот, заботливо собой прикрывая — своё содержимое. Причем падали как раз не самые трухлявые на вид. Фарисеи гордились.)
Новый клиент принял меня — отрадное разнообразие после спален, до краев полных чужой, неприятной потаённой жизнью — в кабинете. Здесь были книги, стол, несколько кресел и, в широком окне, вид на укутанную смявшим её формы плющом церковь. У окна он и сидел, не делая попыток выбраться из глубокого кособокого кресла.
Ну что, он был старый. В той поре старости, когда человек перестаёт беспокоиться сам и никого не беспокоит. Его волосы, кожа, глаза были старыми. Старым было всё вокруг: мебель, паркет, запах. Из окна были видны старые дома, старые деревья. Всё соответствовало моему представлению о фарисеях.
— Аристид Иванович, — сказал он хрипло, сварливо.
— Что?
— Моё имя.
— Ах да, — сказал я. — Очень приятно.
У них, конечно, были имена — настоящие сложные имена. А я жил там, где люди отзывались только на клички и на своё официальное имя походили не больше, чем на свою же фотографию в паспорте.
— Прошу садиться. — Он неопределённо махнул рукой.
Я огляделся, приметил стул-замухрышку, придвинул, сел и положил руку старику на запястье.
— Как привычен вам этот жест, — пробормотал он.
Пульс был лихорадочный. Глаза были старческие, голубенькие, почти бесцветные. Я смотрю в них, смотрю, вглядываюсь — и ничего не происходит. Зрачок неподвижен; непроницаемым жидким стеклом глаз стоит между мною и Другой Стороной. Я вижу мутный белок, красное волокно лопнувших сосудов, выпавшую, повисшую на краю века ресницу, комочек гноя в углу. Наконец я сдаюсь.
— Вы должны расслабиться, — сказал я, признавая свое поражение. — Я так не смогу. Как я войду, если вы не пускаете?
— Пока и не надо, — заявил он. — Это понадобится позднее. Я хотел на вас посмотреть.
— Вы видите сны?
Он фыркнул.
— Сны! Мало ли что человек видит во сне! Знаете, было такое древнее поверье, будто в зрачках убитого застывает отражение его убийцы?
— Знаю. А на самом деле всё наоборот.
— Никто не знает, как на самом деле. Привидения не придумывают себя сами.
Слово «привидения» выговорилось у него так же бездумно просто, как предложение взять стул.
— Не знаю, что ответить. Я-то знаю точно, что они есть.
— Вы знаете, что есть люди, которым привидения являются, а больше не знаете ничего.
— Но как может являться то, чего нет?
— Точно так же, как вы можете брать деньги за то, чего никто кроме вас не видит.
— Люди видят сны, — сказал я терпеливо. — Они видят одно до того, как я отработаю, и другое, более приятное — после. Поэтому они и платят. У каждого есть причины бояться мертвых.
— Это не значит, что мертвые опасны.
Переговорить его, судя по всему, было невозможно. Я спросил, что от меня требуется теперь, когда он «посмотрел».
— Не обижайтесь, — отозвался он неожиданно мягко. — Я верю в мёртвых, верю в Другую Сторону, готов поверить, что вы, разноглазые, умеете с ними обращаться. А во что верите вы?
Я замялся, не понимая, чего он хочет.
— Нет, правда, вы во что-нибудь верите?
— Даже не знаю, — сказал я. — В последний раз подобный вопрос мне задал человек, который был готов говорить о чём угодно, лишь бы не смотреть на свой вспоротый живот.
Старикашка фыркнул.
— Я кажусь вам назойливым. Так и что вы ему ответили?
— Я не успел ответить. Он умер.
— И он вам потом являлся?
— Почему бы это? Я его не убивал.
— А кто его убил?
— Его убило привидение.
— А вы-то на что?
— Я не успел. Меня вызвали слишком поздно. Ему нечем было платить, и он оттягивал, думал, что справится.
— Значит, не справился?
— Никто не может справиться сам.
— А почему вызвали вас, а не скорую? Вы и кишки сшивать умеете?
Я засмеялся. Он тоже хрипло закаркал, куда-то потянувшись и извлекая бутылку.
— И правильно, — сказал я.
За всем этим я еле успел перейти мосты до полуночи. Родной берег встретил меня полосой отчуждения, а потом — вонью, горами мусора, а потом, в виде салюта, из кустов кинули пластиковую бутылку. И первое человеческое лицо, которое я увидел, была искажённая улыбкой морда радостного.
2
В аптеке я купил кусок лавандового мыла и кокаин. Это было утром. Утром мне всегда трудно куда-нибудь себя деть. Заняться мне нечем, а каждый, кого я намереваюсь повидать, занят или отсутствует, или сам хочет, чтобы его развлекали. Жизнь ещё не проснулась, проснулись только рефлексы. Драйва в людях не больше, чем в их кофемолках, фенах, электробритвах, машинах, станках, к которым они поедут. Это закон утренних часов.
Но правила существуют за счёт исключений. И сегодня дома оказался Муха.
— Ты когда-нибудь думал, как нелегко убить муху в полёте? — сказал он вместо приветствия, впустив меня и возвращаясь на кухню. Я пошёл следом.
Я устраиваюсь под прикрытием большого нового холодильника и слежу, как Муха ожесточённо размахивает полотенцем. На пол падают: дешёвая книжонка — развеивая влажные несвежие листы, пепельница — рассыпая бессчётные окурки, корзинка — расточив луковую шелуху; летят сигареты, клочки бумаги, целлофан, хлопья жизнедеятельности.
— Если ее не ликвидировать вечером, — шипел Муха, — утром она не даст мне спать. Проклятые мухи просыпаются раньше птиц.