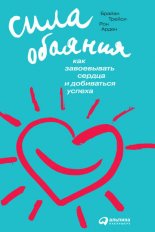Щастье Фигль-Мигль
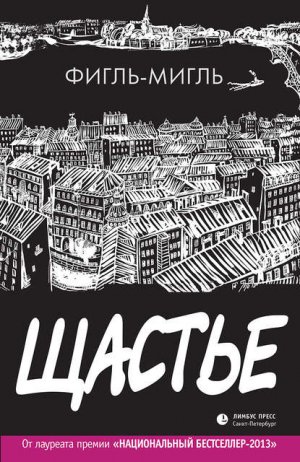
Поганенькая морда Недаша ничем не выдала его поганеньких чувств. Остальные стали переглядываться.
— Информация, — сообщил Недаш, — является оружием большим, чем просто оружие. Особенно противопоставленная циничной и лживой империалистической пропаганде…
— Откуда вы узнали?
Они поняли.
— Мне сон приснился, — выдавила Дядя.
В какой-то момент я готов был поверить. А что? Я гуляю под проклятьем, кому-то снятся вещие сны: у жизни есть варианты. А скорее всего, они завели себе человечка в Исполкоме.
— Если убьешь Канцлера, я и для тебя отработаю, — пообещал я Дяде. — Расценки известны?
— Ты на что нас подбиваешь, двурушник? — брезгливо поинтересовался Недаш. — На Охте целая армия под ружьем.
— Ну, — протянул Злобай, — если с умом… И сквозь армию пройти можно.
— Подожди, товарищ. Анархисты отвергают вендетту.
— С каких это пор мы отвергаем вендетту? — спросил Поганкин изумлённо.
— С тех, когда стали беречь каждую пару рук, способных послужить нашим высшим целям.
— На хуя мне высшие цели, если я не могу отомстить за смерть товарища?
— Кропоткин умер для того, чтобы жило его дело!
— Да он вообще не собирался умирать.
— Как это произошло? — спрашиваю я. И напрасно: мне ответили новыми колотушками.
— У вас совсем головы не работают? — простонал я в интерлюдии. — Зачем сапогами? А если я сейчас подохну?
— С чего тебе подыхать? — удивился Злобай. — Подумаешь, попинали. Разговариваешь связно, глаза глядят, печень цела — а если фрагментарно не очень цела, так не надо было дергаться.
— Откуда тебе знать, что у меня цело, а что не цело?
— А откуда знаешь ты, что я знаю и чего не знаю?
— Вы, оба, — говорит Поганкин, — довольно демагогии. Нужно продумать техническую сторону вопроса.
— Чего тут продумывать? — Злобай проверяет, не испачкал ли сапоги кровью; я осторожно нащупываю — где же они? — ребра. — Выманим гада из Исполкома, а там…
— Может, лучше самим в Исполком пробраться? — предлагает Дядя.
— А уходить как будем?
— Я запрещаю вам, — неожиданно сказал Недаш. — Запрещаю даже думать об этой безответственной и политически вредной… эскападе.
Диковинное слово, произнесенное внушительным тихим голосом, на какое-то время всех лишило дара речи — словно пощёчина. Поганкин первым очнулся и потер щёку.
— Ты. Нам. Запрещаешь. — Он зевнул. — Слышал, Злобай? Интересно, как это «запрещаю» выглядит? На что оно похоже? Это зверёк, Злобай, или, может, птичка?
— Рыбка!
Недаш побледнел, и его тонкие губы, сжавшись сильнее, почти пропали на лице.
— Я председатель сводного…
— Мы никого ни с кем не сводили, — перебил Поганкин. — Или как это правильно называется, подскажи, Злобай — не сводничали? Нам это ни к чему. Похуй, если сказать одним культурным словом. Или это два слова? Злобай, ты в школе хорошо учился, не подскажешь?
— Меня выбрали большинством голосов, — напомнил Недаш.
— Так мы не против. Нравится тебе быть председателем — будь им. Только в чужие дела не лезь со своим колокольчиком.
При слове «чужие» Недаш улыбнулся.
— Надеюсь, — вкрадчиво сказал он, — мы не станем обсуждать внутренние разногласия при этом… выродке?
Все посмотрели на меня. Злобай кивнул.
— Разноглазый, говори сейчас, с кем ты. С нами?
— Ты знаешь, что нет.
— С Канцлером?
— Нет.
— Бесполезная трата времени, — Недаш посмотрел на Поганкина сочувственно и с превосходством. — Он с тем, кто больше заплатит. Шпион. Стукач. Доносчик. Завтра же власти будут осведомлены об этом разговоре. О твоих планах, Поганкин. И о том, товарищи, что в рядах анархистов нет необходимого единства.
— Он нас не выдаст, — сказал Поганкин угрюмо. — Это не его… бизнес.
— Всё так, — пробормотал я, стараясь не стонать. — Поганкин! Зачем били-то? Это бессмысленно.
— Понимаю, что бессмысленно. Но сердцу не прикажешь.
Сутки я отлёживался, а потом пошёл к Миксеру просить об охране и к Алексу — за Сологубом. Миксер выделил мне двух инвалидов, Алекс выделил потрёпанную книжку, и экипированный таким образом, я взглянул в будущее как мог бесстрашно.
Сидя то в одной, то в другой забегаловке, я переворачивал страницы, и свет скудно падал от мутнеющих, залитых дождём окон, и возлагать надежды на Искусство было так же перспективно, как на Бубона и Родненького, маявшихся у дверей.
Два неисцелимых идиота — полушкольник и полупенсионер — и стихи, которыми только порчу наводить. Как все эти «стылый», «постылый» и «безнадежный» служили службу мировой гармонии? Но я послушно читал и был вознаграждён, дочитавшись наконец до состояния, когда мне всё опостылело не понарошку. Застав меня как-то кротко пялящимся в вечность, Муха сказал:
— Я простой человек. А простые люди, когда чего-то не понимают, начинают дёргаться.
— А?
— Я говорю, грузишь ты себя не по понятиям.
— А…
— Что «ааа»? Не у врача, блядь.
Я потер пальцем нос, переплёт, край стола, сморгнул — ни Муха не исчез, ни мир не стал краше.
— Излагай, что стряслось.
— Разноглазый, в том и тема, что когда стрясётся, не успеем перетереть.
— Ну?
— События выходят из-под контроля, — пафосно сказал мой друг.
— Не понимаю, о чем ты. Разве мы их когда-нибудь контролировали?
— Может, зря?
Я не знал, что и думать. На моих глазах из-под контроля выходили не столько события, сколько реакция на них хорошо мне знакомых, вдоль и поперек исхоженных людей.
Ободрённый Муха продолжал:
— Я тут уснуть не мог, ну и гонял в голове разное. Всё пытался понять, когда я стал человеком, от которого ничего не зависит.
— Ты им не стал, ты им родился.
Муха кивнул, но думал явно о своём.
— Вот я родился… рос… вырос… Живу… У меня есть мысли какие-то… чувства…
— Какие-то? — вставил я.
— А теперь я даже могу сказать, что повидал мир.
— И что нового ты увидел?
— Да много всего, — невозмутимо отмахнулся он от насмешки. — А главное, я старое по-новому увидел. Почему мы все… Ну это, когда… Типа…
Его сбивчивые горестные попытки нащупать смысл жизни вязли в топи слов, которые — если бы они вдруг и зазудели у него на языке — он постыдился бы произнести. Я помахал официанту, передвигавшемуся неторопливой трусцой.
— Так ты чего хочешь? Справедливости?
— Выжить я хочу.
— Кто ж мешает?
— Я помню, ты говорил, что мелкого раздавить труднее. Но…
— Но ты расхотел быть мелким. Теперь определись, в кого ты себя готовишь: в радостные, в анархисты или в губернаторы?
Муха обиделся.
— Почему ты со мной так говоришь?
— Я говорю с тобой голосом рассудка.
— Рассудка? А в руках у тебя что?
Я отложил книгу.
— Это надо по работе.
Подлетел халдей с новой бутылкой и чистыми стаканами. Муха потряс головой, возвращаясь к жизни.
— Зачем тебе охрана? — спросил он, глядя на Родненького. Тот старательно жевал пирожок за соседним столиком, и усталость на его лице удостоверяла возраст надёжнее любой пенсионной книжки.
— От радостных.
— Неужто они так разукрасили?
— Ага. А ты на кого подумал? На Плюгавого?
— Зря смеёшься. Он опасный.
— Опасный, но смешной.
Муха наконец развеселился. Его депрессия приходила и уходила быстро, как летняя гроза. Фиговидец, наверное, охотно бы поменял на такую свои угрюмые затяжные муки.
Я стою на крыше Исполкома, а напротив меня, на самом краю, истаивают последние клочки и лохмотья того, что когда-то было Кропоткиным. Дикая радость от сознания собственной силы понуждает меня вкладывать в последние усилия больше агрессии, чем необходимо; сейчас я готов размолоть в пыль не только привидение, но и всю Другую сторону целиком.
Никуда они не делись, мои силы: ушли как вода под землю, поблуждали во тьме и вновь наполнили колодцы. То, что хлынуло из меня радостью насилия, не нуждалось в оправдании: счастье, жизнь. Ещё немного, и я бы запел.
— Значит, — говорю я, — искусство служит злу?
Канцлер улыбается вполне по-человечески.
— А вы считаете себя злом? Повторяю, искусство ничему не служит. Оно не дрессированное животное, чтобы служить. Оно просто помогает тем, кто об этом просит. Иногда.
— Как духи?
— Примерно.
Я вспомнил человека, которому духи, несмотря на все его мольбы, не помогли.
— Не понимаю, — сказал я скорее своим мыслям, чем Канцлеру.
— Могу объяснить.
— Сделайте одолжение.
— Все думают, что гармония — это что-то светлое, радостное. А гармония — лишь баланс между болью и восторгом. Когда боль невыносима, когда восторг невыносим, в какой-то миг наступает умиротворение. Похоже на то мгновение, когда умирающий еще не труп и уже не человек. Что-то происходит, когда он распадается на труп и душу. Теоретически рассуждая.
— Это ещё доказать надо, что распадается.
Канцлер внезапно прекратил шагать по комнате и устроился на диване у меня в ногах. Я приподнял голову. Он полулежал, обмякнув, бледный, измученный, не сомневающийся. Я не знал, сколько ему осталось жить. Вполне достаточно, чтобы убить кого-нибудь ещё.
— Как повернулась жизнь, — сказал он задумчиво и тоже скорее своим мыслям, чем мне. — Не попади я сюда, разве додумался бы? На нашем берегу, — «на нашем» он произнес с непередаваемой интонацией, — начинаешь или презирать философию, или наконец понимать, что она такое.
— И что она такое? — Я потянулся за египетскими. — Или вы из тех, кто презирает? Будете?
Николай Павлович воззрился на сигарету. Сперва он не мог сообразить, потом сообразил и рассердился.
— Поговорим об оплате, — сказал он, поднимаясь и становясь прежним Канцлером.
Так я и не узнал про философию.
Через пару дней я обедал с Аристидом Ивановичем и Вильегорским. Старики были в прекрасном настроении, благодушно подначивали друг друга, а со мной обращались с весёлым одобрением, как с лабораторным животным, которое исхитрилось не сдохнуть после серии важных опытов.
Разговаривали они преимущественно о своём, то и дело быстрой ядовитой репликой не давая мне расслабиться.
— Вы не выглядите победителем, — сказал Аристид Иванович.
— А кого я победил?
— Допустим, свою судьбу.
— ВЗЗДОРРР! ПО-БЕ-ДИТЬ СВОЮ СУДЬ-БУ? С ТАКИМ ЖЕ УС-ПЕ-ХОМ МОЖЖНО СА-МО-МУ СЕБЕ ОТ-ГРЫЗТЬ ГО-ЛО-ВУ.
— Но лапу, например, отгрызть можно?
— Поверьте, ничего я себе не отгрызал.
— Было бы что, — фыркнул Аристид Иванович. — Вильегорский, вот если бы вы не сунулись… Нечего смеяться, молодой человек. Лучше бы трепетали.
— Я трепещу, трепещу. Разве не видно?
— Нет. Вы даже трепетать как положено не умеете.
— НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ПРИВВ-ЛЕ-КА-ЕТ.
— Да, я привлекательный.
— ВЫ СМЕШШШНОЙ.
— Наконец-то вы меня раскусили.
— А правда, Разноглазый, — ухмыляется Аристид Иванович, — вы чему-нибудь научились?
— А как же. В профессиональном и личном плане.
Теперь ухмыляется Вильегорский.
— ВИДЕТЬ СНЫ — ЭТО ЕЩЁ НЕ КА-ТА-СТРО-ФА?
Я собираюсь сказать, что в любом случае выработал иммунитет к катастрофам, но говорю так:
— Катастрофа — дело наживное.
Сон, который мне приснился, мог быть и вещим — в таком случае меня ждала долгая счастливая жизнь.
Я стоял посреди великолепной пустыни и, хотя глазами не видел ничего, кроме песка и неба, сердцем угадывал недалёкое — всего лишь за линией горизонта — присутствие воды, травы и певчих птиц. Я мог пойти туда, а мог не пойти: меня не жгло желание удостовериться. Я и без того знал, что они есть: вода, трава, птицы.
Я сидел, пересыпал в руках песок, песчинки казались микроскопическими фигурками людей. Мне редко бывало так хорошо.
Прямо из сна, толкнув дверь, я вышел на улицу. Подморозило, и небо расчистилось. Усатый дворник, опираясь на лопату, пил молоко из бутылки. Почему-то он был один, отбился от своих буйных собратьев, и это зрелище заворожило меня своей нереальностью. Лопата — грозное, остро заточенное оружие дворников, оставлявшее отвратительные шрамы — сейчас выглядела просто лопатой, молоко в бутылке было мирным, белым-белым, а сам дворник глазел на небо и улыбался в усы.
— Эй, — позвал я. — Сколько дней до Армагеддона?
— Ты чего, мужик? — сказал он. — Армагеддон был вчера.