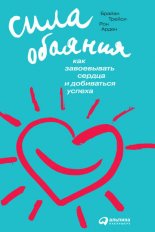Щастье Фигль-Мигль
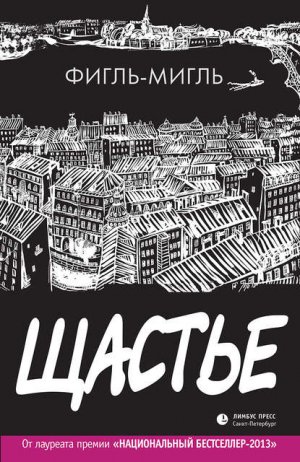
— Говорят, вы одному китайцу живому уши отрезали.
— Не всякий сплетне верь.
— Вот и я о том же.
— Ольга, ты нарываешься? — спросил Канцлер после паузы.
— Мы к вам, Николай Павлович, со всем должным почтением, разве ж не понимаем? Дело ваше нервное, а не проявишь почтения, так и по морде схлопочешь.
— Я тебя ударил хоть раз?
— Так ведь не потому, что не хотелось, а потому, что повода не даю. Вы человек справедливый, без повода девку мутузить не станете.
— Ну-ну, поговори.
— Уповаю на ваше великодушие.
— На мое терпение ты уповаешь.
— На это тоже.
Я здорово удивлён. Мне казалось, что любые проявления жизни должны отскакивать от Канцлера, как горох от стенки, но с этой девицей он определённо заигрывает — об этом говорят если не сами слова, то интонации. Девка тоже озадачивает: слишком бойкая, слишком самоуверенная, знает странные слова. В её голосе нет ни страха, ни безропотного обожания, которыми Канцлер окружён на Охте.
Я постучал и сразу же вошёл. Догадка моя не подтвердилась: они стояли довольно далеко друг от друга, к тому же между ними был стол. Девчонка оказалась из тех, чью красоту видишь, только если очень долго и внимательно приглядываешься — да и тогда не столько видишь, сколько придумываешь. Светлые волосы, злые глаза, шальная улыбка. Я перевел взгляд на Николая Павловича: ледяной, с головы до пят ледяной. Страшно представить, что бывает, когда такие ледяные не выдерживают.
— Не опоздал?
— А, Разноглазый… Добрый день. Проходите. Ольга, принеси напитки.
— Очередной ординарец? — поинтересовался я. — То-то Сергей Иванович переживает.
Канцлер что-то буркнул. Я кое-как выдержал его неласковый тяжёлый взгляд.
— У меня трое пострадавших, — начал Николай Павлович, удостоверившись, что я от его взгляда не помер и готов к сотрудничеству. — Если возможно, поработайте сегодня с каждым, хотя бы понемногу. Чтобы…
— Чтобы до утра дотянули? Они в таком плохом состоянии?
— Я вызвал вас сразу же, как только узнал, — угрюмо и нехотя объяснил он. — От меня, к сожалению, скрывали. — Он оглянулся на появившуюся в дверях Ольгу. — Это прискорбное происшествие.
На принесённом подносе я обнаружил две чашки, кофейник, молочник, сахарницу, ложки, льняные салфетки, графин с коньяком и один бокал.
— Они действительно выучиваются, — заметил я, наливая себе коньяк. — А вы так и не пьёте? Ладно… не убирайте далеко… Идём.
Трое гвардейцев меня не порадовали — тем, главное, что глодал их не страх, а какое-то затаённое страдание. «Что ж вы таились, партизаны, — бурчал я, поочерёдно заглядывая им в зрачки. — Ну, кто первый? Давай ты, парень. Чекушка, верно?»
— Чекушка, Чекушка… Костя я. Не хотели ему лишнего беспокойства… Бля, Разноглазый, да не жми ты так, руку сломаешь. У меня руки стали как из картона.
— Тебе кажется.
Я как будто и не покидал Исполкома: стою в слабо освещённом коридоре, слышу, как от лестницы доносится слаженный деловитый гул. Я озираюсь. Дверь справа начинает тихо поскрипывать: сквозняк ею играет или чья-то рука? Где ты, машинально бормочу я, покажись.
Сделав всё, что можно сделать за один раз для трёх человек, я лежал на диване в кабинете Канцлера и допивал коньяк. Канцлер прогуливался вдоль окошка.
— Говорю вам, это не мои клиенты. У них нервный срыв или шизофрения, или вообще что-то соматическое…
— Но они видят…
— Я-то почему не вижу?
— Я подробно, порознь расспросил всех троих, — терпеливо сказал Канцлер. — Они совершили убийство, в этом нет сомнения. Им с каждым днём хуже — это-то вы разглядели?
— Да. Убийцы налицо, а убитые прячутся. — Я вытер со лба испарину и поднялся. — Хорошо. Приду завтра.
— Если хотите, оставайтесь. У меня есть гостевые комнаты.
— Не хочу чувствовать себя гостем.
Покинув Исполком, я направился было к мосту, но тут же повернул в сторону. Не знаю, что на меня нашло: я вспомнил, что Жёвка спёр у Злобая ствол, вспомнил Фиговидца в хозяйском махровом халате. Кроме того, Злобай мог бы дополнить картину мира, поведав что-нибудь интересное.
Дверь стояла нараспашку. Оглядев квартиру, хотя не разграбленную и не загаженную, я сразу понял, что в ней давно никто не живёт. Я прошёлся, посидел в кухне на подоконнике. По улице, как тогда, маршировала ребятня. Я поймал себя на том, что ищу знакомые лица: девочку с санитарной сумкой, пацана то ли с барабаном, то ли со знаменем. Я прижал лоб к стеклу и долго смотрел им вслед.
Я нашёл Муху в Ресторане, в обществе коньяка и проститутки.
— Ну что? — спросил он мрачно, пинком отталкивая девку. — Побывал?
— Уже знаешь? Откуда?
— Гвоздилу сегодня стриг. — Он запнулся. — Живы они?
— Квартира Злобая пустая, а спрашивать я не стал. Может, завтра.
— А эти? А работал ты с кем?
— Я сам не знаю, с кем работал. Может, это и есть варвары? Во всяком случае, не анархисты. Не наши анархисты. Ничуть не похожи. Ничего общего.
— Ага! Всё-таки есть у варваров душа, — сказал Муха почти довольно. — А наши-то? Отцы-вымогатели?
Я отмахнулся.
— Странные замутили отцы дела этой осенью, но нам-то что?
— Ага. Мы народ маленький, подневольный. Раздавят и не почувствуют.
Я покачал головой.
— Маленьких раздавить тяжелее. Если они сами сдуру под сапог не лезут — кто их заметит? Ты мне лучше скажи, сколько дней до Армагеддона?
Вернувшись в полночь домой, я обнаружил заткнутую за косяк телеграмму. На этот раз вызов был с В.О. Я лег спать, так и не придумав, что понадобилось от меня Людвигу.
Людвиг отпер мгновенно, словно в ожидании звонка торчал под дверью.
— Господи, Разноглазый, что творится, — растерянно сказал он. — Как такое могло случиться?
— Сейчас посмотрим как.
Я стою на кладбище над свежей могилой и наблюдаю, как из-под края надгробия, обдираясь о камень, протискивается рука. Красивая рука, длинные пальцы. Сейчас они кровоточат. Я осторожно прижимаю их каблуком к земле… «Гроб пальцем не прокорябаешь, — говорю я, — а меня таким фокусом не удивишь. Как вы там, Саша? Чего не лежится?»
Неожиданно я понимаю, что мне было бы интересно с ним поговорить. Прежде подобные фантазии не приходили в мою голову, а если и приходили, я считал их неисполнимыми; в конце концов, я не всесилен. Теперь я отхожу в сторонку и устраиваюсь на соседней могилке. Александр выбирается на поверхность, мы смотрим друг на друга, и он улыбается. «Сволочная у вас работа», — вдруг слышу я, хотя его губы не шевелятся.
«Я её не выбирал. Для человека с разможжённой головой неплохо выглядите». — Это правда, голова цела. — «К чему этот маскарад?» — «Думаете, я знаю? Сигареты есть?» — «Я предполагал, что вы наглый. Но что до такой степени — это приятный сюрприз». — «Просто представь, что даёшь мне сигарету». Я исполняю просьбу, хотя это глупо и силы следовало бы беречь. Александр держит в разбитых пальцах сигарету и смотрит на неё. «Спички?»
Я замечаю, что на Другой стороне и кладбище другое. Те, на которых я побывал въяве, были полны своеобразной, но жизнью, это давит на меня страшным весом молчащей мертвой пустоты. Здесь нет никого и ничего — ни в гробах, ни над гробами, ни в кронах деревьев, которые не деревья. Страшным в таких декорациях становится и любезный насмешливый разговор, осторожная путаница «ты» и «вы». В пустоте я впустую трачу время.
«Разочарованы? — Его улыбка всё откровеннее. Разве вы не видите, что всё идет не так?» — «Я вижу только, что паранойя со смертью не проходит». И ещё я вижу, что у него слишком длинные ногти, и он небрит. «Тебя не живого похоронили?» — «Нет, с этим всё в порядке. Не беспокойся. Хочешь знать, что случилось?» — «Нет». — «Тогда почему, вместо того чтобы делать дело, ты повёлся на разговоры? Смешная ситуация». «Ну, — говорю я, — ситуацию я сейчас подправлю». И подправил.
— Разноглазый, ну как ты? — Людвиг перестал хлопать меня по морде и сунул под нос стакан. — Ты в порядке?
— Он на тебя сердится.
— Я его не убивал!
— Не убивал, так предал. Возьми себя в руки. Второй сеанс в пятницу. До пятницы потерпишь? Когда тебя устроит — утром, вечером?
Людвиг очнулся.
— Нет, — сказал он, — не нужно второго сеанса.
— Что значит «не нужно»? Ты понимаешь, что с тобой будет?
— Это дух, а не привидение.
— Какая теперь разница?
— Я всё понимаю. Я это заслужил.
— Да? А телеграмма тогда зачем? — Я взял со стола конверт с деньгами. — Не забывай, Людвиг, я тебя насквозь вижу.
— Ну и как, интересно?
— Не очень. Ты боишься, и тебя мучит совесть. Зачем мы сожгли его архив?
— Ты же не думаешь, что…
— Я вообще думать не обучен. А вот ты мозгами пораскинь.
Людвиг стонет.
— Как я мог с ним так поступить, Разноглазый? Он моей поддержки ждал, он… Почему он меня не предупредил? Проклятое заседание… Неужели я бы тогда промолчал, если б знал, чем всё закончится? Это как затмение находит с совести на рассудок… Когда ты не готов… Когда врасплох…
— Людвиг, уймись. Поздно выяснять, кто под кого лёг первым. Вот что, — я полез в карман за циклодолом. — Попринимай до пятницы.
— И ты всерьёз веришь, что совесть уймётся от таблеток?
— Я не верю, — сказал я, — я знаю. Совесть — та же наркоманка. На что подсадишь, на том и сосредоточится. И кстати: о бумагах не жалей, ты всё сделал правильно. Хотя никакой дух тебе не являлся.
Людвиг робко задвигался. Мне показалось, что он хочет ко мне прикоснуться, но он сдержался и потёр собственные руки.
— Разноглазый, — пробормотал он, — может, посидим, выпьем, а? Извини, пожалуйста, что говорю тебе об этом, но ты дурной человек. А с тобою так спокойно становится, спокойно, как…
— Как в могиле.
— Нет, как на кладбище в хорошую погоду. Лежишь на плите, на деревья смотришь… между деревьями небо голубое… И жизнь не кажется страшной.
— Это потому, что я страшнее жизни? — Я кивнул. — Ладно, давай посидим. Собирай поужинать.
2
Я заметил, что радостных стало больше. Чтобы пройти к блокпосту через полосу отчуждения, мне пришлось взять палку, и то я еле отбился. Раньше они не были такими агрессивными; должно быть, количество переходило в качество. В следующий раз мне придётся нанимать дружинников, дворников или шпану из малолеток — тех, кто ещё не определился, податься в профсоюз или к авиаторам.
Странно чувствовать себя уязвимым. Я всегда был под защитой своего дара; шарахались от меня. Когда-то давно я этим тяготился, потом начал пользоваться.
Аристид Иванович провёл меня в кабинет, усадил, уселся и протянул руку.
— Не ждали? — довольно спросил он. — Как думаете, после этого мы станем ближе?
— Нет. Наоборот.
— Наша взяла, а рыло в крови. — Он хмыкнул.
Я стою по колено в воде. Неглубокая вода во все стороны от меня, без конца и без края, насколько можно углядеть. Мелкая вода: заблудишься, но не утонешь. Её внутренний свет смешивается со светом сверху, и я вижу, какой божественной чистой радостью сияет чёрная душа. Я озираюсь, ища источник растущего во мне чувства опасности. В золотой дали прорисовывается мутная фигура. Я бреду к ней, борясь с водой. Что-то цепляет меня за ноги, обо что-то я спотыкаюсь сам. Мне тяжелее обычного, тревожнее обычного — и реакция тоже хуже обычной. Когда я, наконец, понимаю, кто передо мной, то не успеваю поднять руки.
— Это женщина!
— Да, — сказал Аристид Иванович спокойно. — Причём такая женщина, которую вы должны помнить.
— Только не говорите мне, что это вы её убили.
— Разумеется, не убивал. Она умерла от крупозной пневмонии.
— Откуда вы её знаете?
— Какая вам разница, откуда я её знаю? А вы меня откуда знаете? Всё взаимосвязано в этом мире нелепых случайностей.
— Да, только наше знакомство — не случайность.
— Это детали. — Он хихикнул. — Слухи только пусти, дальше они сами всё сделают.
— Вы верите слухам?
— Смотря каким, смотря о ком, а самое главное — смотря кто эти слухи распускает. — Он кивнул мне и улыбнулся. — Вы не можете отказаться. Вы прекрасно знаете, что будет, если я оповещу вашу клиентуру. Разноглазый, который боится привидений… Для вас это конец.
— Зачем это вам?
— Низачем. Я душеприказчик.
— Вы выбрали неудачный момент, — сказал я. — Нельзя ли эту маленькую месть, — я почесал нос, не уверенный, что точно подобрал слово, — отложить?
Аристид Иванович вздохнул.
— Зря вы так позоритесь, молодой человек. Впрочем, это дело вкуса.
Теперь вздохнул я.
— Вы не поняли. Я никуда не денусь. Но сейчас слишком много работы, я не успеваю восстанавливаться. В конце концов, пострадают мои клиенты, а не я. То есть я тоже, наверное, пострадаю, но они — больше.
— Что поделаешь. У всякого дела свои издержки. Может быть, наконец поймут, что убивать нехорошо. Ну что вы так сердито смотрите?
— Мне неприятно, когда что-то идет не по правилам.
— А вы считаете, что знаете правила? Все до последнего?
— Я знаю правила, — сказал я.
От Аристида Ивановича я пошёл к Вильегорскому. Зачем меня вызвал этот, даже гадать не хотелось. Я брёл под мелким дождиком и восстанавливал дыхание. Восстановил.
— Вы тоже душеприказчик? — спросил я с порога.
— Я Н И К О Г Д А НЕ БЫВАЮ «ТОЖЕ». ПРОХОДИТЕ. МАГОГ, ЗАК-РОЙ ДВЕРЬ. ОТТО, БЕ-РЕ-ГИ ХВОСТ. КУДА ТЫ ЛЕ-ЗЕ-ШЬ!
Замок за моей спиной защёлкнулся, один котёнок с воем выскочил у меня из-под ног, другой откуда-то сверху свалился за шиворот. После нескольких неловких и малоприятных минут собаки, кошки и я рассредоточились по гостиной подальше друг от друга.
— Зачем звали?
— СОСКУЧИЛСЯ. — Он дезавуировал сказанное глумливой ухмылкой. — ВЫ ПОМНИТЕ, ЧТО, КРОМЕ ЗЛО-ГО ДЕМОНА, ЧЕЛОВЕКУ ПОЛОЖЕН И ДОБ-РЫЙ?
— И вы который?
Вильегорский раскинулся в кресле напротив и смотрел на меня взглядом, обещавшим множество удовольствий — только не мне, а кому-то другому.
— НУ СО ЗЛЫМ, СУДЯ ПО ВАШЕМУ УСТАЛОМУ ВИДУ, ВЫ УЖЕ ПО-ВИ-ДА-ЛИСЬ.
Я смолчал и какое-то время преспокойно дремал под ропот и шёпот его странного голоса. Вильегорский говорил о морях и странах — или, возможно, земле и небе — демонах таких и демонах сяких — а то, кто его знает, просто предлагал на выбор чай или кофе.
— А КАК ПО-ВАШЕМУ, РАЗНОГЛАЗЫЙ, НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?
Я поскреб нос.
— На кукольный домик.
— В КУКОЛЬНЫХ ДОМАХ И ЖИВУТ, НАВЕРНОЕ, КУКЛЫ?
— Возможно.
— А ЕСЛИ ТАКОЙ ДОМИК СГО-РИТ?
Я поскреб ухо.
— Родители купят детям новую игрушку.
— ВАМ ИХ НЕ ЖАЛЬ?
— Кого? Родителей, детей или кукол?
Вильегорский засмеялся. Он расслабленно сидел в кресле, почёсывал за ушами собаку и разглядывал меня с новым странным любопытством.
— СПЕРВА Я ДУМАЛ, ЧТО ВЫ ПРОСТО ХРАБРИТЕСЬ.
— А теперь поняли, что у меня просто нет воображения. — Я кивнул. — Мне уже говорили.
— НО ЧТО-ТО ВСЁ РАВНО ПРО-ИС-ХО-ДИТ.
— Не знаю. У меня были галлюцинации… сны… Я никогда не видел снов раньше.
— ВАС ЭТО НА-ПУ-ГА-ЛО?
— Скорее озадачило.
— ВОЗМОЖНО, Я СМОГУ СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ.
— Да? Сколько это будет стоить?
Он почему-то развеселился.
— ЭТО ПРОСТО У-ДИ-ВИ-ТЕЛЬ-НО, ЧТО ТАКОГО, КАК ВЫ, УДАЛОСЬ ЗА-ЦЕ-ПИТЬ. ПОНИМАЕТЕ, ПРОКЛЯТИЕ ДЕЙСТВЕННО ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЧЕЛОВЕК ВСЕМ СВОИМ СУ-ЩЕ-СТВОМ ЗНАЕТ, ЧТО ПРОКЛЯТ. ВЫ УМ-НЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. НО ВО ВСЕХ ИНЫХ ОТ-НО-ШЕ-НИ-ЯХ — БРЕВНО БРЕВНОМ.
— Да?
— ДА. ПОЛАГАЮ, ЭТО И ЕСТЬ ВАША ДРУГАЯ СТОРОНА.
— У таких, как я, нет Другой Стороны.
— ДРУГАЯ ИЛИ ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЕСТЬ У ВСЕГО. ПОСМОТРИТЕ НА СВОИ РУКИ.
Я посмотрел.
— А которая оборотная: тыльная или ладонь?
— ТА, ЧТО ВАС СИЛЬНЕЕ ТРЕВОЖИТ.
— Вы слишком высокого обо мне мнения, если считаете, что собственные руки потревожат меня хоть сколько-нибудь.
— СМОТРИТЕ, ВАМ ГО-ВО-РЯТ.
Я взглянул пристальнее, дольше и тут же почувствовал, что совершаю ошибку. С тыльной стороны, со стороны ли ладони, я увидел в своих руках враждебность, вызов, что-то непримиримо чужое. Они оставались моими, но словно не были мною.
— Ах ты, чёрт.
— НУ ВОТ. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЭТО Я И ИМЕЛ В ВИДУ.
— Как вы это сделали?
— НЕ Я ЭТО СДЕЛАЛ.
Поняв, что он не ответит, я согласно кивнул и терпеливо ждал продолжения. Оно не замедлило и оказалось забавным.
— ВЫ СОВСЕМ НЕ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ?
— С чего бы?
— ЭТО ПЛОХО. ЧТОБЫ СССНЯТЬ ПРО-КЛЯ-ТИЕ, Я ДОЛЖЕН ИЗБАВИТЬ ВАС ОТ ЧУВСТВА ВИНЫ. А ЕСЛИ ЧУВСТВА ВИНЫ НЕТ, ТО КАК ОТ НЕГО ИЗ-БАВ-ЛЯТЬ? СОЗ-ДАТЬ ИСКУССТВЕННО? — Он хмыкнул, его неестественно яркие глаза уставились на меня не моргая. — ВЫ ХОТЯ БЫ ОЩУЩАЕТЕ НЕ-ЛЕ-ПОСТЬ СИТУАЦИИ?
— О да, — сказал я. — В полной мере.
— ЛАДНО. НЕ ХОТИТЕ ИЗБЫВАТЬ ВИНУ, ПОПРОБУЕМ ИЗБЫТЬ У-НИ-ЖЕ-НИ-Е. МОЖЕТ, ТА-ААК ДАЖЕ ЛУЧ-ШЕ? ОТТО! — Неуёмный кот залез на книжный шкаф и примеривался к люстре. — Я ТЕБЕ ГОВОРИЛ, ЧТО У ТЕБЯ ПРЕСТУПНЫЕ НАКЛОННОСТИ! ОНИ ЖЕ ТЕБЯ И НА-КА-ЖУТ, МА-ЛЕНЬ-КИЙ БАЛБЕС!
Отто всё-таки прыгнул, не сумел зацепиться и шмякнулся на пол.
— Вы не думаете, что в моём случае преступление и наказание несоразмерны?
Вильегорский махнул рукой.
— НЕ МОРОЧЬТЕ СЕБЕ ГОЛОВУ. ОНИ ВСЕГДА НЕСОРАЗМЕРНЫ. ЗА ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, НАКАЗАН ОТТО? ЗА ТЯГУ ВВЕРХ? ЗА ТО, ЧТО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО В ЕГО ВОЗРАСТЕ ПОЛНО ЭНЕРГИИ И ЛЮБОПЫТСТВА? С КАКИХ ПОР ЮНОСТЬ СТАЛА ПРЕСТУ-ПЛЕ-НИ-ЕМ? МА-ГОГ! ДА ПОМОГИ ЖЕ ЕМУ!
У крупной красивой овчарки вид был такой, словно падение котенка с люстры подпортило репутацию не котенка, а основных законов бытия. Она подхватила ошеломленное тельце за шиворот и унесла куда-то в угол: ворчать, утешать, вылизывать.
— Я не понимаю, как это возможно чисто технически. Откуда она взялась, если её никто не убивал?
— А! НУ ЭТО ЖЕ ДРУГАЯ СТОРОНА. ТАМ ВСЁ ВОЗМОЖНО.
— Вильегорский, не говорите ерунды. Я работаю с Другой Стороной.
— И ЗНАЕТЕ ЕЁ КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ? МЫ, ЕСЛИ ПОМ-НИ-ТЕ, НАЧАЛИ С ТОГО, ЧТО И О ПЯТИ ВАШИХ ПАЛЬЦАХ ВАМ ИЗВЕСТНО ДА-ЛЕ-КО НЕ ВСЁ.
— Это был фокус.
— ВСЯ ЖИЗНЬ — ТАКОЙ ФОКУС, МОЙ ПА-РА-НО-И-ДАЛЬ-НЫЙ ДРУГ.
— Почему это я параноидальный?
— У ВАС НАГОТОВЕ ДРУГОЙ ЭЭЭПИТЕТ?
Ни наготове, ни в запасе у меня эээпитетов не было.
Я брожу по Исполкому — лестницы, коридоры, запертые кабинеты — и с чувством неясного мне самому облегчения убеждаюсь, что он пуст. Как небеса, как головы моих клиентов. Ничего не дал даже методичный — сквозняки, слизняки, склизские стены — осмотр подвалов. В подвалах по колено, как вода, стоит чистый концентрированный ужас.
Собираясь уходить, я вижу мелькнувшую в конце коридора тень, и всё приходится начинать заново. Призрак не может не показаться — точно так же я не могу сделать вид, что ничего не увидел, — но этот, показавшись, уклоняется, прячется, дразнит. Я бегу следом, пытаюсь подстеречь, перехватить. Каблук скользит на линолеуме; сердце колотится в горле. Я весь в поту, когда загоняю привидение на самый верх, на чердак, и через оглушительно разбившееся оконце (стеклянные брызги летят плотно, как вода фонтана) на крышу. Там он стоит на краю, поворачивается ко мне то ли застенчиво, то ли нехотя, и я наконец вижу его лицо и вижу, что это Кропоткин.
Я стою перед черным провалом, на фоне которого всё чётче и откровеннее вырисовывается такая знакомая фигура, и знаю, что никакая на свете сила не заставит меня сдвинуться с места.
«Помоги мне, — кричало у меня в ушах, — помоги!»
Я заморгал, приходя в себя, потом провёл рукой по лицу. Всё было мокрое: лицо, волосы, шея, рубашка на груди. Видимо, на меня вылили ведро воды. Или не одно.
— Очнулся.
Я попробовал приподняться. Чьи-то руки тут же сунули мне под голову свёрнутую куртку.
— Лежи, лежи.
Я лежал на полу, надо мной стоял Канцлер, рядом на корточках примостилась Ольга. Они переглянулись.
— Разноглазый! — позвал Канцлер. — Что мы должны делать? Воды? Спиртного?
— Ничего не надо. Сейчас я отдышусь.
— Вас можно перенести на диван?
— Отчего же нельзя? Спина-то не сломана.
— Хотела бы я знать, что в тебе сломано.
— Ольга! — одернул её Николай Павлович. Вдвоём они перетащили меня быстро и довольно ловко. Ольга наклонилась что-то оправить. Канцлер положил руку ей на плечо.
— Оставь нас.
Выражение её лица изменилось, но она смолчала, вскинула голову и удалилась. Канцлер устроился у меня в ногах.
— Я догадываюсь, почему так вышло, — сказал он медленно. — Вы его хорошо знали. Он… ваш друг?
— У меня нет друзей.
— Вот уж не знаю, — заметил Канцлер серьёзно. — Но вы должны делать своё дело, я должен делать своё дело, даже этот анархист, наверно…
— Нет. Этот анархист ничего никому не был должен.
— Да? Такое бывает? Но я хотел сказать, что рано или поздно то, что мы должны, приходит в противоречие с нашими личными чувствами. Каждый делает свой выбор, но любой выбор между долгом и чувством нас ломает. Что бы мы ни выбрали, мы никогда не будем прежними. И счастливы не будем тоже.
— Но вы-то всегда делаете правильный выбор?
— Правильного выбора не существует.