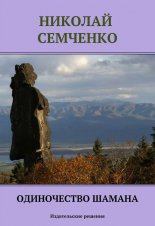Люба Украина. Долгий путь к себе Бахревский Владислав

2
Князь Дмитрий сидел в просторной низкой комнатке, дожидаясь, когда его примет великий коронный гетман.
Из-за размолвки со своим опекуном Дмитрий Вишневецкий прибыл в ставку без обещанной князем Иеремией сотни. Завидуя Чарнецкому, Сапеге, Сенявскому, молодому Калиновскому, которые отправились на Хмельницкого во главе прекрасных отрядов, и уж конечно, Стефану Потоцкому, князь Дмитрий посчитал для себя невозможным влиться в пеструю толпу шляхетского ополчения и остался в ставке.
— Не советую вам сегодня говорить с его милостью гетманом, — сказал князю Дмитрию пан Чаплинский, занимавшийся какими-то бумагами за столом у окна. — Его милость сердит на сына своего. Военное дело требует порядка. Разбил бунтаря — сообщи. Улизнул бунтарь — тоже сообщи. А так разве можно? Ни одного гонца не прислал!
— Охота началась, — откликнулся пану Чаплинскому пан Комаровский. — Люди там все молодые, дело сделали и — загулялись.
Князю Дмитрию стало не по себе. Вместо того чтобы быть среди упоенных победой сверстников, обивает он пороги гетманской канцелярии, слушает сплетни, пошлости.
— Узнайте, примет ли меня коронный сегодня? — попросил Вишневецкий человека при дверях гетманского кабинета.
Человек этот появился у гетмана недавно, но уже все знали, что он Самойло Зарудный, и всячески перед ним заискивали. Был Самойло важен, грузен, лицо имел непроницаемое, умное, на любую шишку глядел свысока и пропускал к гетману не по чинам, но по делам. Потоцкий души в нем не чаял.
— Ждите, ваша милость, — сказал Вишневецкому Самойло. — Ясновельможный пан большие дела переделает, тогда уж и ваш черед.
Князь Дмитрий вспыхнул, но что-либо сказать в свою защиту не нашелся. Он было встал, чтобы уйти, но в это время входная дверь тяжело и медленно отворилась, и, пошатнувшись на пороге, в комнату вошел, черный от грязи и запекшейся крови, драгун.
— Гетмана! — прохрипел он.
У самой двери его качнуло, и князь Дмитрий успел подхватить падающего. Самойло Зарудный проворно отворил дверь, и они оба, гонец и князь, оказались в кабинете Николая Потоцкого.
Потоцкий подписывал какой-то документ. Он поднял глаза на шум, и перо выпало из его руки.
— Убит? — спросил он ровным деловым голосом.
— Ранен, — прохрипел драгун. — Твой сын, ваша милость, ранен. Тяжело. Мы разбиты. Все в плену.
Драгун захрипел и стал оседать.
— Положите его! — приказал гетман.
Драгуна уложили на пол, дали ему вина.
— Сколько у Хмельницкого войска? — закричал гетман, наклоняясь над раненым.
— Реестровые изменили, — прохрипел драгун. — Мы ждали помощи. Но пришли татары…
— Татары! — вскричал Потоцкий. — Говори! Какие татары?!
— Татары! Много! — драгун посмотрел на гетмана широко открытыми глазами и потерял сознание.
— Лекаря… Лекаря! — закричал гетман, становясь на колени перед раненым. — Какие татары? Кто пришел? Хан? — Посмотрел на Вишневецкого: — Скачите к Калиновскому в Корсунь… Нет, стойте! К пану Черняховскому, в Канев. Пусть идет в Корсунь на соединение с польным гетманом. Мы выступаем туда же. Тотчас!
Князь Дмитрий выскочил из кабинета.
— Вот и назначение! — сказал он вслух, натягивая перчатку на дрожащую руку.
Уже в седле вспомнил дрожащую свою руку. Дрожала оттого, что устал держать тяжелое тело драгуна.
«Все в плену, — стоял в ушах хрип раненого. — Значит, я тоже был бы в плену? Я завидовал тем, кто теперь убит или в плену у казацкого бунтаря».
3
Отряд Потоцкого покинул Чигирин в единочасье. В городе остался пан Чаплинский с двумя сотнями жолнеров, которым приказано было спалить Чигирин дотла.
Пан Чаплинский никак не мог понять страха, охватившего коронного гетмана.
— Со стариками горе! — говорил пан подстароста зятю и помощнику своему по службе пану Комаровскому. — Хмель на Желтых Водах, ему до Чигирина идти и идти, а гетман пустился наутек… Выпроваживай скорее шляхетские семейства — и займемся делом. Такой случай раз в жизни выпадает.
Комаровский смотрел на Чаплинского, не понимая, о чем это он.
Пан Чаплинский засмеялся и приказал джурам подогнать к дому двадцать пустых телег.
— Забирай все! — говорил он пани Хелене. — Мы не такие богачи, чтобы разбрасывать вещи, нажитые в трудах.
Вместе с жолнерами подстароста обшарил брошенные польскими семьями дома, прихватывая все, что поценнее. Грабеж перекинулся, как пожар, на казачьи дома. Загремели выстрелы. Казаки пытались дать мародерам отпор.
— Сжечь! Все сжечь! — приказал подстароста, но тут прискакал пан Комаровский.
— Чигиринские хлопы собрались возле церкви. Их много, они вооружены. Надо уходить.
Пан Чаплинский посмотрел на свой дом, окинул взглядом город.
— Жалко жечь. Да и чего ради? Через неделю-другую, когда его милость гетман придет в себя, мы сюда вернемся…
— Пан Чаплинский! — У Комаровского от ярости свело скулы. — Казаки не дадут нам ни одного дома поджечь. Уходить надо. Бежать!
— Прикажите поджечь стога сена! Потоцкий хочет пожарища. Так давай хоть надымим.
Тяжелогруженый обоз с каретой для пани Хелены выкатил на Черкасский тракт.
Пан Чаплинский дал повод своей лошади жолнеру, а сам сел в карету жены.
— Ну вот, — сказал он радостно и облегченно, как после важного и небезопасного предприятия.
Потрогал руками тюки с материями, повозился в корзине с серебряной посудой.
Пани Хелена, задавленная ворохом вещей, сидела молча, без страха в лице. Она посмотрела на мужа с любопытством, не осуждая его.
— Это все наше! — сказал он ей. — Твое!
Она опять посмотрела на пана Чаплинского очень серьезно, очень внимательно и совершенно равнодушно.
— Пусть тебя не пугает весь этот переполох, — сказал пан Чаплинский. — Нам он определенно выгоден.
— Казаки! — раздался тревожный крик.
Пан Чаплинский выглянул из кареты:
— Где казаки?
— Впереди.
Чаплинский поймал ногой стремя, прыгнул в седло.
Дальнейшее произошло быстро и просто. Казачее войско, загораживая дорогу, развертывалось по-татарски, полумесяцем, чтобы окружить отряд и обоз.
— К балке! — крикнул пан Комаровский и помчался, уводя жолнеров на другую сторону лесистого глубокого оврага.
Пан Чаплинский беспомощно повернулся к своему обозу и, нахлестывая плетью коня, пустился догонять жолнеров.
— А вот и невеста с приданым! — Хохоча во всю глотку, казак стоял у распахнутой дверцы кареты. — Иди ко мне, моя краля!
— Я замужем, — сказала пани Хелена.
— Хлопцы, вы слыхали? Она замужем!
Дружный гогот вспугнул лошадей.
— Тпру! — закричали казаки, хватая лошадей под уздцы.
— Я хочу видеть вашего старшего!
— Она не хочет простого! Она старшего хочет! — захохотали казаки, им нравилась строптивая полька.
— Эй, Богун! Поди глянь! Красивая, стерва!
Подошел еще один казак. Лицо узкое, скулы точеные, черные брови у переносицы сошлись, глаза голубые, прозрачные.
— Кто вы?
— Я — пани Чаплинская!
— Пани Чаплинская? — переспросил Богун. — Вы жена того самого Чаплинского?..
— Того самого!
Богун посмотрел на пани Хелену с любопытством и откровенным одобрением.
— В вашем положении лучшая защита — объявить себя Чаплинской. Ведь Чаплинскую придется доставить к Хмельницкому, не правда ли?
— Я действительно Чаплинская. Мой муж, чигиринский подстароста, бросил меня и бежал со своими рыцарями.
— Казаки! От нас ушел пан Чаплинский! Догнать!
Зазвенело оружие, послышался топот.
— Что вы со мной сделаете? — спросила пани Хелена у Богуна.
— Доставлю к гетману.
— К гетману?!
— Не к коронному, пани! К казачьему!
4
Петро Загорулько, самый могутный парубок из братства «березы» Карыха, ставил бочонок на бочонок до пяти и до шести и тащил пирамидку в костел. А были те бочонки, набитые порохом, невелики, но тяжелы.
— Этого довольно будет, — остановил парубков Максим Кривонос, поглядел на крест. — Хоть и латинский, а снять бы его надо.
— Дозвольте мне, панове казаки! — выступил вперед Карых.
— С Богом!
Карых на глазах всего Чигирина, щеголяя смелостью, карабкался на шпиль костела. Шпиль был высок, но зодчий словно бы позаботился о будущем храбреце — украсил шпиль фальшивыми домиками. Они, как ступени, вели к кресту и к небу.
На крыше последнего домика Карых снял с пояса веревку, кинул петлю на крест, захлестнул.
Рисуясь, стал на самом краю островерхой крыши лепного домика и, подняв руку козырьком, оглядел дали. И увидал, как по зеленой степи вьется веселая лента казачьего войска.
— Хмельницкий идет! — крикнул Карых, подпрыгнул, ухватился за веревку и лихо съехал по ней на землю.
— Грохнем во славу казацкого войска! — сказал Кривонос.
Сорвали крест. Он упал, зарывшись в землю.
Гетман был уже на околице, когда глухой грозный рык колыхнул землю, и на глазах островерхий нарядный шпиль костела приподнялся к небу и тотчас рухнул в клубы черно-красного дыма и крошева.
Хмельницкий бровью не повел.
Направил коня к своему дому.
Снял белый плащ, шапку, вошел в горницу. Посмотрел в передний угол. Икона Богоматери, принесенная в дом покойницей-женой Анной, висела косо. Какой-то не больно ретивый католик махнул по святыням схизматика то ли саблей, то ли пикой.
Богдан встал на лавку, поправил икону, поднял с угольника и повесил упавшие маленькие иконки святых.
— Ну, здравствуй, Анна, — сказал тихонько, для себя и для нее, — вот, вернулся. Гетман я теперь у тебя. За Тимоша не серчай. Такая наша доля мужская — собой рисковать.
Дверь распахнулась.
— Заходи, Иван Выговский. Садись. Был Ян — стал Иван.
Широкое простодушное лицо Выговского осунулось, глаза смотрели жестко, с вызовом. Хмельницкий углядел этот ледяной блеск и, садясь напротив пленника, улыбнулся смущенно.
— В своем доме, а угостить нечем.
Выговский глухо покашлял, посмотрел Хмельницкому в глаза.
— Человек себе на уме в столь смутное время предпочел бы плен у татар вольной службе восставшему войску. Но я просился и прошусь в это войско, в твое войско, гетман. Я — украинец и должен испить чашу судьбы своего народа, какая бы она ни была, горькая или сладкая.
— Так ты дурной? — спросил Богдан серьезно.
— Как дурной? — удивился Выговский.
— Ты сам говоришь, человек себе на уме к Хмельницкому не пойдет! Или деваться некуда, ведь я тебя на лошадь выменял…
Выговский покраснел и засмеялся вдруг. Так просто и весело засмеялся, что и Богдан хохотнул.
— Перемудрил? — хлопнул он Выговского по плечу, расходясь в смехе.
— Перемудрил! — смеялся Выговский.
— А мне очень нынче нужны такие, как ты, себе на уме, — говорил Богдан, отирая пальцами выступившие на глаза слезы. — Горячих голов предостаточно, а вот холодных, для государственных дел, пока не сыскалось и полдюжины. Вот взяли мы Чигирин, а что дальше?
— Нужно идти и разбить коронного гетмана.
— Разобьем и гетмана, а потом?
— Необходимо занять как можно больше украинских земель и согласиться на переговоры. Король тебя поддержит. Власть магнатов на Украине станет зависимой от воли короля и украинского князя.
— Украинского князя?
— Украина должна иметь не меньшую самостоятельность, чем имеют ее Радзивиллы и литовцы.
— А будет ли с того облегчение народу? Литва — страна хлопов, а казаки — люди вольные.
— Народ благословит тебя, Богдан Хмельницкий. Он избавится от гонений за свою православную веру.
— Ты православный?
Выговский встал, перекрестился на икону.
— Есть хочется, — сказал гетман. — Займись канцелярией, Иван. Бумаг нам надо много написать.
— Благодарю тебя, гетман! Буду служить тебе умом и сердцем.
Пошел к двери, но остановился.
— Выкладывай все, не оставляй и песчинки за пазухой! — строго сказал гетман.
— Пани Чаплинскую казаки привезли.
Выговский смотрел себе под ноги.
— Что ты хочешь, не пойму?
— Пани Чаплинская — воспитанница матушки моей… Не надругались бы казаки.
— Сам присмотри! Сам! Теперь у тебя воля! Даже две воли: своя и моя. С делами управлюсь, пришли ее сюда. Как зовут?
— Елена.
— Ступай к делам да позови панов радных.
5
Остап Черешня точил саблю.
— От гетмана прислан? — спросил он Выговского. — Где, спрашиваешь, пани подстаростиха? С бабами, в светлице. Сидит — не ест, не пьет. За все: «спасибо», тише травы. Чего с ней будет-то?
— Как гетман скажет. Может, помилует, а может, и казнит.
Жена Остапа Черешни Оксана при этих словах вышла из чуланчика, всплеснула перед лицом Выговского руками.
— Мы от пани плохого не видели! Да и не полька она вовсе, такая же хохлушка, как все мы. В чем вина-то ее? За кого выдали, тот и муж!
— Дай мне пройти, — строго сказал Выговский.
— Уберись с дороги, баба! — грозно пробасил Остап.
— Ишь какие! Уберись! Попомните мое слово, паны казаки. Обидите добрую душу, всех чигиринских баб на вас подниму.
Выговский улыбнулся и, покачав головой, открыл дверь в светлицу.
Пани Хелена задрожала, глядя, как по-чужому — хозяева не так по дому ходят — отворяется дверь. И вдруг увидала перед собой Выговского. Крупные слезы закапали с шелковых ее ресниц.
— Пан Выговский, — прошептала она, прислонясь спиной к стене. — Спасите меня.
Он поклонился, поцеловал у нее руку.
— Только трус мог бросить вас на произвол судьбы на дороге.
Пани Хелена отерла платком глаза.
— Моему мужу ничего другого не оставалось, как бежать. Он был один перед тысячами казаков… Ко мне он тоже не мог успеть.
— Вы ведь знаете, я был против этого брака! — сказал Выговский.
Пани Хелена вскинула вопрошающие глаза: разве не этот человек приходил в ярость, когда она пыталась отказать Чаплинскому?
— Да, я помню… Но все от Бога… Вы сами-то… где?
— Я служу Хмельницкому, — сказал Выговский. — Вся Украина нынче с Хмельницким.
— Ах, вы у Хмельницкого! — сказала она. — Ну конечно, у Хмельницкого… Его казаки взорвали давеча костел.
— Польскому игу пришел конец!
Дверь отворилась.
— Можно? — спросила Галя Черешня, внося большую корчагу. — Вот вишня в меду. Отведайте, пани! Нельзя ничего не есть.
— Галя, спасибо тебе, милая! Не до еды теперь. Ты же видишь, за мной пришли.
Корчага так и выпала из рук. Грохнула, разваливаясь на куски, мед поплыл по полу, сияя темно-рубиновым огнем под весенним, беззаботно заходящим за горизонт солнцем.
Галя стояла над разбитой корчагой, но смотрела на пани Хелену. Как на мученицу смотрела.
Выговский отвесил пани Хелене почтительный поклон и сказал:
— Я пришел сказать, что вас хочет видеть гетман Хмельницкий.
— Он наш, чигирннский! — вырвалось у Гали. — Он не обидит.
— Позвольте мне поговорить с пани с глазу на глаз, — сказал Выговский девушке.
Галя вышла, старательно прикрыв за собою дверь.
— Он казак, — сказал Выговский, глядя пани в лицо, — но казак с иезуитской коллегией. Никогда не забывайте об этом.
— Вы говорите что-то очень странное, пан Выговский. Господи! Выжить бы!
— Тот, кто в этом мире собирается сначала выжить, а потом возвеличиться, выживет, но и только. Кони Хмельницкого могут вынести нас на тесную, но очень высокую гору, которая предназначена для жизни первых людей государства.
— Пан Выговский! О чем вы? Теперь, когда все так зыбко.
— Я скажу вам правду именно теперь. Такие разговоры дважды не разговаривают. — Выговский подошел к двери, постоял, вернулся к столу, сел. — Я за Хмельницкого голову положу. Выслужиться до больших чинов, до больших дел в старом государстве, где все места заняты и расписаны на века вперед, дело, как понимаете, немыслимое. У меня одна жизнь, и я хочу быть при таких делах, от которых зависит жизнь государств и народов. Я могу проиграть жизнь маленького ничтожного человека, а если выиграю, то это будет выигрыш для всего рода Выговских. Выигрыш на века. Вы хотите что-то сказать, но сначала выслушайте меня. Первое. Вспомните все, чему учила вас моя матушка — украинка каждой кровиночкой своей. Второе: отбросьте все страхи. Играйте! Играйте королеву. Третье и главное: будьте прекрасной.
— Но я мужняя жена, пан Выговский!
— К черту! — он размахнулся, а положил ладонь на стол без звука. — Старый мир, пани Елена, — запомните, не Хелена, а Елена! — рухнул. Мы создадим новую страну и с нею самих себя, новых, великих! Вы всегда были очень тихой, но я знал, что вы — большая умница. В ваших руках, пани Елена, и сама жизнь ваша, и счастье. — Он встал, поклонился. — Я приду за вами вечером.
6
Было за полночь. Богдан, сделавший за день тысячу дел, казался себе куклой из ваты и тряпок. Одни мозги у него были живыми, но они превратились в маленьких замученных собачек, которые выли каждая на свой лад. Ему была незнакома такая усталость. Уставал от долгой скачки, от работы и никогда не думал, что можно умориться ворочать мозгами.
Вкрадчиво отворилась дверь, блеснул огонь. Выговский вошел в комнату, осторожно неся перед собой два канделябра.
«Это зачем?» — вознегодовал Богдан, но возразить сил не было.
Выговский пожелал покойной ночи и вышел.
Дверь опять отворилась, явился Ганжа, поставил на давку, а не на стол почему-то вино, какую-то снедь.
«Очумели, — подумал Богдан, — среди ночи обед затевают».
Дверь отворилась в третий раз, и в комнату вошла пани. В одной руке она держала букетик синих цветов, в другой — свиток бумаги. Остановилась у порога, щуря глаза от яркого света.
— Кто ты? — спросил Хмельницкий.
— Я пани Чаплинская. Это вам! — Поставила цветы в кружку, положила бумагу на стол.
— Что здесь? — гетман показал пальцем на бумагу.
— Я прошу вашу милость помиловать меня.
— За какое зло? — он поднялся, переставил поднос с вином и едой с лавки на стол. — За какое зло миловать?
— Не знаю, — упавшим голосом сказала она. — За зло… мужа.
— Муж сам ответит мне.
— Его поймали? — спросила она.
— Поймают. — Хмельницкий вынул из кружки цветы, зачерпнул воды. Сказал почти ласково: — Барвинки.
— Барвинки, — как эхо откликнулась пани Хелена.
— Давай выпьем вина, — сказал он ей. — Ты за свое, я за свое. А можем и за нас с тобой выпить? За одиночество наше?
— За одиночество?! — удивилась она.
— Пока будут победы, будут люди мне как братья, но останется ли кто подле меня в день первого поражения?
Он посмотрел ей в глаза. И она выдержала взгляд.
— Меня бросили одну перед толпой казаков, я уже испытала, что такое быть одной. Если ты меня не убьешь, я не оставлю тебя в твой тяжкий час, не дай Бог, если он случится.
Она залпом выпила вино. Он смотрел на нее любуясь.
— Я казак. Ты моя добыча. Но я не хотел бы взять тебя против воли твоей… Ступай, если хочешь, с миром.
— Бог послал мне орла! Я готова свить ему гнездо, чтобы он знал отдых от великих дел своих.
Он сильно дунул на канделябр и погасил свечи. Она задувала свечи на другом канделябре, ее дыхания хватало на одну свечу.
7
Дым пожарищ стоял в небе по всему горизонту.
Пан Машкевич, посланный Вишневецким к великому гетману, остановил лошадь и повернулся к джурам.
— Куда ехать? Это ведь Черкассы горят! Кто там. Потоцкий или Хмельницкий?
— Давайте заедем в Секирную, — предложил кто-то из джур.
— Рискнем! — согласился пан Машкевич.
Секирная им показалась тихой и безлюдной. Вестей решили спросить у католического священника, но, едва выехали на площадь, увидели огромную толпу крестьян и мещан.
За ними погнались, грохнул выстрел.
— По дымам надо идти, — решил пан Машкевич. — Потоцкий жжет казачьи логова.
Войско догнали под вечер. Коронный гетман выслушал пана Машкевича в седле. Бледный, со впалыми щеками, он разжал рот лишь для одного слова:
— В Корсунь!