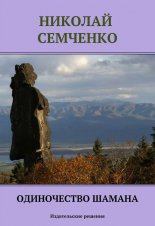Люба Украина. Долгий путь к себе Бахревский Владислав

Старик Потоцкий уже знал некоторые подробности Желтоводской битвы, знал, что сын его умер от ран.
Не смерть Стефана сразила коронного гетмана — сразила собственная вина перед ним. Стефан бился в мышеловке, расставленной дьяволом Хмельницким, а он, старый вояка, вместо того чтобы обеспокоиться отсутствием вестей, плясал мазурки в Чигирине.
Теперь, пылая гневом и ненавистью, он приказывал сжигать все селения на пути, убивать всех украинцев, даже детей, но чужая боль не остужала своей боли.
Десятого мая войско Николая Потоцкого, состоящее из двух тысяч шляхты, трех тысяч жолнеров, многочисленной челяди, тридцати пушек и обозов, подошло к Корсуни.
Польный гетман Мартын Калиновский ждал коронного гетмана в хорошо укрепленном лагере, расположенном на удобных позициях, позволяющих выдержать осаду превосходящих сил. Тридцать пушек коронного, одиннадцать польного — большая получалась сила.
Калиновский встретил Потоцкого вопросом:
— Где мой сын, ваша милость?
— Сын Калиновского в плену, — ответил коронный гетман. — Вы можете его выкупить, ваша милость. Сын Потоцкого умер от ран. Нет таких денег, чтобы можно было выкупить человека у смерти.
— Зачем было делить войско на части? Всякому ясно, что это гибельный замысел.
Коронный гетман прошел к столу, на котором лежала карта.
— Проигравшему, битву можно поставить в вину все его действия, даже самые правильные. Изменили казаки. Но они могли изменить в решающий момент решающей битвы, и тогда не только дети гетманов, но мы, гетманы, оказались бы в плену или того хуже.
— Позвольте задать вам еще один вопрос, ваша милость. Зачем вы сжигаете города? Это наши города.
— Да, я сжигаю наши города. Я выморю на Украине всех смелых и ретивых, как вымаривают тараканов. Корсунь я отдам жолнерам на двое суток. После того как ее ограбят, она будет предана огню.
— Вы собираетесь отступать, ваша милость?
«Вот образ поляка со всем дурным, что воспитывал он в себе столетиями». — Коронный гетман откровенно разглядывал гетмана польного.
Калиновский был невысок ростом, ладен фигурой, красив лицом, но все его достоинства давно уже обернулись карикатурой. Если он шел, то не как все люди, но выступал, если стоял, то выдвинув вперед плечо, откинув голову и руку держа на рукоятке сабли. Говорил он, постоянно меняя голос. С людьми ниже себя — высоко и резко. Весь разговор тут сводился к приказам. С людьми равными и приятными Калиновский предпочитал разговаривать бархатным баритоном, одаривая собеседника своими мыслями. С людьми, стоящими выше, Калиновский вел себя кичливо, всегда у него было наготове особое мнение, весомая поправка или даже решительное и полное несогласие. Он приходил в негодование, когда его мысль совпадала с мыслью начальства, и пусть эта мысль была единственно правильной, он тотчас отказывался от нее и выдвигал нечто противоположное, и такое противоположное, что все находили и эту новую мысль, и само поведение польного гетмана неумным, нелепым, недостойным, наконец!
— Я за отступление, — сказал Потоцкий, слегка поморщившись.
— Отступить с таких позиций! — изумился Калиновский. Картинно рухнул в кресло.
Может быть, впервые в жизни он предлагал действительно продуманный, обоснованный, черт побрал, по-настоящему блистательный план кампании, и этому плану грозила гибель по причине упрямства, по той самой причине, по которой он, польный гетман, всю жизнь губил и портил великие планы.
— К Хмельницкому пришел на помощь хан, — сказал Потоцкий.
У него не было никаких точных сведений, но он уже уверовал в это, и с этой верой ему было удобнее. Одно дело, если Стефан погиб в сетях казаков, и другое дело — в сетях крымского хана.
— У нас нет точных сведений, кто помогает Хмельницкому, — возразил польный гетман. — Мы знаем только, что в битве на Желтых Водах принимали участие татары.
— Хмельницкий ездил в Крым и заключил договор с ханом.
— Если мы продолжим отступление, — ядовито размышлял вслух Калиновский, — то будем терять свою армию в стычках, а Хмельницкий в каждом городе получит свежий казачий полк, пылающий к нам чувством мести.
— Чтобы уберечь от разгрома армию, мы будем отступать! — крикнул Потоцкий.
— А я говорю, что мы должны стоять на месте, не допуская бунтаря во внутренние, густонаселенные староства.
— Хан и Хмельницкий удушат нас здесь, и Речь Посполитая останется без прикрытия.
— Мы должны сковать силы казаков под Корсунью и дождаться помощи из Варшавы.
— Этот план, ваша милость, ошибочный! — устало сказал Потоцкий.
— А план вашей милости — труслив и бездарен! — Калиновский отпустил удила и летел сломя голову на от крытую ссору.
— Я не в состоянии продолжать беседу, — Потоцкий встал.
Калиновский ударил шпорой о шпору:
— Я тем более, ваша милость!
8
Всю ночь шел дождь.
«Дороги размокнут», — мысль гвоздем торчала в сонном мозгу.
— Спи! — приказал он себе. — Завтра в поход. Спи!
«Дороги размокнут», — стоял поперек сна упрямый гвоздь.
Богдану казалось, что он распластан на земле, что это сам он — дорога. Та самая, которая должна вывести его войско на сухое, солнечное место.
Под утро он крепко заснул и встал здоровым и бодрым.
Вышел на улицу. Поглядел на сеявшее мелкий дождь серое, но уже высокое небо и подмигнул, то ли небу, то ли самому себе.
— Позовите пушкарей! — приказал он.
Пушкари собрались.
— Ставьте ваши пушки на колеса. На два колеса. И коням легче, и вам сподручнее. Развернуть пушку на двух колесах в любую сторону в единый миг можно.
За неделю после Желтых Вод отряд Хмельницкого превратился в сорокатысячное войско. К четырем тысячам татар Тугай-бея пришла помощь от хана. Татарская конница теперь насчитывала пятнадцать тысяч сабель.
Особой заботой Хмельницкого была артиллерия. Двадцать шесть пушек охраняли полтысячи пеших казаков и еще триста на лошадях.
Две тысячи чигиринцев стали гвардией Богдана Хмельницкого — Чигиринским полком.
Разведка доносила: Потоцкий стоит на реке Рось, вблизи от Корсуни. Корсунь коронный гетман сжег. Сжег и разграбил в своем же тылу город Стеблов. Видимо, поляки замыслили дать решительное сражение.
Не позволяя войску растягиваться, Хмельницкий шел медленно. Под Черкассами его армия пополнилась еще семью тысячами казаков.
В палатке гетмана было шумно. Максим Кривонос пришел к Хмельницкому со своим сыном.
— Вот мой Кривоносенко! — радовался Максим. — Полтысячи казаков привел.
Хмельницкий добрыми глазами смотрел на молодого Кривоноса. Копия отец. Из одного куска железа кованы, только молодой лицом пригож. Во взгляде твердость, а губы девичьи, нежные.
— Вот и я таким же был, — сказал Максим, — покуда не отведал поцелуя сабли.
Хмельницкий опустил голову, задумался.
— Тимоша вспомнил? — спросил Кривонос-отец. — Дай Бог, побьем Потоцкого, и Тимош явится.
Хмельницкий согласно кивнул головой.
— Начинай, Максим! Завтра и начинай! В большую драку не ввязывайся, а покусать покусай. Посмотри, как стоят гетманы на своей горе, чего они оба стоят?
Вошел в палатку Выговский.
Максим Кривонос зацепил его глазом, как крючком и повел, не отпуская.
— Письмо к его королевской милости написано, гонец ждет твоего приказа, гетман.
— Дай письмо! — взял грамоту, прочитал. — Дельно, и тон хороший. Можешь отправлять гонца.
— Теперь-то зачем пишешь ты свои письма? — удивился Кривонос.
— Зачем письма пишу? Потому и пишу, что после нынешнего дня будет завтрашний. Не войною люди живы, но миром.
— Ты что же, думаешь, шляхта нам даст мир после того, как мы ее побьем?
— Мои письма — семена, из которых вызревает сомнение. Сомневающийся враг теряет в силе на треть. И ведь не нам же с тобою королями быть!
— Англичане без короля ныне, с Кромвелем. Не пропали, как видишь… А если уж без короля не обойтись, так его искать надо не среди врагов, но среди единокровных и единоверных стран.
— Такая страна одна. Имя ей Москва.
— Вот туда и надо письма слать.
— В Москву послано. Эх, Кривонос! Поляки нас русскими зовут, но ведь мы — часть Польши. Наше восстание — внутреннее дело Речи Посполитой. Москва встанет за нас, когда доподлинно будет знать, что мы не разбойники, а восставший народ, что мы — Украина.
9
Перепалки между коронным и польным гетманами переросли в ссору. Нужно было принять решительный план действий, но полковники и командиры частей ввязались в распрю, интригуя друг против друга, переманивая на сторону своей партии сомневающихся.
Александр Корецкий, командир двухтысячного отряда крылатой конницы, был возмущен всей этой междоусобной возней перед лицом сильного, неведомого врага.
Корецкий стоял на древнем валу, разглядывая в зрительную трубу позиции. Лагерь на возвышенности, окружен с трех сторон окопами. Четвертую сторону прикрывала река Рось. На валу и на флангах пушки. Их более сорока.
— Не завидую! — сказал Корецкий вслух.
— Кому? — спросил Самойло Зарудный, верный страж покоя гетмана Потоцкого.
— Хмельницкому не завидую.
— Лучше бы хозяина моего слушали, — печально сказал Самойло. — Человек большую жизнь прожил, он-то знает.
— Что он знает? — усмехнулся Корецкий.
— Знает, что казаки любую крепость могут взять. Не силой, так хитростью. Пока Хмель не пришел, уходить надо. Я сам из Корсуни, лучший путь показал бы, и удобный, и короткий.
— Опоздал ты, братец, со своим коротким путем! — Корецкий передал Самойле зрительную трубу: — Вон на ту кущу смотри.
— Казаки! — ахнул Самойло. — Легки на помине.
Несколько групп по двадцать, по тридцать всадников явились перед лагерем, крича что-то дурное, обидное, вызывая шляхтичей на «герцы».
— Пугни! — приказал Корецкий своему сотнику.
Свистя перьями, из лагеря выметнулась сотня «крылатых», казаки тотчас повернули коней, умчались в степь. Запели боевые трубы, польская конница и пехота построились для сражения.
Польный гетман Калиновский летал на белом коне по фронту, выкрикивая боевые призывы. Потоцкий же не показывался из шатра.
Снова появились казачьи разъезды. Полусотня казаков приблизилась на пушечный выстрел, явно приглашая пушкарей пострелять, но Калиновский пустил на казаков отряд охотников, а другой отряд конницы ждал своего часа в лесистом овражке. Казаки увидали, что окружены, пошли россыпью, под неумолимые сабли «крылатых».
— С победой! Браво! — Калиновский с вала аплодировал рыцарям.
Только несколько казаков ушло из западни.
— Задумались! — сказал Корецкий, оглядывая опустевшую степь.
Часа через два после первых «герцев» прикатила артиллерия, пришло основное войско.
Хмельницкий приехал на командную высоту Кривоноса.
— Как наши дела, Максим?
— Как сажа бела.
Хмельницкий прикусил кончик уса.
— Хорошо стоят.
Глянули друг другу в глаза, не улыбнулись.
— Прогнать их надо с горы, — сказал Богдан.
— Это как же?
Хмельницкий сорвал веточку дикой вишни, жевал, оглядывая лагерь Потоцкого.
— Смельчака нужно искать.
— Чего их искать?! — удивился Кривонос. — Любой голову готов за мати Украину положить.
— Я не про тех смельчаков, Максим. Нужен такой, чтоб не оробел в плен угодить. На верную пытку.
Кривонос опустил голову:
— Лучше бы самому…
— Самого на все не хватит!
Максим, косолапя обеими ногами, словно гири ему к сапогам привязали, ушел к войску.
10
Их было семеро. Пятеро братьев Дейнек и еще двое: чигиринский хлопец Петро Загорулько и весельчак Федор Коробка.
Сам Хмельницкий пришел к ним поклониться:
— Спасибо вам, казаки.
Они сидели на земле, и он сел с ними.
— Вы знаете, на что идете, и не отступились! Дай же Бог каждому из нас прожить такую светлую жизнь… Пойдет один. Кто — сами решите. Но прежде чем сказать «иду», измерьте духом вашим силу вашу, ибо пытки ждут «охотника» хуже адовых, а стоять надо будет на своем, как Байда стоял, вися на крюку в Истамбуле.
Молчали. Хмельницкий горестно покачал головой:
— Какой наградой поманить можно человека, если смерть ему обещана. Нет такой награды. Но знай, человек, ты спасешь все наше войско и спасешь саму Украину. Вот и все утешение.
Хмельницкий встал, и казаки встали. Обнялся с каждым до очереди.
— Ну что, хлопцы? — подмигнул товарищам Федор Коробка. — На палке будем канаться или как?
— Лучше соломинку тащить, — сказал Петро Загорулько. — У кого короткая, тот и пойдет.
Наломал сухих стебельков, измерил, обломил концы. Растерянно улыбаясь, поглядел вокруг, кому бы отдать соломинки. Хмельницкому — неудобно вроде, Кривоносу или старику-запорожцу, отбиравшему охотников. Запорожец этот был сед и жилист, под стать Кривоносу.
— Возьми, тащить у тебя будем! — протянул ему соломинки Петро Загорулько.
— Погодите, казаки! — сказал запорожец. — Давайте-ка кровь я вашу заговорю. Становись круг меня.
Запорожец перекрестился, поцеловал крест.
— За мной повторяйте. И шло три колечки через три речки. Як тем колечкам той воды не носити и не пити, так бы тебе, крове, нейти у сего раба Божьего. Имя реките.
Казаки назвали каждый свое имя.
— Аминь! Девять раз «аминь» надо сказать… А теперь еще два раза повторим заговор.
Повторили.
— Ну и славно! — просиял запорожец, словно от самой смерти казаков загородил. — Богдан! Максим! А к полякам я пойду. Этим молодцам сабелькой-то рубать да рубать. Погляди, силища какая! Что у Петро, что у Хведора… А у меня какая сила? На дыбе голоса не подать разве что. Столько рубцов и болячек. Привык я терпеть.
Богдан шагнул к старику, поглядел в голубые глаза его и опустился перед ним на колени:
— Прости, отец, за хитрости наши проклятые, но врага без хитрости не одолеть.
— Встань, гетман! — тихонько сказал старый запорожец. — Негоже тебе убиваться за каждого казака. На то мы и казаки, чтобы на смерть идти. Пришел мой черед. Не беда. Себя береги. Берегите его, хлопцы.
— Чем хоть порадовать-то тебя? — вырвалось у Богдана.
— Дайте мне воды попить и доброго коня.
Принесли воды, привели коня.
Запорожец сунул за пояс два пистолета, попробовал большим пальцем лезвие сабли.
— Я за себя хорошую цену возьму, — поманил семерых казаков. — Давайте-ка, хлопцы, оружие ваше. Заговорю от сглаза. То будет вам память от меня.
Казаки достали сабли, положили на землю, положили пистолеты и ружья.
— Господи! — поднял запорожец к небу глаза. — Очисти грехи мои, очисти и оружие мое. Царь железо! Булат железо! Синь свинец! Буен порох! Уроки и урочища среченные и попереченные, мужичие и жоначие. Аминь!
Вздохнул, улыбнулся, поставил ногу в стремя — и сразу пошел галопом, не оглядываясь.
— Имя-то ему как? — спохватился Богдан.
— Не знаю, — развел руками Кривонос. — Господи, помилуй раба твоего!
«Герцы» затевались вокруг польского лагеря то на одном фланге, то на другом. Стычки были короткие, но кровавые.
Запорожец выехал перед лагерем один и стал вызывать поединщика. В него пальнули из пушки, но ядро перелетело.
— Коли вы такие трусы, мы вас до самой Варшавы гнать будем! — кричал запорожец. — Вот уж потешимся над вашими панночками, как вы над нашими тешились!
— Взять его! — налился кровью Калиновский.
— Я же звал одного, а вы пятерых послали! Ну, держитесь! — Запорожец повернул коня, но поскакал не вспять, а по дуге. Жолнеры вытянулись в цепочку, и старый воин первым же выстрелом уложил одного, а вторым — другого. На глазах всего польского войска он, как лозу на учении рубят, аккуратно снес головы трем жолнерам. За последним ему пришлось гнаться, он догнал его у самого вала и рассек саблей от плеча и до седла. Жолнеры дали залп. Конь запорожца взвился на дыбы, рухнул, придавив седока. Со стороны степи с криками «алла!», сотрясая землю топотом, шла орда.
Запорожец радостно закричал, выбрался из-под коня, побежал, прихрамывая, к своим.
— Взять его! Живым! — приказал Калиновский.
Запорожца догнали, окружили.
Он стоял среди вооруженных людей, разведя пустые руки.
— Нечем мне вас стрелять и резать, да все равно вы все сгниете в этой земле.
Шел между всадниками, глядя через плечо на степь, по которой летела ему на помощь татарская конница.
С вала ударили пушки.
В тот же миг запорожец сорвал из седла жолнера, прыгнул на коня, но его схватили и затянули в лагерь.
11
Допрашивал запорожца сам польный гетман. Допрашивал трижды. Сразу, как взяли в плен, обойдясь мордобоем. Во второй раз — серьезно, на дыбе. В третий раз огнем пытал.
Запорожец твердил, как присказку: «Хмель идет с ханом. У хана сто тысяч войска и у Хмеля сто тысяч. А пушек у Хмеля двадцать шесть».
Потоцкому было доложено, что говорит запорожец на допросе, и еще о неистовстве Калиновского: польный гетман изощряется в пытках, кричит на казака и беснуется: «Врешь, сатана! Врешь!» Казак же молит пощадить его за правду.
Потоцкий явился на четвертую пытку, лично придуманную польным гетманом. Казаку после каждого его ответа отрубали один палец, на руке или на ноге, и прижигали рану огнем.
— А, коронный! — Запорожца окатили водой, и он в очередной раз очнулся из забытья. — Лют у тебя польный.
— Сколько у Хмельницкого войска? — прохрипел Калиновский сорванным голосом.
— А нисколько у него нет. — Казак закрыл глаза, и на него снова опрокинули ушат воды. — Нисколько, говорю, нет Ты же это хочешь от меня услышать, душегуб вонючий. И Хмеля нет, а только вы оба тут, на этой горе, сгниете. Со мною рядом.
— Руби! — Калиновский толкнул палача к казаку.
— Прекратить! — раздался голос коронного гетмана. — Скажи мне, сколько у Хмельницкого войска, сколько войска у хана? Сколько у них пушек, и я прекращу твои муки.
— Нет хана, и Хмельницкого нет, — ответил казак. — А пушек двадцать шесть. А казаков сто тысяч и сверх того, не считаны.
Потоцкий посмотрел на распластанное окровавленное тело и тихо сказал палачам:
— Отрубите ему голову.
Запорожец потянул в себя воздух, чтоб вдохнуть последний раз во всю грудь, и грудь, наполненная кровью, забулькала, заклокотала, но воздух прорвался-таки к легким, остудил их огонь, и сказал казак самому себе:
— Теперь дело за вами, хлопцы!
В тот же миг свистнула сабля.
— Стой! — закричал Калиновский. — Он что-то еще говорит.
— Поздно, — палач аккуратно вытер тряпкой кровь лезвия и поглядел — не затупилось ли.
12
— Казаки что-то затевают! — доложил Потоцкому Самойло Зарудный.
На противоположном берегу реки Рось, против лагеря, появилась большая масса людей.
— Возможно, хотят отвлечь наше внимание от основного удара, — сказал Потоцкий. — Усильте посты. Ведите наблюдение.
Солнце зашло, и в наступающих сумерках было видно: войско на той стороне реки прибывает.
Запылали костры, покрывая степь от края и до края трепещущими живыми чешуйками.
Гетманы, полковники, старосты и каштеляны собрались в шатре Потоцкого. Вопрос был все тот же — принять сражение или уйти.
— Мы не должны верить показаниям казака! — кипел Мартын Калиновский. — Его могли подбросить нам для пущей паники.
— Ваша милость, много ли охотников сыщется среди нас пойти к Хмельницкому, чтобы на пытках сообщить ему: король со всем войском Речи Посполитой уже в Белой Церкви? — Это сказал Корецкий.
Голоса поделились почти поровну. Отступать опасно, но отсиживаться в лагере опаснее вдвойне.
Говорили и другое. Нужно дать сражение немедленно, пока не поднялась вся Украина. Каждый день промедления — это прибывающие силы Хмельницкого и убывающие — осажденных.
Выслушав всех, коронный гетман Потоцкий сказал:
— Пока у нас есть войско, есть и Украина. Потерять войско — потерять Украину. Властью, данной мне королем и сенатом Речи Посполитой, приказываю строить табор. Утром мы уходим. Наш путь на Богуслав — Белую Церковь — Паволочь.
— Ради Бога, послушайте старика! — воздел к небу пуки Мартын Калиновский. — Панове, мы даже дороги не знаем, чтобы провести отступление в надежных боевых порядках.
— Я знаю человека, который укажет нам дорогу! — сказал Корецкий. — Это местный уроженец Самойло Зарудный. Человек всем нам хорошо известный.
— Ваши милости! — Потоцкий голоса не повысил, но голову поднял чуть выше обычного. — Ваши милости! Приказы не обсуждают!
— Да поможет нам Бог! — Старик Калиновский стоял и плакал на глазах смутившихся командиров.
Уже через четверть часа Самойло Зарудный знал, что ему доверено быть проводником, а через час из лагеря ушел незаметный человек, один из поварят Потоцкого, ушел, растворился во тьме весенней черной ночи.
13
16 мая на восходе солнца войско Потоцкого начало строиться в табор.
Хмельницкий готовил переправы через реку Рось.
— Вот первая наша удача! — сказал Потоцкий своему окружению. — Хмельницкий сосредоточил войска для удара из-за реки, считая, что именно с этой стороны наш лагерь уязвим более всего. Пока он переправится, мы оторвемся от его основных войск.
Не знал коронный гетман, что в десяти верстах от лагеря, в лесистом овраге Гороховая Дубрава, по которой проходит Корсунский шлях, уже построены засеки, вырыты окопы, пушки поставлены, а все стрелки, пушкари, конники роют в поте лица на спуске с крутой горы в овраг через единственную дорогу глубокий, широкий ров.
Засаду устраивал Максим Кривонос.
Как только эхо донесло дальние пушечные выстрелы, полковник приказал работы оставить и всем затаиться. Те пушечные выстрелы были условным сигналом — изготовьтесь, идут!
Польский табор двигался медленно, но без помех.
Татарская и казачья конница маячила с обеих сторон, на расстоянии двух-трех выстрелов.
— Волчье племя, — сказал Калиновский Корецкому, — стоит нам споткнуться — налетят. Не чересчур ли спокоен наш коронный?
Потоцкий и впрямь не волновался. Он спал. Все эти дни, после желтоводского разгрома, гетман храбрился: приказывал, карал, спорил, а ночами, наедине с самим собою, бессонно плакал в подушку. Не по злому умыслу, не по совету какого-то тупицы, сам, своей волей уготовил сыну гибель, да так все обставил, что и одного шанса на спасение не дал.
Не зная иного лекарства от боли души, он приказал поставить в карету вина и пил до тех пор, пока не уснул.
В полдень польское войско подошло к Гороховой Дубраве. Пушистый лесок, росший на топком месте, защитил от возможной кавалерийской атаки, но заставил перестроить движение табора. Дорога была узкая. Часть возов с пушками застряла, получился затор. И, увидав сумятицу в стане врага, люди Максима Кривоноса пошли на польский табор приступом. Калиновский, не дожидаясь приказаний коронного, остановил пушки и, продолжая движение, открыл огонь по лесной чащобе. Поляки стреляли наугад, казаки же, спрятавшись за деревьями, в белый свет не палили, целились.
Под убойным огнем жолнеры рвались на открытое место, прочь из западни, а спешка — плохая помощница. Тяжелые возы опрокидывались. Из леса и трясины выбрались, а впереди — головокружительный спуск в овраг.
Пехота и конница прошли это место без потерь, но внизу их остановил ров.
— Задержите их! — двумя руками толкая от себя воздух, кричал Калиновский. — Задержите кто-нибудь!
Приказ относился к обозу и пушкам, которые начали спуск в Гороховую Дубраву.
Жолнеры кинулись засыпать и заваливать ров, но с обоих берегов оврага ударили казачьи ружья. Татары закружили вокруг обоза, и вся масса телег с пушками, с продовольствием, с панским барахлом неудержимо покатила вниз. Лошади скользили, падали. Возы переворачивались, расшибались вдребезги.