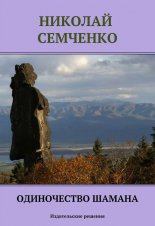Люба Украина. Долгий путь к себе Бахревский Владислав

Ханон снова упал на колени, облобызал у пани ножку, но пани Ирена эту выходку перенесла спокойно.
Уже в тот же день пани Ирена могла бы покинуть Немиров, но задержалась еще на сутки. Попросила Ханона найти ей двух людей, на которых можно было бы положиться в случае нападения. Ханон людей нашел.
Подсаживая пани в колымагу, он посмотрел на прощание в ясные глаза ее и спросил:
— Все дела сделаны, и ничего уже не воротишь. Скажите правду, Ирена, почему вы продали заводы и землю?
Она наклонилась к его точеному мраморному уху и шепнула:
— Я боюсь Хмельницкого.
— Кто это?! — отпрянул Ханон.
— Не знаю, но мы все еще услышим о нем.
Колымага рванулась, покатила.
«Действительно, кто он, Хмельницкий, этот писатель писем, — думала пани Ирена. — Почему я боюсь его?.. Чего я боюсь?»
На развилке дорог она велела остановиться: в Польшу или в замок его преосвященства?
Вспомнила о тайнике.
Взяла себя в руки: «Бежать я всегда успею!»
Колымага покатилась в глубь Украины, но сердце попискивало, покалывало: «А успею ли?»
Гетман Потоцкий привел на Украину армию. Адам Кисель писал слезные письма. Он увещевал Потоцкого быть осторожным. Ради Бога, не надо войск! Войска обязательно восстановят против себя мирных людей. К чему столько шума из-за какого-то взбунтовавшегося сотника?
Адам Кисель писал королю. Умолял вернуть Потоцкого из похода. Неразумная горячность какого-либо шляхтича может стать той самой искрой, от которой вспыхнет весь стог.
Краковский каштелян — великий коронный гетман Николай Потоцкий в эти же самые мартовские дни писал Владиславу IV:
«Не без размышления и основательного рассуждения двинулся я на Украину с войском Вашей королевской милости пана и благодетеля моего. Привели меня к этому весьма важные побуждения: сохранение неприкосновенности и достоинства как Вашей королевской милости, так и самого отечества и его свободы… Казалось бы, легкое дело уничтожить 500 человек бунтовщиков, но если рассудить, с каким упованием и с какой надеждою возмутились они, то каждый должен признать, что не ничтожная причина заставила меня двинуться против 500 человек, потому что эти 500 подняли бунт в заговоре со всеми казацкими полками и со всей Украиною… Хотя я вижу, что этот безрассудный человек Хмельницкий не смягчается кротостью; несмотря на то что не один уже раз посылал я к нему, предлагая выйти из Запорожья, обещая ему помилование и прощение его проступков… Я послал к нему пана Хмелецкого, ротмистра Вашей королевской милости, человека дельного и очень хорошо знающего казацкие нравы, убеждая отстать от мятежа и уверяя словом своим, что и волос с головы его не спадет. Раздраженный этою снисходительностью, Хмельницкий отослал моих посланцев ко мне со следующими требованиями: во-первых, чтоб я с войском ушел из Украины; во-вторых, чтобы полковников и всех их подчиненных удалил из полков; в-третьих, чтобы уничтожил управление Речи Посполитой на Украине…»
И от Хмельницкого приходили письма, но тон их стал иным.
«Ваша милость, я — не мятежник, — убеждал он ротмистра Хмелевского. — Я бью милости краковскому пану челом и прошу его выйти с войском из пределов Украины, поменять начальных людей, действия которых привели к возмущению, уничтожить все постановления, обидные для казацкой чести…»
«Так как Ваша милость, — писал Хмельницкий полковнику Барабашу, — хранили королевские привилеи между плахтами жены своей, то за это Войско Запорожское считает вас достойным начальствовать не над людьми, а над свиньями или над овцами».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
— «Слава Аллаху, господу миров милостивому, милосердному, держащему в своем распоряжении день суда. Тебе поклоняемся и у тебя просим помощи. Веди нас путем прямым, путем тех, которых ты облагодетельствовал, а не тех, которые под гневом, не тех, которые блуждают».
Молитвенный коврик хана Ислам Гирея постелен на самом краю гладкого, блестящего, словно лоб истукана, утеса. Под этим каменным лбом три скалы, три каменных идола — хранители вечности, внизу — зажатая утесами лента долины, и в ней крытый красной черепицей Бахчисарай.
Розовый рассвет сливается с розовым пламенем цветущего миндаля. Миндаль обманулся занесенным ветрами теплом, вспыхнул и через день-другой поплатится за доверчивость. В приднепровских степях снегопады, весна задерживается.
Глаза у Ислам Гирея, как две черные иглы, его взгляд причиняет боль. Хан любит поражать зоркостью.
Но здесь, на молитвенном коврике, он совершенно один.
Это единственный час в сутках, когда он не окружен челядью.
Ислам Гирей закончил молитву. Его глаза устремлены на Бахчисарай. Выхватывают фигурки людей на крышах саклей, среди зелени маленьких двориков. Загораживая от света глаза, люди поглядывают на серый каменный утес, где молится по утрам их великий повелитель. Хан на месте, люди благодарят Аллаха и принимаются за работу, но словно бы с оглядкой, словно бы неуверенные в себе. Улыбка трогает жесткие усы Ислам Гирея. Он собирает молитвенный коврик, идет к лошади, садится в седло и достает из саадака лук и три стрелы.
Над каменными идолами с вечера поставлены шесты с чучелами трех воронов. Ислам Гирей поднимается на стременах и, натягивая тетиву, косит глазом на Бахчисарай. Он видит: люди внизу замерли.
Три короткие звенящие песенки — и шесты свободны от воронья. Хан видит, как закипает внизу работа, и смеется во все горло. Если поражены все три птицы — в Бахчисарае легкий день. Сбито две — жди окриков. Хан — на министров, министры — на беев, беи — на простого татарина, а татарин на за что ни про что огреет плеткой своего раба… Ну а если все три птицы остались на шестах — над Бахчисараем гудит черная буря. В такие дни головы людям скручивают, все равно что подсолнухам.
Гикнув коню. Ислам Гирей птицей полетел по зеленой молодой траве напиться утреннего ветра.
Ел он в тот день с братьями — калгой Крым Гиреем и нуреддином Казы Гиреем. Он позвал их в Бахчисарай для совета.
В январе падишах Турции Ибрагим потребовал от Ислам Гирея сто тысяч войска. Падишах воевал с Венецией. На курултае, где были мурзы всех родов, все улемы, и не только тысячники, но и сотники, было решено отказать турецкому падишаху в его требовании.
Ханов ставили и свергали в Истамбуле. Ислам Гирей, противясь воле Ибрагима, рассчитывал на поддержку всего крымского народа, но еще более на недовольство — падишах сыскал нерасположение всего Истамбула. Чтобы смягчить отказ. Ислам Гирей отправил в гарем Ибрагима пятьдесят красавиц и мешок золота для его матери, великой Кезем-султан, пережившей мужа, воздвигавшей на престол и свергавшей с престола по очереди своих сыновей, покуда у нее не остался последний — идиот Ибрагим. Лучшие годы жизни, всю свою молодость Ибрагим просидел в дворцовых тюремных ямах, ожидая неминуемой смерти от руки венценосных братьев. Очутившись на престоле, он за двенадцать лет царствования не поумнел, но звериная осторожность каторжника оставила его.
Все шло прахом. Войны были проиграны, казна опустела, а султана Ибрагима заботило лишь одно — из-за морских сражений с Венецией сократился подвоз из Европы драгоценных тканей, столь нужных гарему.
Власть в стране давно уже перешла к евнухам. Мелочный государь обрастает мелочными людишками. Евнухи дрались за первенство между собой, помышляли о том лишь, где и как добыть себе платье дороже прежнего. Грабили турецких купцов, а потом принялись и за иностранцев.
Дело дошло до того, что все иноземные суда зажгли на мачтах огонь — знак требования правосудия падишаха — и прошли мимо Сераля. С жалобами явились послы Англии Франции, Голландии. Пришлось падишаху раскошелиться и заплатить за шалости своих тонкоголосых любимцев.
Угощая братьев, хан рассеянно слушал анекдоты о выходках повелителя миров, убежища веры падишаха Ибрагима.
— Ты чем-то озабочен, государь! — не выдержал наконец калга Крым Гирей.
— Я позвал вас обговорить одно важное дело.
— Мы готовы идти за тобой хоть в саму преисподню! — воскликнул совсем еще молодой Казы Гирей.
Хан благодарно прикрыл глаза пушистыми ресницами.
— В Бахчисарай приехали казаки. Они взбунтовались против Потоцкого и зовут нас идти на Польшу войной.
— Но разве можно доверять гяурам? — загорячился Казы Гирей.
— Предводитель казаков в заговоре с польским королем. Я давно уже получил известие от верных людей, что этому казаку дадены деньги на постройку судов, на которых казаки должны идти на города Крыма и Турции. Мне доподлинно известно также, что казаки построили всего две лодки и собираются повернуть оружие против своих утеснителей, против польской шляхты. От казаков уже приезжало посольство, и вы знаете, что я его не принял.
Хан замолчал, и тогда заговорил Крым Гирей:
— Я думаю, его надо выслушать.
— Это удивительно: наши заклятые враги предлагают союз. Я не верю им! — закипел Казы Гирей.
— Падишах Ибрагим запретил нам походы на Русь и Польшу. Мне дважды пришлось возвращать мурз из набегов. Тугай-бей собирался в декабре воевать Буданскую землю, а неугомонного Караш-мурзу с пятью тысячами джигитов в январе я вернул из похода на московские украйны. Я остановил мурз не потому, что боюсь гнева падишаха Ибрагима, но у поляков и русских ныне договор. Если в позапрошлом году князь Вишневецкий опоздал перехватить наше войско, то ныне может поспеть вовремя.
— Государь! — Казы Гирей от поразившей его мысли ударил ладонью о ладонь. — Если мы с казаками нападем на Польшу, от союза русских и поляков и следа не останется. Поляки пойдут воевать православную Украину, и православная Москва обязательно вступится за единоверцев.
— Предотвратить нападение казаков на Крым — доброе дело, — сказал калга Крым Гирей. — Но главная польза от союза с казаками в другом. Тугай-бей, Сефирь Газы, Сулешевы — все хотят большой добычи. Запорожские казаки — ключи, их нужно взять. Полные хурджуны вернее клятв. Блеск золота затмит обиды беев и мурз и всю ту распрю, которую мы пережили в прошлом году.
Распря была немалая. Сеймены — постоянная армия хана — ударили челом калге на великого визиря Сефирь Газы. Он-де убавил жалование, иным совсем не дает, добычу делит неправо. Сеймены грозили прийти в Бахчисарай и убить Сефирь Газы. Хан Ислам Гирей поспешил отставить своего ближнего человека от должности, и тот отбыл сначала в Кафу, а потом в Перекоп к Тугай-бею и Караш-мурзе.
Тугай-бей увел недовольных за Перекоп, в степи, захватил стада и табуны, принадлежащие нуреддину, калге и самому хану, возмутил против них сильные ногайские роды.
Под Акмечетью и Карасевом войска Тугай-бея сошлись с войсками хана. У Ислам Гирея были пушки, и он победил. Тугай-бей снова ушел за Перекоп.
И вот тут-то Ислам Гирей показал себя мудрым ханом. Он отправил к восставшим мурзам Сулемшу Сулешева, человека, которому Тугай-бей доверял, и распря была прекращена. Сефирь Газы занял свою прежнюю должность «ближнего человека», а Тугай-бей получил должность перекопского бея.
Все эти события трудного прошлого года вспомнились царствующим братьям, и хан Ислам Гирей, поглядев в глаза Крым Гирею и Казы Гирею, сказал твердо:
— Я приму посольство казаков.
Уже три дня Богдан Хмельницкий и его посольство жили в Бахчисарае. Поместили их в голой сакле, кинули им охапку соломы и приставили стражу. Обходились хуже, чем с невольниками. Невольников хоть плохо, но кормят, а здесь одна привилегия — сходить на Чурук-су воды зачерпнуть. Вода в ручье грязная, через весь Бахчисарай течет.
— Терпите! — сказал казакам Богдан в первый день.
— Терпите! — сказал во второй, и на третий день был у него тот же строгий сказ.
Пришли за ними в полдень. Сулемша Сулешев пожаловал, а с ним дворцовые люди. Стали спрашивать, как доехали, как спали.
— Сладко спали, — сказал Богдан по-татарски.
— Ай, сладко! — засмеялся Сулешев и пнул сапогом солому. — Молодец, казак!
Татар было четверо. Троим Богдан дал по два талера, а Сулешеву серебряную чарочку.
— Молодец! — засмеялся татарин. — Хорошо по-нашему говоришь, хорошо обычаи знаешь.
Привели казаков в центр города, к звонкоголосому базару.
Взял их к себе в дом купец из армян Аветик-оглы. Сразу же усадил постояльцев за низенький, с вершок от пола, турецкий стол. Подал гостям вина и зажаренного на вертеле барана.
С Тимоша глаз не сводил, подкладывал самые нежные кусочки.
Когда доброе вино размягчило души и освободило, языки, Аветик-оглы спросил Хмельницкого:
— Отец, зачем ты взял с собою сына в царство, где слово «казак» — самое ненавистное слово?
— Почтенный Аветик-оглы, — ответил хозяину дома Богдан, — если юность моего сына рождает в сердце твоем тревогу и жалость, то кто же измерит боль отцовского сердца? Скажу тебе, почтенный Аветик-оглы: чтобы весь табун прыгнул в пропасть, первым должен кинуться вожак.
— Мне не понять этого, — сказал Аветик-оглы, — но я в полной мере испил чашу одиночества. Я хотел видеть своего сына самым ловким и знающим торговцем и потому брал его с собой во все дальние страны. Однажды мы поехали, как всегда, вдвоем, а вернулся я один.
— Да ниспошлет тебе Господь облегчение! — воскликнул Богдан и опустил голову в тяжкой задумчивости.
Вечером в дом Аветика-оглы явились слуги с подносами и сосудами. Они принесли изысканные блюда и дорогое вино. Следом за столь щедрым подношением прибыл Сефирь Газы.
— Это тебе от меня! — сказал он Хмельницкому.
Богдан поклонился ближнему человеку хана и поблагодарил его, красивых слов не жалея:
— Да восславим, братья-казаки, щедрость и мудрость человека, который взял на себя труд позаботиться о нас, чужестранцах, о бывших своих противниках, которые ныне уповают на союз!
А чтобы слово не стало одним только звуком, Богдан подарил Сефирь Газы серебряную бабу, сработанную весьма искусно и тяжеленькую, фунта на три чистого серебра. Уж видно, в добром каком доме, а то и во дворце прихватила в свое время казачья рука сию безделицу.
Сефирь Газы растаял, как воск. Сразу заговорил о деле. Спросил, какую помощь хотят получить казаки от хана.
Хмельницкий, прежде чем начинать разговоры, показал Сефирь Газы привилеи короля Владислава IV, из которых явствовало, что польский король намерен послать большое казачье войско не только на Крым, но и за море, на Турцию.
— Я делаю вид, что собираю казаков для морского похода, — сказал Хмельницкий, — но заложил всего две «чайки» — отвести полякам глаза. Я пойду с моими людьми на Украину, чтобы навсегда очистить ее от польских панов. Если хан поможет мне войском, весь полон — его.
— Дай мне грамоты короля, — попросил Сефирь Газы.
— Не могу! Я должен сам показать их великому хану.
Казаки получили свободу, но к хану звать их не торопились.
Вечером пошли казаки помолиться Богу в Успенский пещерный монастырь.
«Полазить бы по горам!» — думал Тимош, мальчишескими жадными глазами глядя на скалы, окружавшие Бахчисарай со всех сторон.
Было тепло. В кустах звенели птицы, одуванчики уже толпились у белых троп.
Слушали в пещерном храме вечерню, когда к Хмельницкому подошел синеокий монах и не столько сказал, сколько повел глазами:
— Тебя ждут.
Богдан тронул за рукав Тимоша. Тимош пошел за отцом.
— Тебя ждут одного, — сказал монах, когда они вышли из-под сводов пещерного храма.
— Это мой сын, — возразил Хмельницкий.
Монах поколебался, но потом, соглашаясь, опустил веки:
— Пошли.
Тропинка прижималась к скале, плутала в кустарнике — и вдруг выбитые в камне ступени наверх.
— Ступайте! — показал монах рукою на ступени.
Богдан скользнул рукой по поясу, проверяя, на месте ли кинжал. Тимош первым шагнул на каменную ступеньку, и отец заметил, как сын на ходу оправил в голенище рукоятку ножа.
— Не торопись! — сказал Богдан Тимошу. — Я пойду первым.
Лестница оборвалась разом. Они стояли на зеленом плоскогорье. Солнце уже село, и его лучи были как растопыренные пальцы ладони.
Только в следующее мгновение Тимош увидел людей, позвавших отца.
Пятеро стояли в стороне. Один на площадке, углом надвинувшейся на ущелье.
Отец опустился перед этим человеком на колени. Тимош не мешкая последовал примеру отца.
— Поднимись и отвечай мне. Сколько у тебя войска? — спросил человек, которого отец почтил коленопреклонением.
— Великий государь, приветствую тебя, владетеля степей, морей и гор! Не знаю, придется ли тебе по душе мой ответ, но я буду говорить правду. Нынче у меня за Порогами тысяча казаков, через две недели будет две тысячи, еще через две — все три. Но стоит мне пробиться на Украину, в единый день у меня будет сто тысяч.
— Почему брат мой, польский король, вознамерился разрушить мир и покой, собирая казацкие войска для похода на Крым и на Турцию?
— У короля договор с Венецией. Король мечтает о славе. Польские магнаты не хотят большой войны, но им на руку услать с украинской земли казаков, которые все недовольны и готовы возмутиться, угнетаемые хуже последних рабов.
— Чем ты можешь доказать правдивость своих слов? Что, если тебя послали сами поляки, замышляя заманить и уничтожить мое войско?
— Великий государь! Клянусь Аллахом!
— Ты, казак, клянешься Аллахом! — гневом опалило лицо хану.
— Я — мусульманин, великий хан. Я принял ислам, живя с Истамбуле.
«Господи!» — у Тимоша запылало лицо.
— Великий государь! Вот мой сын! Моя надежда, моя кровь! Я оставляю его залогом моей верной службы тебе, ибо более дорогого залога мне не сыскать.
— Я подумаю над твоими словами.
Хан сделал знак людям, те подвели ему коня.
— Дозволь мне, великий государь, еще тебе сказать. Война, которую в союзе с тобой мы начнем против Польши, принесет тебе и твоему народу несметные богатства, а нам освобождение. Если же казакам придется пойти войной на Крым, то в проигрыше будут и татары, и казаки.
Хан пронзил Хмельницкого черными иглами глаз, сел в седло.
— Я выслушаю тебя и твоих казаков завтра.
Ускакал.
— Отец! Ты — мусуль…
— Молчи, сын! Молчи! — Богдан обнял Тимоша. — Думаешь, хан верит в мое мусульманство? Нет же! Нет! Но ему удобнее с моей брехней. Ради Украины, сын, мне и в пекле будет гореть сладко… Не о том теперь речь. Я тебя оставляю здесь не только как заложника. Поглядишь за ними, за чертями. Держись смелее. Нам в одной упряжке с ханом долго еще скакать… Гляди-ко!
Над дальними скалами, за Чуфут-Кале парили два орла.
— Ничего, сын! Мы тоже этак вот — воспарим.
Прижал лицо Тимоша к своему, больно прижал.
— А покуда — терпи. Ты молодец. Я все вижу. Умеешь терпеть.
Ковры, положенные один на другой в несколько рядов, глушили шаги. Ханский трон — подобие шатра — стоял между окнами. Свет слепил послов, курились очищающие от скверны две огромные жаровни.
Казаки поднесли хану серебряную чашу на добрых два ведра, женам его — браслеты, кольца, материи. Подарки благосклонно были приняты, Хмельницкий показал хану королевские привилеи на постройку «чаек». Ислам Гирей сам прочитал грамоты, польский язык он выучил в плену. Разрешил Хмельницкому говорить.
— Боже! Всей видимой и невидимой твари содетель! Ведатель помышлений человеческих! Клянусь тебе, чего ни потребую, чего ни попрошу у его ханской милости — все буду делать без коварства и измены. И если б с моей стороны вышло что-нибудь ко вреду его ханской милости, то допусти, Боже, чтоб этою саблею, — Хмельницкий показал на саблю хана, — отделилась моя голова от тела!
— Мы верим тебе! — сказал Ислам Гирей. — Начинайте вы, потом я приду и разорю Польшу.
У хана были причины гневаться на короля Владислава. Король решительно отказался платить Ислам Гирею ежегодную дань — «поминки», ибо он — «отпущенник». Двадцать лет тому назад будущий хан был в плену, отпустили его, взяв клятву — никогда не нападать на польские земли.
По знаку хана Богдану поднесли черкесский панцирь, саадак с луком, стрелами и кинжалом, розовый кафтан, раззолоченный кунтуш и опоясали дорогой саблей.
На том прием был закончен. Ради будущей удачи и ради дружбы хан устроил для казаков пир.
Угощал казаков нуреддин. На пир явился глава ширинского рода, по знатности после Гиреев первый в Крыму, перекопский мурза Тугай-бей, а с ним — Иса.
Сели они по-семейному: Тугай-бей с Богданом, Иса с Тимошем. Много не говорили, только похлопывали друг друга по плечам.
— Помнишь, как ночью засаду ждали? — шепотом спросил Иса.
— Помню.
— А помнишь, в карты играли, в носы?
Иса от радости коверкал русские слова, и Тимош смеялся и говорил по-татарски, смеша Ису.
Но скоро смех у Тимоша иссяк.
— Ты чего стал мрачный? Ты мне не рад? — Обида прозвенела в голосе Исы.
— Чего мне радоваться? Я остаюсь заложником.
— Ты остаешься в Крыму! — Иса хлопнул в ладоши, вскочил на ноги. — Ай, хорошо!
— Тимош остается у хана, — объяснил Тугай-бею Богдан.
— Пусть и мой сын остается у хана. Вдвоем им будет хорошо. Они — большие друзья. — И посмотрел Богдану в глаза. — Отбрось все сомнения. Я приду к тебе в срок, который ты назначишь.
— Сколько под твоей рукой сабель?
— Шесть тысяч.
Хмельницкий, обдумывая свою мысль, улыбнулся, а потом и просиял, словно солнце всходило — и взошло.
— Буду вечный твой должник, Тугай-бей.
— Это я твой должник. Ты сына мне сберег. Скажи, когда мне надо быть у тебя?
— Ровно через месяц, день в день. Восемнадцатого апреля. Но до этого хорошо бы тебе послать небольшие отряды. Нужно сбить в степи сторожевые посты. Они стоят на пути людей, которые идут ко мне.
Тугай-бей поднялся, поднялся и Хмельницкий. Тугай-бей прижал его к своему сердцу, а казак Тугай-бея — к своему.
В Чуфут-Кале — каменный город караимов — прискакал Суюн-ага, чауш Ислам Гирея. Он привез ханский фирман главе общины старому Эрби. В Чуфут-Кале на житье и под надзор направлялся сын казацкого атамана Хмельницкого — Тимош.
Старый Эрби прочитал фирман и с гневом отшвырнул от себя:
— Мы никогда не примем в свой город казака!
Суюн-ага побледнел от ярости.
— Вы, не убоявшись гнева высокосановного хана, бросаете его фирман наземь! Противитесь воле его! Так знайте же, что к Балта-Тиймезу дотронется топор!
Чауш ускакал, и вожди караимов немедля короткой опасной дорогой помчались за ним следом: Балта-Тиймез — священная дубовая роща на кладбище. Догнали Суюн-агу у Салачика, одарили решительного чауша деньгами и объяснили причину своего отказа принять заложника.
— Мы не можем поручиться за жизнь молодого Хмельницкого. Многие из наших имеют к казакам кровную месть.
Суюн-ага выслушал объяснения, взвесил на руке мешочек с деньгами и, сменив гнев на милость, обещал уговорить хана отменить приказ.
Хан Ислам Гирей, услыхав о кровной мести, решил оставить Тимоша в армянском квартале, у Аветика-оглы.
Казачье посольство уезжало из Бахчисарая рано поутру. Положив руку на плечо Тимоша, Богдан прошелся с ним по зеленому дворику.
— Смотри тут за ними, сынок. Весточки мне будешь слать через того синеглазого монаха. Чтоб не заметили, Богу молиться ходи каждый день. Не ленись. Татары пять раз на дню молятся.
Тимош, взъерошенный, как совенок, глядел на отца — на животворную икону так не глядят.
Казаки троекратно обнимали и целовали хлопца-заложника, совали ему кто что, лишь бы утешить. Богдан первым сел в седло, наклонился, пожал Тимошину руку.
— До встречи, сынку! Бог даст, встреча не за горами.
И рукой, будто невзначай; по голове Тимоша погладил.
Вот тут-то и навернулись слезы на глаза хлопцу.
— Гей! — крикнул Тимош, набычив голову и ударяя рукой по крупу отцовского коня.
Казаки поскакали.
— Гей! — взмахивал руками Тимош, шагая следом.
Кони взяли в галоп, хлопец побежал, но тотчас и остановился. Татары смотрели на проводы. А татарки, уже проведавшие, кто это и почему оставлен, украдкой отирали глаза. Уж они-то знали, что такое разлука.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Татарские летучие отряды, рассыпавшись по степи, сбили польские заслоны. Человечье половодье захлестнуло Сечь. В первую же неделю четыре сотни Хмельницкого стали четырьмя тысячами.
В сопровождении Ганжи Богдан ехал поздороваться с вновь прибывшими, посмотреть, как их принимают старожилы, как устраивают.
Ехали мимо того места, под горой, откуда стреляли в Тимоша.
— Видишь оползень? — показал Богдан Ганже.
В тот же миг что-то свистнуло, толкнуло Богдана в грудь.
— Ты ранен? — закричал Ганжа, загораживая Хмельницкого.
Богдан без страха, с одним только удивлением смотрел на дрожащее тело стрелы, впившееся в его грудь. Дернул стрелу от себя: ни боли, ни крови. Ганжа выхватил из-за пояса пистолет.
— Не поднимай шума! — гаркнул Богдан. — Я — невредим.
Дал лошади шпоры. Ганжа догнал его.
— Надо позвать людей! Прочесать лес!
— Не надо! — сказал Богдан. — Никто не должен знать об этом. Ни один человек.
Сломал стрелу, бросил в кусты.
— Тебя надо перевязать.
— Цел я. Пуговица спасла. — Богдан оторвал от кунтуша расплющенную ударом пуговицу, подержал на ладони, бросил в ручей. — Ни один человек, Ганжа, не должен знать об этом.
Ганжа, как всегда, молчал. Он и соглашался молча, и протестовал молча.
В тот же день Хмельницкий с ближними людьми уехал на рыбную ловлю и как в воду канул.
Лодка вошла в камыши, будто в стог сена. Стало темно. Сухие стебли с шуршанием, с треском пропускали лодку в свои дебри, но тотчас вставали стеной.
Максим Кривонос в сердцах рубанул ладонью по камышинам.
— Да ведь в этой страсти и пропадешь не за понюх табака.
— Нехай! — возразил казак, ведший лодку. — Мы дорогу знаем.
— Где она, дорога? По каким засечкам ты правишь?
— Правлю, как сердце сказывает, да еще на небо поглядываю.
Кривонос посмотрел на серое, в облаках, небо и только крякнул. Вышли на чистую воду возле каменного островка.
— К нам гость! — обрадовался Хмельницкий, когда низкая дверь пропустила Кривоноса во чрево теплого черного куреня. — Садись, Максим. Мы тут возле печи бока греем да носы друг другу лихостим. Вон у меня, погляди, как репа пареная. Шульмуют, мудрецы! Да только не пойман — не вор.
Кривонос, привыкнув к потемкам, стянул сапоги, скинул кожух, сел спиной к печи.
— Тепло живете.
Богдан засмеялся:
— Человек — хитрец! Печь затопил и в дрему, до теплых дней.