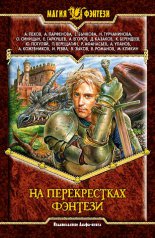У женщин грехов не бывает! Крицкая Ирина

Рыжий толстячок в черной шапочке складывал в чехол треножник.
– Первый раз в Иерусалиме? – он спросил.
– Что, заметно?
– Заметно… Я здесь уже пять лет. Мне до сих пор кажется, что я на Баковке, у моей пьяненькой тетушки.
Примерно так начинались все разговорчики, не говорить ни с кем в этом городе оказалось невозможным. Но мне понравилось в этом бардаке. В этом городе много рыжих. Где рыжие – там энергия, где рыжие – там жизнь.
Я прошла до своей гостиницы почти все кафешки и ресторанчики. Вкусным не пахло.
Но тут я вдруг остановилась. Чем пахнет? Я пыталась понять. Теплый камень, медные деньги, мокрая шерсть… и немножко кофе. Легкий аромат выплывал из кофейни. Я вошла.
Внутри все было забито черными мужиками. Черные куртки, рубашки в черно-белую клетку, черные джинсы, черные рожи. Все стрельнули глазами, когда я вошла.
«Да пошли вы…» – Я села у стойки и закинула ногу на ногу.
А Лера не понял! Он не понял, что я уже не в компе, что я топаю по камню в Иерусалиме. Он вышел в Сеть – а меня там нет. Нет в Сети «Хохлушки». Все его мымры на месте, глупостями звянькают, а меня нет. Он позвонил и спрашивает:
– Где ты, маленькая?
– В отеле, в Иерусалиме, – говорю.
– Ты уже в кроватке?
– Да, я в кроватке, – томным басом ему отвечаю.
– Голенькая лежишь?
– Ах-ха… – Я потянулась.
Постель была приятной, отельчик фу, а белье классное. Мне хотелось спать, я устала с дороги, но уснуть не могла.
– Боишься меня? – я Леру спросила.
– Нет, зайка. Я уже ничего не боюсь, – он наврал. – Отдыхай, моя девочка. До завтра.
12
Лера боялся. И я испугалась, когда мне в номер позвонили: «Машина ждет». Я вышла на лестницу. Таксист и портье таращились снизу, пока я спускалась. Когда не знаешь языка, интересно наблюдать за лицами. На этих рожах, кроме откровенного любопытства, было презрение, почти брезгливость.
А что не так? Что я такого плохого делаю? Да, я еду в Ашдод. Да, на ночь глядя. Да, в субботу. Да, я напялила это платье. И что? А потому что я к Лерочке еду. Он понимает простые вещи: платье в обтяг, сиськи наружу, каблук высокий – это Лерочке понятно. И мне плевать, что вы тут сейчас про меня думаете.
Таксист взял мою сумку осторожно, как будто у меня там лежал килограмм героина. Спросил на английском:
«Это всё?»
Всё! Умные все тут такие, каждый таксист у них по-английски шпарит. Платье мое ему не нравится!
Араб спросил адрес. Я хотела набрать Леру, чтобы он объяснил, куда меня везти. Достала телефон, и вдруг у меня задрожали руки. Очень сильно задрожали, как у алкоголика. Такая трясучка была у меня всего один раз в жизни, в онкологическом диспансере.
Я пришла туда к маме сразу после операции. Принесла ей теплое одеяло. Все было хорошо, я уже с врачом поговорила. «Все нормально», – он меня успокоил. Но когда мать вышла из палаты, у меня задрожали руки. Сами собой, я не могла это контролировать и не сразу заметила. Мама просекла и улыбнулась. Я прикрыла ладони одеялом.
Она была в халате, из-под ребра у нее торчали трубки, глаза еще были возбужденными после наркоза. По коридору шел врач. Она кивнула на него:
– Какие мужики! И все кавказцы! Хирург – весь в белом! Высокий! Молодой! А глаза чееееррррные… И все плакал надо мной: «Да как же так?! Как же мы будем резать такую грудь? Такая грудь! Ну, нет, нет, мы не можем отрезать… Мы должны еще раз проверить…». А я им говорю: «Да режьте к черту! Вы думаете, это для меня так важно? Какая глупость!». Он скальпель берет… Какие руки! А сам меня заговаривает: «Так… О чем мы будем беседовать? Давайте о Цветаевой. Давайте про любовь Цветаевой и Эфрона… Ну?! И как вы думаете? Зачем она вернулась из Парижа?».
Моя мать подняла лицо и посмотрела на меня, ее турецкий нос в профиль стал еще острее и тоньше. Она захохотала:
– Что ж мужики такие идиоты! Они думают, мы все трясемся за свои сиськи!
Я вцепилась в свое одеяло и тоже засмеялась:
– Мам! Ты, похоже, умирать собралась? Да? Тебе перед смертью все мужики красавцы!
В отеле у меня случился такой же приступ. Мне казалось – внутри я спокойна, но телефон в руке дрожал, и это было видно. Я смотрела на свою руку, как будто это не моя рука. Я не могла попасть на единственную кнопку. Неудобно даже стало. Портье улыбнулся одними губами:
– Леди, я помогу, – и забрал у меня этот сучий телефон.
– Оставьте мой номер до конца недели, – попросила я.
– Если у вас будут проблемы… Возвращайтесь, – он сказал. – Перезвоните нам, если этого не потребуется.
Мы выехали из города. Вдоль шоссе мельтешили худенькие пальмы и елки, такие же, как у нас на Кавказе, по склонам желтые камни – ничего интересного. Только дорога такая мягкая, что мне сразу захотелось вышвырнуть таксиста и самой порулить.
– Одна приехала? – гаркнул он с наездом.
– Одна, – отвечаю, с таким же выездом нижней челюсти.
– Муж отпустил?
«Какое твое собачье дело, – думаю, – отпустил меня муж или не отпустил». Не люблю говорящих таксистов.
– Смелая женщина… – дед зыркнул на мои голые ноги: – Русская?
– Да. – Я прикрылась платком.
– У меня сноха тоже русская.
– Посмотри на него, – дед кивнул на заднее сиденье. Там сидел мальчик, толстый смуглый арабчонок. – Наполовину русский. Похож?
– Похож, – я улыбнулась.
Дед подобрел. Набрал Ашдод и опять заорал как глухой. Едет с навигатором, по указателям, и все равно названивает, двадцать раз уточняет, как будто везет тротил.
Я отвернулась в окно, а Лера кушал. Кушал шашлычок. И водочки немножко выпил. Чуть-чуть, для храбрости. Он ждал меня с друзьями. Без друзей невкусно. Лерочка артист! Ему нужна сцена, публика, ассистенты, аплодисменты. Музычку нам, пожалуйста! Что-то у них там звучало, что-то старенькое, что-то почти советское… Не помню.
А вокруг, между прочим, благодать. Ноябрь, и уже нежарко. Ветерочек нежный качает пальмовые листья. Маленькие магазинчики друг за другом зажигают вывески, и вдалеке у моря видно высокие башни портовых кранов.
Эта кафеха стояла на въезде в Ашдод рядом с заправкой у пляжа. Волосатые пальмы, пластиковые столики, барная стойка. Рекламный щит закрывает все это с трассы. Лера спрятался за этим щитом, как за кулисами.
Шимшон всем объявил, что какая-то подозрительная девушка, скорее всего аферистка, с минуты на минуту подъедет сюда из России. Шимшон ждал шоу и отмазывался по телефону:
– Какой домой! Мы кушаем! Ашота поздравляем… Ашоту сорок лет! Какой домой?
У этого Ашота, хозяина заведеньица, глаза жили своей личной жизнью, сами подпрыгивали, сами подмигивали, потому что в кармане у Ашота всегда лежал косяк.
– За тебя! – кивнул он Лерочке. – А то мы уже беспокоиться начали, куда это у Леры все бабы подевались…
Шимшон откусил жареную курицу и вздохнул:
– Какие у нас в Сочи были шашлыки…
Да, и я тоже, когда я очутилась там, за столиком, накрытым белой скатеркой в красную клетку, вспомнила Сочи и свое пионерское детство. Звуки, запахи, слова – все те же, как в прошлой жизни, где-нибудь на съемной даче, в те времена, когда мой папа с оркестром выезжал на летние заработки. А мама, загорелая и мягкая, сидела в открытом сарафане, в серебристых босоножках и смеялась. Она всегда отвязно хохотала, слегка закидывая голову, и тонкая ее шея изящно изгибалась. Мужчины делали ей комплименты, отец подхихикивал с бабьем, двумя пальцам держал бокал вина и впаривал свои гастрольные анекдотики. Меня посылали к проигрывателю поставить пластинку Пугачевой. Обязательно откуда-то возникала маленькая шустренькая дама и приносила селедку под шубой. И мне в тарелку накладывала эту мешанину, которую я терпеть не могу.
Там, в Ашдоде, за столиком, было все примерно то же самое. Расслабуха, как при Брежневе. Ни одного мужика в костюме – кайф! Ни одного галстука – ура! Никаких разговоров про бизнес – супер. Люди кушают! Людям хорошо! Люди выпивают. Суббота у людей.
– За маму! – кричали мужские голоса.
– За именинника! – подпевали женские.
– Война! – пугал всех Шимшон. – Война будет! Мать моя говорила еще в Тбилиси. Третья мировая!
– Будет все, как в Ираке, – отвечали с соседнего столика: – Размондят всех арабов к чертовой матери!
Шимшон начал расспрашивать, сколько мне лет, и подсчитывать, какая у нас разница. Двадцать? Не многовато? Да нет, в самый раз. А есть ли дети? Двое, да? Странно, и муж отпустил? А Лера руки в стороны, голову в плечи:
– Отпустил.
– Красивая? – Ашот ехидно сощурился.
А Лера ему с таким же прищуром:
– Конечно…
– А грудь?
– О-о-о! Грудь… – Лера поднял руки и показал что-то грандиозное, и сам удивился, глядя на свои открытые ладони.
Потом, конечно, Шимшон спросил про деньги. Есть ли они у меня. Лерочка прикинул, что вроде бы есть.
– Откуда сейчас в России деньги? – обиделся Шимшон. – В России деньги только у новых русских.
– Она и есть… – Лера откусил огурчик, немного сомневаясь, врать или не врать, но все-таки не удержался и приврал: – Она и есть новая русская.
– Но пионером-то была?! – друзья заволновались.
– Была, была, – он успокоил. – Конечно.
Потом Ашот поменял свои глаза местами и спросил, какого года фотографии висят у Лерочки в Сети. Он долго смеялся, когда узнал, что это «те самые», с круиза.
– Те фотки, да? Смотри, как ты разъелся за три года! Ничего?
Лерочка опустил глаза на свой живот, обтянутый синей рубашкой.
– Ничего… – Он погладил свое пузочко. – Что-нибудь придумаем…
– За тебя! – подмигнул Ашот. – Чтоб тебе сил хватило! А если не хватит – звони, мы придем!
– Ты у меня договоришься… – Лера проскрипел.
Возле рюмочки задергался телефон. Прискакало смс от штатной любовницы. «Привет, Толстенький, – Лерочка прочитал. – Я вижу, что ты изменился. Видимо, ты берешь на себя больше, чем позволяют твои возможности. Кстати, я сейчас подумала, у тебя очень похотливые глаза».
Лера не любит такие длинные смс. У него есть три любимых слова: «хочу», «моя» и «срочно». Про «глаза» и про «возможности» Лера не понял. Он не успел ответить. Таксист уже кричал в трубку, боялся пропустить один-единственный поворот.
Маленькая шустренькая мама именинника вынесла на стол неубиваемую русскую селедку под шубой. Рядом на траве зажгли костер. На огне стоял большой черный казан. От него тянуло дымом и жареным луком. Татарин, большой и улыбчивый, резал морковь крупной соломкой. Народ то и дело поворачивался:
– Рустам, скоро?
– Скоро, – он загадочно улыбался и помешивал свое варево длинной ложкой.
Татары всегда загадочно улыбаются, когда мутят свой плов. Я знаю эту методику, им по барабану покушать, им просто нравится томить морковку и помешивать. Они делают это важно, стараются, чтоб шипело подольше, чтоб дымок погуще – это татарам нравится, а народ покормить – дело десятое.
Татарин улыбался и помешивал, а гости надрывались:
– Скоро?
И Шимшон с Ашотом спрашивали Лерочку:
– Скоро?
И он мне звякнул: «Девочка моя… Ты скоро? Подъезжаешь уже?!». У Леры схватило горло, он прошептал: «Милая, передай водителю трубку». Отдал свой телефон Шимшону, сам не смог дорогу объяснить.
– Встречай, – Шимшон начал мерзко хрустеть пальцами.
– Сбежишь, может, пока не поздно? – подмигнул Ашот. – А мы тут сами… разберемся.
– Ох, что ж я вытворяю… – Лерочка вздохнул.
Такси остановилось на парковке за рекламным щитом. Человек, похожий на страницу из гербария, вышел на дорогу. Это был Шимшон. Дед хмыкнул разочарованно:
– Это твой мужчина?
– Нет… – Я отвечала медленно, как будто мне вкололи ледокаин. – Это его друг.
Дед передал Шимшону мой чемодан. Гаркнул со злостью на его открытый бумажник: «Все оплачено», – и сунул мне визитку. Расстроился, хотелось этому арабу посмотреть, что там за еврей такой, из-за которого дрожали мои ручки.
А ручки снова задрожали. Я забыла поздороваться с Шимшоном.
– Где Лера? – я спросила.
– Лера там, – он показал за рекламный щит.
Не помню, совсем не помню, что на том щите было нарисовано. Я стояла на месте. Скомкала свой платок, затолкала его в маленькую сумку. Шимшон рассматривал меня, как все они тут, маньяки, рентгеном, с головы до ног. Потом подошел с моим чемоданом к своей машине, хлопнул себя по карману: «Ой, ключи забыл», – и поскакал к столику, с докладом.
– Ну как? – у него спросили.
Он показал:
– Во!
Я вынырнула из-за щита и пошла на Лерочку, как танк, не глядя под ноги. Мне нужен был его взгляд, первый, самый настоящий. Я знала, Лера блефовать умеет, и в картишки ему везет, но когда он пугается, ему не хватает всего пары секунд, чтобы прикрыться. Я хотела застать его в эти две секунды, когда он настоящий.
Лера вздрогнул, когда меня увидел. Плечи поднялись и опустились. Губы сделали удивленное: «Ах!». Голова повернулась набок. Руки упали. Он откинулся в кресле и съехал по спинке. Лера плавился. Глаза у него горели, как у ребенка, и никакой похоти в них не было. Секунды четыре, может быть восемь, они так горели, но мне хватило, чтобы понять – я его угадала. Себе нужно верить, и я всегда знала: Лера живой, никакой он не глюк, не проекция моих желаний. Когда я наклонилась целовать, он поднял ко мне лицо и пропел таким смешным тоненьким голосочком:
– Ирочка моя приехала…
13
Никто не умеет целовать, как Лера. Никто. Все мямлят, слюнявят, кусают… А Лера целует, как будто бросает на волны – плыви, зайка! У Лерочки сладкие губы, горячие и сильные. Я боюсь вспоминать, накрывает с головой.
В машине он меня целовал, на заднем сиденье. Жадно, взасос, язычком за язык, как две змейки. Я вздохнуть не могла, я сама не знала, что меня еще никогда не целовали по-взрослому. Дождалась я счастьица.
Я обняла его ножкой и залезла к нему под рубашку… Нежный, теплый Лерочка под рубашкой. Он взял мою руку, положил себе на джинсы. Хвалился, на ушко шептал: «Я сейчас тебя скушаю…».
Хорошо, что гостиница была недалеко.
Таксист рулил, широко расставив локти, как будто у него в спине торчал осиновый кол. Он спросил, не оборачиваясь:
– Куда вас везти?
– В «Майами», – Лерочка удивленно приподнял бровь.
В «Майами» везти нас, куда же еще? Пора бы запомнить. Привык Лера к «Майами», удобно ему. Возле работы, рядом с домом. Тихое местечко, все насквозь пропахло ванилью. Напротив китайский ресторанчик, там рыбку хорошо готовят, креветочки бузуют в кислом соусе. В «Майами» Лера встречался с этой черненькой, которая с челочкой. И с беленькой, которая с хвостиком. И с негритяночкой, и с китаяночкой, и с папуасочкой… Нечасто, нечасто. Разочка три в месяц.
– В «Майами»? – Таксиста заклинило. – «И ее в «Майами»?
Я сжала руку у Лерочки на джинсах, и в губы его, сама, как научил. По фигу, я не капризная. Везите в «Майами».
В этом номере Лера еще не был. Зачем ему две комнаты на несколько часов? Он глазами по стенам пробежал:
– Тебе нравится, зайка?
Ну, я же сказала: мне по фигу. Кофейные там стены – не кофейные, какая мне разница? Все нормально – окно на море, телек на стене и светильники по углам красными высокими колпаками. Кровать большая, самое главное.
Лера слушал, как льется вода. Он стянул покрывало с постели. Белый лен ладонью погладил. Снял часы, браслетом щелкнул. Положил на трюмо. Пуговицы расстегивал на рубашке, медленно расстегивал, одну за другой.
Я поливала себя тепленькой, чтобы успокоиться. Реал ведь! Реал! Наш первый реал после вирта. Я опять испугалась, что не получится – появится тело, а Лера исчезнет. Да, я смогу его трогать, но не услышу. А потому что реальный человек всегда прячет себя виртуального. Да что там прячет, реальный человек и не знаком с самим собой, виртуальным.
Я вышла голая, показалась сразу вся. Руки подняла, покрутилась.
– Смотри, – говорю, – я почти ничего не приврала…
Лерочка глаза опустил. Да, опустил глаза, старый развратник, как будто не видел меня раньше, как будто все мои фото были не мои, как будто первый раз я перед ним разделась. Он сам удивился: «Я глаза опустил?» – и кинулся на меня. Накрыл всем телом, раньше печатал «накрыл тебя всем телом», а теперь по-настоящему накрыл. Губами хватался за ушко, за шейку, сосочек ловил… Он был еще в джинсах. Он их снимал на ходу, висел надо мной, расстегивал молнию.
– …а я приврал… – спешили пальцы, – про размер…
– Знаю… – я села на коленки, – дай поцеловать.
Я очень хотела. Да, я хотела пройтись языком по нежному краю, и в ручке держать и смотреть … и… я хотела узнать настоящего Леру, Леру в объеме, Леру со звуком, Леру с запахом, теплого Леру. А он, сумасшедший, еврейская жопа, подмял под себя, не хотел больше ждать.
– Хочу в тебя! – он хрипел. – Срочно! Ирочка, хочу сразу весь в тебя…
«Ирочка», «срочно», «хочу» – вслух звучит точно так же, как я представляла, но я не успела распробовать. Лера меня закружил, зализал, бегом от коленки по бедру языком и носом в меня. Он взял за ножки, гладил пальцы, быстро, быстро целовал их, как конфеты, лак вишневый лизнул и к щеке прижал мои лапки. Он закинул мои ноги к себе на плечи и влетел… И я ловила каждым нервом его проникновение. Да! Я маньячка, да, сумасшедшая. Я прилетела к Лерочке в постель. Я приперлась в Израиль, потому что хотела только одного – чтобы Лера вогнал мне в реале.
Да, он вогнал. Но не совсем мне. Меня он еще не узнал. Он еще не совместил «Ирочку свою маленькую» с этой новой рыжей сукой, которая под ним крутилась. Я даже испугалась, к самой себе ревновать начала. Он слишком увлекся, это понятно, ему всегда интересна новая сучка. Но ничего, думаю, подожду, пока он наиграется. Я целовала его шею, плечи, грудь… Губы попали на теплый металл. Это звезда у Леры, тяжелая золотая звезда, а у меня крестик, маленький, легкий.
Я боялась, да, я все время одного и того же боялась, что наш вирт – это спектакль, который возможен только в Сети. Нас возбуждала недоступность и слова. Каждое действие забивалось в мозг, как гвоздь молоточком… И вдруг тишина. И Лера в «Майами», как обычно, ебет какую-то бабу, молча. Урчит немножко, как кот над рыбкой. Новая девка свалилась на голову, друзьям понравилась, подбивается к нему, плечи ему лижет, думает там о чем-то о своем…
Да, так и было, я зажала ноги у него на спине и думала: где Лера? Мне в кайф, конечно, но где Лера? Я не хочу, чтобы меня тут на белой простынке выебал какой-то голодный жадный мужик. Где уже Лера? Позовите.
А Лера скинул мои ноги и лег на спину, устал наконец-то и тоже подумал: где Ирочка? Где наш секс? Он посмотрел растерянно… Куда он смотрел? Нет, не на меня, в себя куда-то. Он закрыл глаза и зашептал: «Хорошооооооооооо… мне с тобой хорошоооооооо». Я его облизываю, а он шепчет: «Мне с то-бой хо-ро-шооооооо». Это он меня так выманивал, Ирочку вызывал.
Я же не знала в Сети ни голоса, ни интонаций… А когда он начал свои шаманские шепталки – все совпало. Угадала я Лерочку. Услышала голос – и все, реал сошелся с виртом.
Я села на него сверху и по щеке ему, наотмашь:
– Сволочь! – ударила.
А он счастливый сразу стал. Узнал меня! Схватил за спину и улыбается:
– Ирочка моя! Ненормальная…
Я его хлестала по щекам, ругалась на него: «Ты стервец! Ты испортил мне всю жизнь своим сексом!». Он отворачивал от ударов свою толстую морду и сиял: «Бей меня, маленькая… Бей» – и по спине моей когтями ездил, до крови меня расцарапал, сучонок. Я схватила его за плечи и шипела сверху: «Зачем я к тебе приехала? А?! Ты мне сто лет не нужен!» – а он притягивал меня за ноги: «Нужен… нужен… Никто тебя не выебет, как я… Сучка моя любимая…».
Я его больно стукнула, ладонь отбила себе, на плечо ему попала. Он поймал мои руки, зажал, как в наручник. Я еще что-то орала… «Ненавижу тебя! Я избавлюсь от тебя…», но это уж было неважно, моя попка у него под рукой ходила плавно. Он царапал спинку и рычал на меня:
– Нет! Не избавишься, Ирочка…
– Почему?
– Ты моя! – он пробил.
– Почему? – я кричала.
А он притягивал сильнее:
– Все сверху, девочка моя, все сверху.
– Это я сверху! А ты – снизу!
А потом его звезда надо мной висела. А потом опять мой крест… Стоп. Это уже не секс. Это песня. Можно в две строки поставить:
- А потом его звезда надо мной висела,
- А потом опять мой крест перед ним качался…
Ха! И музочку такую… шансон ресторанный… тынс-тынс-тынс…
- Я хотела долго жить, я хотела долго жить,
- Но кончалась эта ночь. Этот день кончался. И-их!
Всем так интересно было… «Что он с тобой делал?», «Что он с тобой делал?»… Любил! Всю ночь! Без остановки. Всем, что было у него, хуем, носом, языком, руками, глазами, словами. Как будто нашел под снегом и отогревал, растирал, дышал на меня горячим. Было жарко, мне все время пить хотелось. Я пила много, тянулась за бутылкой, на тумбочке стояла вода.
Под утро он почти уснул у меня на груди. Да, лежал и сосал, и шептал себе сам: «Как младенец…». Но я его разбудила. Я его растолкала:
– Лера! Уже четыре!
– Уже? Четыре? – Он моргал, ресницы длинные взлетали.
А потом я наблюдала миленький концертик – Лерочка возвращается домой из «Майами». В барсетке у него лежит маленький флакончик. Конспиративный парфюм. Рубашечку он перетряхивает тщательно, чтоб никаких волос.
– Это мог бы сделать и за дверью. – Я натянула на нос простыню и хохотала.
– Извини, маленькая… – Он в ножки кинулся. – Не могу оторваться … Дай ручку… Дай поцелую… Дай еще пальчик… Дай еще один… Не хочу уходить, маленькая… Не хочу уходить…
– Чеши, – говорю.
Я села на постели, обняла его, носом в джинсы уткнулась, подышала немножко, руку его поцеловала, нежную маленькую ловкую лапочку, и упала в подушки. Я была под кайфом. Во мне разливались тепло и нежность, и усталость, и легкость. Я уснула моментально. Под кайфом сладко засыпать.
А он потопал. Ножки сами пришли домой. После каждой бабы они шагают в штаб, на базу. У двери он искал ключи, копался в борсетке. Перебирал свои вещички: телефон, портмоне, парфюм, ножик, документы, кредитка… Вспомнил – на трюмо ключи оставил, спешил, спешил в кафешку.
Пришлось звонить. Он коротко нажал, виновато. А ему не открывали. Четыре часа, кто ж ему откроет. Лера стоял под дверью и рассматривал свою руку. Сам себе не мог поверить – только что его ладонь была во мне. Он почему-то удивлялся и на часы смотрел: «Ну надо же… Ночь пролетела как одна минута».
Ему открыл его старший. Голый стоял, с полотенцем на бедрах. В спальне его ждала девушка, он с ней отдыхает по выходным, когда приходит из армии. Лера не любит эту девушку, фыркает про себя «не сладкая, вся в татуироваках». А сын улыбался, довольный, потуже затягивал свое полотенце. Лера смотрел на это молодое свежее тело почти с завистью, припоминая, что у него все точно такое же было триста лет тому назад.
– Когда уже этот бордель закроется? – он прогундел.
– Я не слышал…
– Отец под дверью полчаса – он не слышал!
Лера стягивал ботинки, за стену держался, снимал нога об ногу. А сын улыбался, хихикал над Лерочкой. Конечно, это весело, когда папенька заваливает на рассвете с мечтательной рожей. И я точно так же улыбалась, когда мой отец возвращался с концерта, вытягивал ноги в кресле, смотрел в потолок и устало кивал на мои вопросы. Тогда я ему говорила: «Пап, у тебя там рублей двадцать не найдется?», а он доставал из кармана полтинник.
И Лерочкин тоже спросил:
– Пап, у тебя там бутылочка винца не най-дется?
Найдется. У Леры в баре все найдется. Он достал вино. Себе коньяк. Сел в кресло. Вытянул ноги. Свет не включал. Курил в темноте. Коньяком запивал. Приятная усталость… так он называет это ощущение. Приятная усталость – обычное состояние после «Майами». Только в ту ночь примешалось что-то еще… непонятное. Лера не знал, как назвать, и я тоже не знаю: как будто счет принесли, а денег нет.
14
Рано утром Лерочка смылся из дома. Сунул в пакет свой любимый коньячок, дверью хлопнул. «На работу!» И побежал. Солнце уже взошло над морем, асфальт помыли, и продавец в лавочке на углу складывал лимоны в пирамидку. Лера взял парочку, как обычно, и конфеты в красной коробке, угадал случайно те, что я дома покупаю, и на пороге гостиницы позвонил:
– У тебя есть водичка, маленькая?
А я же сплю еще. Семь утра. Я уснула в четыре – какая водичка? Я нашарила телефон. Смотрю по сторонам. Кофейные стены. Телек на стене. Пустая бутылка на тумбочке.
– Нет, – говорю, – у меня водички, – и опять на бочок.
– Так открывай! Я принес.
До меня медленно доходило, что я не дома, я в отеле, в другой стране, здесь лето, и Лера рядом, не в Сети, а за дверью у меня стоит.
Лера! Утром! Я не ждала! Я еще сплю!
Его рука у меня на спине, а мимо горничная идет в столовую. Она несла тарелки высокой стопкой, как белые блины, улыбнулась Лерочке.
– Зайка, там завтрак… – он мне кивнул и добавил шепотом: – Я никогда не был в «Майами» утром.
– Мамаааааааа! – Я убежала в ванную.
Лера открыл окно. Привкус сигарет, оставшийся со вчерашней ночи, улетел. Запахло морем. Зашуршали шины. Торговец с улицы кричал гнусаво, неразборчиво какое-то знакомое слово.
– Что он кричит? – я у Леры спросила.
– Арбузы, арбузы… Не узнала?
– Да… Теперь узнала.
Он замурчал: «Давай мне сюда свою сладкую попу…». А я не знаю, что со мной случилось! Покушать надо было. Проснуться. Что я там спала? Часа три. Мне мало. А может быть, наше время десять, десять по Москве, а еще восьми не было. А может быть, я привыкла с утра выходить из дома, мне обязательно утром нужно куда-то выйти из дома. Не знаю… А может, просто «69» нам не катит, потому что рот занят у обоих. Нам нужны глаза, слова нам нужны. И эта тишина, и тяжесть тела, и моя сонная голова, и шины за окном, и жаркий воздух с улицы, и звяканье ключей в коридоре – все это меня напрягало.
Солнце быстро разогревало номер, стало жарко. Этот день, который был впереди, показался мне длинным-предлинным. А мы заперты в этом номере, как дети в пустой квартире, из которой взрослые ушли по делам. Два невротика, мы опять испугались реала. Вылизывали друг друга и думали черт-те о чем.
Лерочка останавливался и спрашивал:
– Когда у тебя самолет?
И я отпускала его, чтобы уточнить:
– У тебя выходной сегодня?
Придурки, загонные психи. Короче, у нас не стояло.
Лера лег на спину, пропустил мои волосы между пальцев и рассматривал на свет золотистые колечки. Иногда он поглядывал на мои губы, смотрел, как я сжимаю его член. Глаза у Леры были болезненно сощурены, толстая цепь врезалась в шею, щеки покраснели, и какие-то левенькие мыслишки прыгали у него на лице. «Зачем она приехала?» – он думал. «Что-то кушать хочется», – думал, «Уйдет из Сети – и не будет у меня моей Хохлушки», – тоже думал. И самое противное: «Наверно, я сейчас должен трахать ее по полной».
Я видела – психует, и все равно опять, зачем не знаю, упала носом к нему на хуй и с каким-то спортивным азартом стала высасывать из него кровь. И быстро, и медленно, и глубоко, и не очень, и с руками, и без, и у головки, и в горло, и в губы, и за щеку, и языком… Я вспотела вся. Устала и не могла понять, в чем дело. Я первый раз в жизни видела член, который падает, как только выпускаешь его изо рта.
А Лерочка глаза мои растерянные увидел и спросил противным голосочком:
– Твой муж, наверно, страшно тащится, когда ты так ему делаешь?
Я ему рот ладонью закрыла. Зачем он сейчас говорит мне про мужа?
– Как тебе сделать? – спросила. – Скажи.