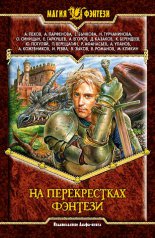У женщин грехов не бывает! Крицкая Ирина

© Крицкая И., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
1
Лера чешет по Ашдоду. Несет пузцо свое домой. На светофоре он вспоминает, что в баре у него шесть бутылок «Хеннесси», и прибавляет шаг. Приятно, люди! Да что уж мы, не знаем, что ли… Страсть как приятно, когда в баре у тебя шесть бутылок коньяка. Друзья у Лерочки хорошие. Когда летят на Святую землю, всегда покупают для него бутылочку. Ну, естессственно, в дьюти фри.
И у меня еще осталось. Немножко. Господа! Ваше здоровье!
В Израиле сейчас восемь вечера, температура воздуха плюс тридцать, и все вообще пучком. Солнце уходит за линию многоэтажек. За те дома, что стоят возле моря, балконами на пляж. Туда и двигает Лера. Старый больной еврей, так он любит себя называть. Кокетничает, говнюк.
Ему недалеко, минут за пять допрыгает. Пять минут, не больше, от «Русского ресторана», где служит Лерочка, до его апартаментов на Аришоми, 36. Там у него все рядом. Все без напрягов в этом тихом городе. Только название неудобное для нашего серьезного языка. Задохнешься, пока скажешь «Ашдод».
Кому-то, может быть, Ашдод и «тьфу», дыра для русских репатриантов, а Лерочке тут нравится. Двадцать лет он шагает с работы домой, вдоль цепочки маленьких магазинчиков, и знакомые продавщицы машут ему из окна…
Вот он зашел в одну лавочку. Взял парочку лимонов, под коньячок. Мяукнул девушке «спасибо, милая» и чешет дальше. Идет – борсеточкой помахивает. И на Черном море так же ходил, помахивал, и на Средиземном идет – помахивает.
А фонари горят давным-давно, трасса – яркий быстрый поток фар, витрины светятся, и заняты все столики в кафе. Прикиньте, в этом городе нет пробок. Там никто никуда не спешит. Евреи собираются прожить сто двадцать лет, по ерунде не загоняются. Дети у них плавают в бассейнах. Старушки выгуливают пинчеров. Стариканы играют в шахматы. Женщины бельишко гладят. И такие, как Лера, артисты сидят по барам и режутся в покер.
Да, иногда тут стреляют. Мы слышали, конечно. Случается. Не так уж часто. И как-то не по-русски. Не наш масштаб. У нас пальнут – так сотня трупов, а тут какие-то непонятные контузии, какие-то легкие ранения…
Все, Лерочка срезает через парк. Я слышу, как его ботинки шуршат на красном гравии. Вот его подъезд. Толстая пальма у входа.
Поднялся на шестой. Разулся. Расстегнул ремень. Протопал в кухню. Открыл свой бар. Лимон порезал. Налил в серебряный стаканчик. Сейчас крякнет: «Ах, как хорошо по горлышку пошел»… Потом залезет в Сеть и киданет мне сообщенье: «Маленькая, ты мне приснилась сегодня».
Еще бы не приснилась. Целый год я промываю ему косточки, пишу про него книжку, никак не могу закончить. Сначала забиваю Лерочку в слова – потом удаляю файлы. Сначала воскрешаю Леру – потом нажимаю delete. Один ноутбук я сожгла, второй утопила. Этот залит коньяком. «Ю» у него залипает. Так что «люблю» не напечатаешь. Но сегодня – все. Последний раз. Сейчас один глоточек – и я все честно, честно расскажу, поставлю точку, сдам рукопись, Лерочке скажу «бай, бай»… А завтра – о-хо-хо! У меня начнется новая жизнь. Я больше не буду ни о чем вспоминать. Куплю себе лошадь – и в поля.
Итак, с чего все началось. С чего, с чего… С минета. Лерочка сказал: «Начни с минета» – я и начала. Да! Я, грязная рыжая сука, дерзнула, взяла и сделала Лерочке минет. А потому что настроение было хорошее! Весна пришла!
Я же не знала… Откуда я могла знать, что в один прекрасный день моя спокойная жизнь закончится? Конечно, я ни о чем таком подумать не могла… Чтобы я? И Лера? И весна? Но день настал. Я его помню, очень хорошо помню этот день.
Был конец марта, с утра к моему дому тянули оптическое волокно для скоростного, между прочим, Интернета. Рабочие выкопали траншею и проложили кабель. И тут подъехали летчики – начальник аэродрома и лейтенант.
Летчики – моя головная боль, мотались они на своих истребителях среди ночи, а я уснуть по-человечески не могла целый год, не меньше. Летчики перегнали меня из спальни в подвал, летчики выпихнули меня из кровати на маленький диван. Раньше я спала рядом с мужем, и все было нормально, а когда появились самолеты – я начала прятаться в свое бомбоубежище.
Жила я себе тихо, за городом, там, где сосны и заборы из красного кирпича, иногда замечала – кукурузник летит над лесом… И вдруг, откуда ни возьмись – истребители. В нашем районе обнаружился военный аэродром. Оказалось, что моя крыша на одной линии со взлетной полосой. «Сушки» заходили на форсаж как раз над моей головой. Наверно, из-за этого я и была такая возбужденная. Если над тобой постоянно ревут истребители – сразу кажется, что в городе фашисты. Ложишься спать и думаешь: а если и правда война?
Так вот, ко мне тянули скоростной Интернет, а летчики приехали. Из машины вышел начальник и начал кричать на моих рабочих. Очень громко кричал: «Вы перебили наш секретный кабель! Где обрыв? На брюхе у меня поползете до взлетной полосы!». Кстати, это недалеко, всего два километра. Рабочие обиделись: «Мы вообще тут ни при чем». А я с крыльца спускаюсь и говорю:
– Какое счастье! На моем участке секретный кабель! Его же нет на карте…
Начальник глянул мельком на моих борзых и пошел на меня:
– Правильно! Потому что это секретный кабель. И завтра вы придете ко мне! Согласовать! Получить разрешение! А я еще посмотрю…
– Посмотрите на меня! – Я улыбнулась. – Какая я добрая девочка! Какой красивый у меня домик! Знаете, как я радуюсь каждую ночь, когда летают ваши самолеты? Неужели вы захотите оставить моих маленьких детей без Интернета?
Я говорила тише и тише, чтобы командир наклонился ко мне ушком и перестал орать. Он наклонился. Хмыкнул злорадно на мой «домик», но обороты сбавил. Я вынесла пару бутылок водки. Лейтенант починил обрыв. Военные пошутили на прощанье:
– Мы пометим у себя на карте ваш домик. Красным крестиком.
А я-то, глупая, и рада. Траншею закопали – и я сразу поскакала в Сеть. А там Лера.
Я ублажала Лерочку словами. Да, не губами, не губами – словами. Это был виртуальный секс. Ерунда, игрушки. Я Леру даже не видела и не слышала и знать не знала, что это Лерочка со мной на проводе. Только имя посмотрела – «Валерий, 52, Ашдод, Израиль» и говорю ему: «Ладно, попробуем». Кто знал, что эндорфинчик стукнет в кровь?
А сейчас я в степи. В ссылке вторую неделю. Одна. С Лерочкой – ни-ни, больше года. Потому что мужу обещала, и потому что… И потому, что я теперь взрослая тетенька и умнею не по дням, а по часам.
Моя избушка стоит на берегу. Я здесь одна, со мной никого нет, кроме собаки. И никакого Интернета здесь тоже нет. Место низкое, у речки. Даже телефон не ловит. А мне и не надо! Обойдусь я без вашей связи. Не надо мне уже ничего.
Нет, Лерочка ни в чем не виноват, он меня за горло не держал. Я всегда могла выйти из Сети. Я могла отключиться в любую минуту. Но как?! Как я могла отключиться? Старый еврей – а я отключусь. Старый еврей – это тема, это всегда тема, это кровь и солнце. Я знала, у Лерочки найдется куча веселеньких штучек. Сама его не отпустила, решила – «Будем играть».
Во что? В «хочу». «Хочу! Срочно! И пошли все на фиг!» – это была наша любимая игра. Лера научил. Мне бы и в голову не пришло. Тридцать лет я жила в режиме «надо», это он меня переключил в режим «хочу». Не специально. Он был не в курсе, что я сумасшедшая. Я не вижу разницы между словом и действием.
Но нет… я вру. Немножко притворяюсь Красной Шапочкой. Все я прекрасно понимала, в глубине души я знала, что сорвусь. У меня на роду было написано – убежать из дома. Все женщины у нас из дома убегали, чем я лучше? У всех сносило крышу, только мотивы были разные. У мамы любовь, у бабки карьера, прабабку раздражала советская власть. А я по-простому, как крестьяночка, взяла и сделала Лерочке минет.
Да, знала, знала я прекрасно, что мне за это будет. Еще бы! Своеволие, женское своеволие, как ни крути хвостом, всегда ведет на кассу. И все платили, никто не отвертелся. А я пока сижу, загораю. Топлю баню и прыгаю в речку. Ныряю в ледяную воду. И у меня уже прошла вся эта угнетенность духа, вся эта бабская тоска… Все прошло. Дождь кончился. Две недели у меня солнце. Обалденная осень, последние дни октября. Я выспалась. Мне хорошо.
Всю жизнь я хотела, чтобы меня оставили в покое. Лет с пяти я мечтала свалить куда-нибудь подальше от коллектива. Я четко видела свой рай. Могла его нарисовать тремя словами: речка, осень, тишина.
Эта картинка всегда висела у меня перед глазами. Реальная картина: холст, масло. Я ее сюда перевезла. Пейзаж – один в один, как у меня. Маленькая заводь, вдалеке лесок, розовый туман и лодочка. Это прадед мой Иосиф, рыжий Йоська лодку свою нарисовал. Нет, не еврей, кузнец из Польши. Всю жизнь он стучал молотком, но как-то вечером взял телячью кожу, натянул на раму, краски масляные добыл и огромными ручищами тяп-ляп, нарисовал речку. Зачем? А ни за чем. Захотел – и все.
2
Почему я загораю в деревне? Потому что у меня очень хрупкая нервная система. Пару недель назад она дала сбой. В понедельник утром рано подвели меня нервишки.
Я проснулась в нашем городском доме. Опять был дождь, правый глаз у меня начал дергаться, но я варила кофе и помалкивала. Взяла две чашки и пошла в гардеробную. Муж гладил свой пиджак, сам гладил, и это меня беспокоило.
В нашем доме никто ничего просто так не гладит. Утюг – это знамение. Утюг – это значит, что-то сейчас выяснится. Но что? – я думала, – что еще может выясниться? У меня только жизнь налаживаться стала, после Леры. И вдруг опять утюг.
Я поставила чашку на тумбочку и что-то сказала… Что-то простое:
– Баварский шоколад, – я, кажется, сказала. – Остынет.
– Я понимаю, – кивнул муж, раскладывая на доске пиджак. – Ты не можешь себе отказать и не выпить кофе. Жизнь коротка. Кто спорит? Нужно наслаждаться. Ловить моменты настоящего удовольствия. Кайфовать! А пиджак и муж – это такая рутина и серость…
Я слушала и пила кофе. А что мне было делать? Сварила кофе – пью. Выпила свою чашку и взяла вторую, ту, от которой муж оказался. Он разглаживал карманы, он их очень умело отпаривал и объяснял мне, что нельзя так наплевательски относиться к его просьбам, и если пиджак просили привести в порядок, значит, его нужно привести в порядок. Неважно, как я это сделаю – сама или попрошу домработницу, или сдам пиджак в химчистку. В любом случае он не понимает, как можно забыть такие вещи. Потом он выдвинул разумное предположение, что, может быть, пришел момент, когда меня пора сменить на другую жену – на ту, которая сама, с великой радостью, отгладит этот пиджак и будет исполнять все, что прикажет муж. Он выразил надежду, что его новая жена не будет звездой, «нет, избави Бог, одна звезда меня уже добила», она не станет корчить из себя писательницу, «ха-ха-ха! Писательницу, помешанную на сексе», эта девушка не будет сочинять порнографию…
И вот после этого до меня дошло, к чему был утюг – к моей почте. Да, я поняла: взял утюг – значит, ночью читал мою почту. Я не могла вспомнить, что там такое интересное он нашел в моих входящих. Что там можно найти, кроме отказов из редакций и моей несчастной книжки. Только это, в моем компе больше ничего не было. Книжку про Лерочку я прятала в своем компе, а комп в подвале.
Мой бедный муж встряхнул пиджак и осмотрел его со всех сторон. Все было выглажено идеально, но мужу не понравился лацкан, он решил еще немножко этот лацкан припарить. И начал развивать фантазии о том, что его будущая жена, эта умная, красивая, скромная девушка, будет лет на десять моложе меня и стройнее – килограммов на пять-шесть, а то и восемь. Я хотела пошутить, я сказала: «На восемь килограмм – это не полная комплектация». Муж улыбнулся и вспомнил о моем патологическом эгоцентризме.
– Ты живешь как хочешь! – он сказал, – Тебе плевать на все, кроме своей мерзкой книжонки… Неужели тебе неизвестно, что такое честь? И что такое имя?
Мне сдавило виски. Я не люблю, когда мне говорят про честь. Про имя тоже не люблю, на виски давит. Мне захотелось прекратить, просто в один момент сделать так, чтобы я не слышала этих монотонных звуков, чтобы слова не били мне по мозгам.
Муж надел пиджак и усмехнулся. Так жестко и горько… Меня всегда кидает на стенку от таких его усмешек.
– Я в ужасе, я в ужасе от того, что ты даже не видишь, какая это грязь! Когда ты уже прекратишь? – он спросил.
Я не знала, что ответить. Я не могла понять, что я должна прекратить? Что? Свою книжку? А может, себя? Себя, такую идиотку, которой родилась, я должна прекратить, чтобы всем жилось спокойно? Я не хотела ругаться. Просто кровь закипела, пошла от затылка к вискам сильным ритмичным пульсом, и потемнело в глазах. Так всегда бывает перед тем, как меня сносит. Потом эта кровавая волна опускается, подкатывает к горлу, жжет, и я открываю рот.
Неважно, что я орала. Все это мелочи. Какие-то некрасивые ненужные слова. Чего-то там… «Все! Хватит!», «Дайте умереть спокойно!», «Не смей открывать мой ноутбук!»…
Орала как ненормальная, сорвала горло. Я уже не помнила себя, когда шипела какие-то мелкие незначительные гадости. Видимо, что-то про деньги.
Мой терпеливый муж подошел к зеркалу, поправил галстук. Я тоже подошла. Я всю, всю, всю себя увидела, во весь рост. Непричесанную, белую, толстую, с раскиданными сиськами, в черном распахнутом халате, уставшую, злую, маленькую, испуганную, без маски, без грима – такую, какая есть на самом деле.
Свет был яркий. В моей гардеробной такой же безжалостный яркий свет, как в примерочных, где не спрячешь ни одного своего безобразия. И рот мой был еще разорван воплями, когда я увидела свои глаза. Они были совершенно безумными, как будто моя лапа попала в капкан. Я была похожа на раненую дворняжечку…
А у меня есть такая фотка. Только рот закрыт, а все остальное точь-в-точь. Прошлой весной, после всех наших скандалов, меня щелкнули на пропуск в «Метро». Я никогда не поеду в этот магазин. За такую фотографию я ненавижу «Метро». Я попрошу, чтобы мне этот пропуск в гроб положили, чтобы сразу, без мытарств, без очереди.
…Сейчас мы стояли рядом. У зеркала. Муж поджал губы. А я совсем обнаглела, захотела, чтобы пожалел. Чтобы он меня пожалел, захотела! Я ему сказала тихо, без воплей сказала:
– У меня все кончилось. Я умираю.
А он ответил:
– Ты бесишься, потому что тебе никто не говорит: «Я хочу тебя, Ирочка».
И у двери еще припечатал:
– Не надо жить со мной из-за денег. Не мучайся. Хочешь в Израиль – езжай, не бойся, я дам тебе деньги.
Он укатил на работу. Он каждое утро уезжает. А я каждое утро остаюсь одна.
Так я и думала – ночью он открывал мою почту. Там висело письмо от редактора. От одного очень модного редактора. Я скинула ему свою безалаберную книжку про Леру, и господин редактор ответил: «Кто вы, Ира, и зачем вы это мне прислали?». И еще рассказал про усталость металла. «Понимаете, Ира, есть такое понятие – усталость металла, и есть усталость редактора…».
А дождь на улице хлестал. Все было серое и грязное, как обычно. Никакого счастья в этот день не ожидалось. Ничего, кроме подвала, в котором я пряталась и шпарила свою грустную эротическую сказку.
С этой книжкой я обломалась. Вторая осень без Лерочки пошла, а эта сучья книжечка была не готова. Не рождалась. И поэтому я не могла спокойно спать, я все время что-то ела на нервной почве. Я пожирала все, что встречалось у меня на пути. Наела восемь килограммов – но книжка все равно не получилась. А тут еще: «Кто вы, Ира?». И я до сих пор хожу и думаю: «Кто я? Кто я? Кто я?».
Я хотела погладить свои джинсы, но передумала. Не стала я ничего гладить, и вообще мне было плевать, в чем я выйду из дома. Я выключила утюг.
Спустились дети. На улице завыла собака, наш тоскующий кобель. Ненавижу рассказы про животных, поэтому просто даю справку: в доме две собаки, русские борзые, охотничьи, белой масти, похожи на коней. Сука загуляла, ее заперли в вольер, кобель, соответственно, завыл. Пришлось взять его с собой. Открыла дверь, и он прыгнул в машину.
Я развезла детей по школам. И опять были пробки, и опять аварии на каждом перекрестке. И я ругалась на этот город, на этот пролетарский город, в котором никто никому не уступает дорогу, и все стоят как идиоты с включенной аварийкой.
Я ненавижу этот город, всегда глухой и мрачный, с миллионом депрессивных жителей, забитый танками, зенитками, вертолетами, самолетами. Куча старого железа, которое не вывезли после Великой Отечественной войны, до сих пор раскидана по улицам, а мне противно, мне очень противно смотреть на крашеные танки. В этом городе живут пролетарии и пролетарские дети, я стараюсь бывать здесь пореже, очень редко я сюда выбираюсь, утром прошмыгну в школу, а потом объезжаю весь экстерьер по окружной.
Приятно смотреть на этот город, когда он в дымке, в утреннем тумане, и когда тебе на него наплевать. Тьфу, тьфу, тьфу на ваши суицидные высотки. По утрам я поглядываю на них со своей террасы. Стою и жду, когда мне включат марш.
Каждое утро я слушаю марш. Он доносится через рощу из школы полиции. В это время там построение. Без музыки курсанты строиться не могут. То есть я выхожу из машины – и они врубают марш. «Прощание славянки». И я сразу начинаю на войну собираться. У меня свои личные отношения с духовыми оркестрами. Мой отец музыкант, и все детство у меня над головой звучали военные марши. И всегда мне особенно тоскливо становится, когда я слышу «Прощание славянки». А мне его как назло… каждое утро.
После марша курсанты выбегают в противогазах. В шлемах, со щитами – и бегают в овраге. Мельтешат у меня перед окнами. Такие у них тренировки.
В это дождливое утро я домой не вернулась. Повернула на трассу и укатила сюда, в свою деревню.
Я вышла из машины на полусогнутых лапках и потащилась к речке. А потому что меня обидели! Меня прихватили за горлышко, мне наступили на песню… Я поднялась на мостик. Хотела зашвырнуть свой ноутбук подальше в воду, в камыши, к чертям собачим.
Но решила сначала искупаться, думаю, сейчас искупаюсь, а утопимся потом.
Я сняла пальто, хотя мне было холодно. Сняла пальто и сапоги. Дул ветер, осенний откровенный ветер. И неприятно капало на шерстяную кофту. Я ее скинула на доски и стянула джинсы. И лифчик, и плавки, все с себя стряхнула – и прыгнула.
Вода была почти зимняя. Меня зажало моментально, от холода вода показалась тяжелой, как лед в ведерке. Но я окунулась с головой и проплыла кружочек. Ноги путались в траве, пальцы замерзли, но я не вылезала. Было интересно, сколько еще протерплю. Недолго, недолго я купалась. Минуты две мне хватило. А когда я вышла из воды, меня осенило: едрит твое налево! Что ж я за дура-то такая! В тридцать пятый раз умирать собралась! «Все кончилось, все кончилось»… Ха! Еще ничего и не начиналось! Сейчас, здесь на берегу все только и начнется. И дед мой Йоська не черное пророчил своим пейзажем. Я полагаю, это был намек. Дед Йоська маякнул мне: «Дочка, не суетись, не дрейфи. Не напивайся, как мужик. Плавай и дыши свежим воздухом».
Я подышала. Побежала греться в дом и решила рассказать все честно. Про Лерочку. Мне надоело менять пароли и шифровать свои тексты. Я хочу дышать свободно, всей своей полной грудью хочу дышать. От вранья мне давит шею, как будто держат за шкирку. Но ничего, я выбью из себя всю правду. Только один год себе убавлю. Пусть мне будет тридцать четыре. Нет, лучше тридцать три, как тогда, с Лерочкой было. И машину поменяю. «Форд» надоел, хочу «Хаммер». Да, пусть будет «Хаммер», мне нравится милитари. Сто лет он мне не нужен, но сегодня хочу.
3
Итак, рисуем пейзаж. Нет, я пошутила. Вернемся к минету.
В то весеннее утро, когда у меня снесло крышу, все было, как обычно. Сначала я чмокаю мужа, потом отвожу детей в школу. Мы всегда с маленьким сидим в машине, ждем, когда старший завяжет шнурки. Он очень долго обувается, иногда я выгоняю его из дома в шлепанцах и швыряю его кроссовки в салон.
Мы опаздываем и стоим в пробке на выезде из поселка. Я включаю музыку. Младший сказал: «Мам, давай «Ромшайн», мы медленно покатились и пели «Ду Хаст». Как обычно, у меня сдали нервы, я поперла по обочине, обгоняя пробку, по лужам, по ямам, по месиву из грязи и мокрого снега. Это я помню. А что пару дней назад произошло – в ноль.
Значит, идеальная семья была у меня. Мне не на что свалить свою вину. На что свалить? Свалю все на солнце.
От солнца я всегда балдею и сразу начинаю улыбаться. А стоит опустить стекло в машине и занюхнуть – так я вообще пьянею, тем более когда еду через весенний лес. А я как раз и ехала в то утро по окружной мимо сосен. Я надышалась лесом и улыбалась, как алкоголичка.
Я проскочила поле и холмы, и мертвую башню заброшенной АЭС. Ее купол похож на купол храма. «Какой интересный храм можно сделать из атомной станции», – подумала я. В белой церкви на берегу зазвонили колокола. Я снова вспомнила, что не была там уже лет двести, и опять подумала, что надо бы, конечно, надо бы… И небо, небо было жуть какое синее… Все это я увидела в то утро, и настроение было – ааааааааааааааааа!
Я даже мужу звякнула. Просто так, захотела сказать ему «мяу» или «мяаааааааааууууу». Он ответил «повиси, повиси», но я висеть не стала, вспомнила, что у него планерка, как всегда по понедельникам, и отключилась. Не хотела отвлекать.
А Лерочка как раз проснулся в своей израильской квартире, сделал кофе и вышел на балкон. Он держал в теплой лапочке белую чашку. В голове у Леры еще звенел ночной ресторан и крутилась эта песня, неудачная песня, я ее не люблю – «А белый лебедь на пруду… ду-ду ду-ду, ду-ду ду-ду…». Я не люблю песни про лебедей. Лера и сам морщился, когда ее тянула новая певичка. Он тоже пел этот шансон, в том же ресторане, не так давно. У него остался рингтон на телефоне, и если ему сейчас звякнуть, услышишь, как Лера поскрипывает: «А белый лебедь на пруду ду-ду – ду-ду, ду-ду – ду-ду». Но нет, конечно, я не буду звякать, это я так, к примеру.
А под балконом у Лерочки пляж, и никогда никого нет на этом пляже. Только один старикан в синей бейсболке приходит и кидает спиннинг. И старушка, на каждом пляже есть такая старушка, с рюкзачком на горбатенькой спинке. В рюкзачке у нее коврик, она его стелет и греется. Да, еще есть араб, араб – спасатель. Он весь день изнывает от безделья и поглядывает в бинокль с деревянной вышки. Волны в то утро были неспешными, мягкими. А спешить Лерочке было и некуда. На работу ему топать в ночь, и хотелось еще поваляться. Он закурил свою первую сигарету и выпустил дым: «Один дома! Кайффффф!».
А я как раз приехала к себе, и мне включили «Славянку», как положено. Вот так вот начиналось это утро. Весна. Колокола звонят. Старик кидает спиннинг. И «Прощание славянки». Можно снимать патриотический фильм о родине.
Ну, да, да, да… Я опять заговариваю зубы. Я слишком долго ломаюсь. На самом деле я захотела свежей крови. Точно, свежей крови. Да, это я припоминаю. Свое постоянное ощущение эмоционального голода. Мне нужна была черная мощная мужская энергия. Не тело – энергия. И я хотела ее получить в обмен на свою, огненную, красную. Я хотела смешать две краски. Я хотела, чтобы мне вынесло мозг… Ну да, все это очень поэтично, а значит, где-то я опять вру.
Муж меня спрашивал, там, в нашем подвале, ночью, когда мы дрались. Он тряс меня за плечи и орал: «Зачем? Что тебе не хватало? Почему не сказала мне? Зачем ты вышла на этот блядский сайт?». У меня голова заболела, когда я начала объяснять, вспоминать это утро. Мне стало холодно на гранитных плитах. И затылок давило так сильно, что не было сил врать. Я только кричала: «Не знаю! Не знаю! Не помню! Случайно!».
Зачем, зачем… Да просто я залезла в ванну. А там массаж и пеночка ванильная. В ту весну я сама себе нравилась. У меня был сладкий живот, и эта линия, моя фирменная изогнутая линия от талии к бедру была особенно эффектной. Когда смотришь на себя сбоку, повернувшись и чуть наклонившись, вот на это вот местечко, где спинка особенно узкая, то так и напрашиваются, так и монтируются туда мужские руки. И если приподнять немножко грудь и слегка сдавить ее, то сосочки сами встают, и сразу хочется положить свое богатство кому-нибудь в ладони.
Да, я немножко засмотрелась. Растирала себя пенкой и мечтала о черном нечто. Чтобы это черное нечто без паспортных данных схватило меня за волосы и поставило на колени. Я этого хотела. Я была еще в ванной, а Лера уже подошел к монитору. Глаза его зацепились за мой смешной ник Хохлушка. Он скинул мне свою рассылочку: «Хочешь вирт?». Я как раз закончила купание, прикрылась юбкой, вышла в кухню и слышу – что-то звякнуло в моем компе.
Я знала, я прекрасно понимала, что такое слово. Слово рано или поздно превращается в плоть. Как имя и собака. Называешь имя – и пес бежит. И был, конечно, был у меня этот преступный холодок, пробежал он по спинке. Недолго, одну секунду побегал, а потом я развернула ноутбук от окна, чтобы не отсвечивал, и начала раздевать Лерочку. То есть напечатала «села к твоим ногам, расстегиваю тебе джинсы»…
«Ты в джинсах?» – уточнила.
«В шортах, милая…»
«Смотрю на твой…» – я начала.
На твой… на твой… Такая скромная была, оказывается. Я не могла сразу сказать, на что я смотрю. Член – официально, хуй – еще рано. «Как назвать, – думаю, – как назвать»…
«Давай, давай, сладкая…» – Лерочка наклонял.
Он затушил сигарету. Я расстегнула молнию на юбке. Мы начали играть, как в мячик. Кидаешь сообщение и смотришь – прошла твоя подача или нет.
«Смотрю на твой член, – напечатала я, – и целую… Целую твою руку».
«Провел по губам головкой, глажу твое лицо…» – он отбил.
Я поймала:
«Тянусь языком, облизываю нежненько…»
Лера вернул:
«Умничка, он уже просыпается».
Я задержала мяч у себя:
«Взяла его губами и сжимаю…»
Он выбил у меня из рук:
«Схватил тебя за волосы и вогнал до горла».
«Сволочь!» – я обрадовалась.
«Сучка! Он проснулся! А ну-ка быстро! Сделай, как ты умеешь».
Мои шлепанцы упали на пол, я помню этот стук каблуков по плитке. Я залезла с коленками на стул и закрыла глаза. Я вызывала это ощущение – когда держишь губами твердое и горячее. Я откинула голову, чтобы Лера прошел ко мне в горло ровно и глубоко. Хочет вогнать весь – пусть вгоняет, я только на минутку остановила его руку, чтобы подержать немножко, чтобы щеками и губами почувствовать объем и тепло. Я давила горлом ему на головку и не дышала, сколько могла. А потом обхватила его губами сильнее, чтобы ему было приятно скользить. Я выпускала его член и ласкала его языком по краю, а потом опять забирала его глубоко, чтобы нос упирался к нему под живот, чтобы его запах меня возбуждал.
Мои руки тянулись погладить Лерочку. Я захотела прижаться к нему грудью сильнее и легла на стол. Я хотела смотреть на него снизу, мне показалось, я вижу, как он закрывает глаза и стонет: «Даааааааааааа». Ему было приятно, я поняла, что рука его занята, потому что он начал отвечать двумя словами: «Умничка…», «Делай так еще».
Мои пальцы были на клавиатуре, но я уже виляла хвостом. Я спросила: «Тебе нравится?».
«Очень… как ты быстро меня завела…», – он ответил. Мне было приятно. Да! Он сказал одно слово – «очень», а мне уже было приятно. Мне всегда нужно знать, что чувствует мужчина, когда я его сосу.
Где-то тут до меня дошло, в чем прикол этой игрушки. «Обалдеть! – я подумала. – Театр!». Я расстегнула лифчик, но тут позвонили в дверь. К Лерочке в дверь позвонили. А это мне! Мне как раз и нужен был этот звонок. Последний. Еще можно было отключиться. Можно было захлопнуть ноутбук, взять борзых и прошвырнуться по оврагу, но я не услышала этот звонок. Я сосочки гладила! Да! Гладила. Пальцами, слегка. Я увидела сообщение: «Милая, подожди меня минут пятнадцать, пожалуйста. Не уходи». И не ушла. Знала, что нужно убегать, но осталась.
К Лерочке пришел Шимшон, сосед, старый грузин. Пришел бы пораньше минут на двадцать, и я сейчас бы не сидела одна в чистом поле. Но Шимшон опоздал. И хотя был он пьяненьким еще с ночи и уставшим, но уже у дверей посмотрел на Леру с вопросом.
Ему показалось… А мало ли, вдруг Лера не один у себя. Он так и сказал потом: «А мало ли…». Уж как-то странно Лера натянул майку на шорты и оглянулся, как будто в спальне его кто-то ждал.
Шимшон прошел в гостиную, которую они упорно называют студия, вытянул в кресле свои худые ноги и спросил:
– Лера, в чем смысл жизни?
А Лерочка тоже заметил, он знал это характерное движение, когда Шимшон отвязно вертит головой и поднимает глаза чуть выше носа. Это значит, сейчас начнется долгая грузинская песня. Слушать ее совсем не хотелось, поэтому Лера смылся в кухню делать кофе. Шимшон пел один себе под нос, неравномерно выкрикивая про то, что «вот живешь, живешь… ради детей… всю душу отдаешь … А что взамен?..»
– Опять младший? – кричал Лера из кухни.
– Да.
– Опять покер?
– Да.
– Ничего, скоро в армию пойдет.
Он вернулся с чашками. Смотрел в монитор на мой мигающий ник «Хохлушка» и говорил рассеяно:
– Хотя какая у них тут армия… Все выходные дома… Я когда служил, сколько раз домой ездил? Один… И то…
И я смотрела, овечка, смотрела на его имя «Валерий», а мне валить нужно было, валить из Сети срочно. Но я смотрела. И думала: я? жду его? почему?
А потому что я не ожидала, не думала, что меня заведут слова, что я сама захочу продолжать и почувствую реальное сильное возбуждение. Что за короткими сообщениями я увижу мужчину, поймаю его ритм и темп, и тон, и это все мне понравится. От обычного секса это отличалось только тем, что мы не трогали друг друга. Я ждала Леру точно так же, как если бы, например, к нам в номер кто-то зашел, и мне пришлось бы ждать, завернувшись в одеяло.
Я посмотрела на часы. Сказала, если в пятнадцать минут не уложится, – пойду гулять с собачкой.
Я оставила комп и вышла в прихожую, там в кармане пальто у меня была пачка легкого «Парламента».
Лера достал свой любимый «Хеннесси», маленькие серебряные стаканчики, налил и кивнул:
– За здоровье.
– А ты знаешь… – Шимшон выпил и сразу почувствовал приятное тепло и даже некоторое успокоение, так что ему захотелось остаться и поболтать. – Ты знаешь, почему мы с тобой здесь пьем французский коньяк? Потому что твой старший в армии… А ты говоришь!
– Пей, не рассуждай… – Лера пододвинул ему кофе.
– Да, – Шимшон налил еще коньячку, – и младший пойдет… и мой пойдет… А ты думал, мы с тобой тут нужны? Два старых хера?
Лерочка снова посмотрел в монитор, увидел, что я еще в Сети, и усмехнулся:
– Договоришься у меня…
– Будет война! – объявил Шимшон, намекая на третий стаканчик. – Мать моя говорила. Еще в Тбилиси, сколько лет назад говорила. Все над ней смеялись. А ты сейчас новости посмотри. Вот сейчас давай, сейчас прямо новости посмотри!
– Какие новости?! Мне бежать надо…
Лера взял сигарету из пачки легкого «Парламента», он почему-то обрадовался, когда узнал, что у нас одинаковые сигареты, веселит его всякая муть.
Лера наврал про маму и про больницу. Его любимая отвирушка – «возил в больницу маму», «звонила мама», «мама ждет». Он уложился в пятнадцать минут и вернулся за комп. Кстати, я тогда не подумала… Это классная старая фишка, между прочим, для того чтобы заставить кого-то немножко себя подождать. Всегда срабатывает.
«Я с тобой, сладкая. – Он начал раздеваться. – Где твои пальчики?»
«Где мои пальчики…» Падаю просто, какая я была смирная крошка, мои пальчики все еще были на кнопочках.
«Вставила уже?» – облизнулся Лера.
«Сейчас вставляю…»
«Умничка, дай мне облизать…»
«Возьми… Глажу твой нос… Твои губы… Ты чувствуешь?»
«Дааааааааааа».
Он посадил меня к себе на лицо и облизывал. А когда он вставил мне язык и тянулся, чтобы достать поглубже, я залезла на стул с коленками и выгибала спинку, как обычно делаю, когда подо мной мужчина. Мой палец дрожал над клавишей «энтер», я еще сопротивлялась, еще не признавала своего желанья, еще мямлила: «Это игрушки, это не по-настоящему, это игрушки», – а мне уже хотелось заорать, попросить во все горло:
«Выеби меняаааааааааааааааа…»
«Повернись спинкой», – сказал Лера.
Я не помню, что ему отвечала. Не помню! Я стерла все наши оргазмы. Все удалила. Хотела забыть. Все у Леры осталось. Я не помню, что он делал со мной. Помню только, что ноги были напряжены сильно, до боли, и юбка валялась на полу. Я смотрела на буквы и не знала, как, какими словами можно нарисовать желание. То самое, горячее и сильное, которое бывает за несколько минут до оргазма.
«Хочу орать! – я ему стучала по кнопкам. – Хочу драться! Стукни меня!»
«Бью тебя по заднице ладонью», – он ответил и завис.
Лера был на взводе, он отвечал не думая, просто шел за мной. Ему нужна была рука, и сообщенья приходили с легким опозданьем, и даже эти лишние секунды меня возбуждали. Я ненавижу!.. Нет… Я обожаю ждать!
Я орала еще громче:
«Сильнее! Бей! Хочу больно!»
«Взял ремень, отлуплю тебя, сука».
«Да! Лупи! Скажи, что я блядь!»
Он сказал. И у меня задрожали коленки. Рука опустилась под юбку. Мне хватило всего нескольких касаний. Я удивилась, да я помню, очень удивилась, откуда у меня такое сильное возбуждение. Мне было хорошо, уже почти совсем, уже вот-вот, но не хватало… еще… чуть-чуть… И я сказала… нет, у меня случайно вырвалось:
«Твоя блядь…»
«Моя, моя…» – он повторил и надавил «мояяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя».
«Моя» его заводило. Я поняла, сейчас мы вместе заорем… Одним пальцем на кнопку завоем:
«Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа…»
Лера успел нажать со мной вместе:
«Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо…»
Пару минут я ничего не видела. Голова закружилась, и все потемнело. А потом вспыхнуло сообщенье от Леры: «Сладкая, мы вместе кончили».
Откуда я знала, что так можно кончить? Откуда? Пять лет на филфаке училась, хоть бы кто сообщил, что можно ебать словами. Каждое слово – и сразу в кровь.
Я подняла свои шмотки. Вытерла лоб. Лоб был у меня совершенно мокрый. Я улыбнулась. Захотела поцеловать или погладить. Подумала: «Кого? Кого я хочу целовать?». Я улыбалась, я валялась на столе, как пьяная. Мне было весело, как будто я попробовала новое вино. Или разочек пролетела на метле.
– Спасибо! – Я засмеялась.
– Кайфуй, девочка! – прохрипел Лера и достал свои поганенькие влажные салфетки.
У него кончились сигареты. Он смял пустую пачку и начал быстро собираться. И мне вдруг тоже срочно захотелось в машину и надавить на газ. «За сигаретами» – мы вместе встали и глазами – раз, в правый угол монитора, на время. Было десять утра по Москве.
Мы вышли на улицу. Сели в душные, нагретые солнцем машины и включили холод…
…Все! Я больше не хочу вспоминать! Хочу выпить. Хочу коньяка. Я не помню, что было дальше. Ничего, ничего дальше не было! Все заглушил истребитель.
Волна, сильная звуковая волна заставила меня втянуть плечи. Я подняла стекла в машине. Потому что командир взлетел слишком резво. Самолет с треском порвал небо, как ветхую простынку. Вся парковка завыла. Длинным хвостом за самолетом визжали сигналки. Я тронулась с места. Поехала в город. Он тогда показался мне не таким уж и мерзким. Город как город. Тогда мне в нем было хорошо.
4
Коньячку – и рисуем пейзаж. К чертовой матери все эти минеты, на природе мне как-то спокойнее.
Я говорила, что моя изба стоит на берегу? Так вот, на берегу маленькой речки стоит маленький дом с широкой открытой террасой. Деревянная дорожка соединяет его с баней и спускается к воде. Моя главная радость – стеклянный фасад. Я могу, не слезая с дивана, смотреть на свою речку. В самом широком месте она не больше шести метров. Зато моя! Только моя речка. Я всегда хотела, чтобы из бани – и сразу в реку. И вот у меня мост – из парилки в воду. Не хрустальный, простой деревянный мост на железных сваях, язык выходит до середины русла. Я ставлю сюда шезлонг и валяюсь.
Октябрь, у нас уже холодно, загорать приходится в пальто, но воздух свежий и тихо. От воды туман. Пахнет дымом. Это из деревни, с огородов. Там бабки жгут свою ботву.
Я лежу у воды, глаза почти не открываю. Так, секунду полюбуюсь на белую лилию. И сплю. Течения нет. Зеленые листья кувшинок неподвижны. Большие синие стрекозы садятся на них и тоже замирают. Скоро они все передохнут, и лилия замерзнет, и я тоже опять начну кукситься. А пока мы балдеем.
Уже появляются первые звезды, сегодня ночью точно бабахнет мороз. Придется прыгать в ледяную воду. А я не боюсь. Я не думаю о том, что вода ледяная. Я предвкушаю, как потом, в полотенце, мне будет хорошо. Сиганула – и почти оргазм.
– Хорошооооооооооооооо! – я буду орать. – Мне со мной хорошооооооооооооооооо!
Но! Самое главное – за рекой луга. Пойма заросла камышом и уходит далеко-далеко, до самого леса, так что никто в этих болотах ничего не построит, и ни одна сволочь не закроет мне горизонт.
Слава богу, это мертвая деревня. Пять бабок и один дедок – больше никого. Их домишки стоят чуть ниже по реке. Их козы блеют отдаленно, и петухи меня не напрягают. Бабки иногда приходят ко мне за водой, почему-то им нравится моя колонка. У них тоже есть колонки, но моя «лучче». Они сами открывают железную калитку, каждый раз спрашивают: «Кобель не укуся?». «Не укуся», – говорю и отворачиваюсь. Я не хочу никаких лишних диалогов. Одна бабка в день – мой лимит.
А дед весь день ловит рыбу. Он сидит на своей мостушке под ивой, прячется за длинными ветками. Дедок ждет, когда я выйду из бани, сброшу полотенце и сигану. Я прыгаю, мне не жалко. Пусть порадуется перед смертью.
В этой речке полно ключей, вода здесь никогда не прогревается, даже летом. Но я проплывала кружочек от своего моста до стариковского. Дед опускал на нос кепку. Может, и сейчас еще сидит, его почти не различить в камышах и листьях на зеленом берегу.
Вчера ночью был мороз минус два, и утром в воде плавали тонкие льдинки, но я все равно прыгнула. Когда погружаешься в лед – тело пронзают иголки и ребра сжимаются так, что даже заорать невозможно. Жуть как холодно, но очень приятно.
Я быстро, быстро вылезаю на мостик и заворачиваюсь в полотенце, а дед забирает свой садок и уходит. В смятенье! Ха! Вот такие вот у меня между делом развлекушки. Мне ни за что не придет в голову надеть какой-то там купальник. Я не собираюсь ломать себе кайф. В ледяную речку нужно прыгать только с голой жопой. И все.
Почему я залезла в эту глухомань? Нет, я не сама нашла это дикое местечко. Координаты дала моя бабушка, мать моего отца. Она его сто раз просила: «Поезжай, посмотри, что там сейчас, привези хоть фотографии». Отец ей щелкал руины, которые остались от брошенных крестьянских домов, и башню старинной колокольни. Верхушка давно обсыпалась и поросла березками, я кривлялась на фоне красного старого кирпича. Мужу показала кадры. Он посмотрел и сказал: «Подожди-ка… Ты видишь, что это? Газовая труба». Пустой берег и вдоль реки, на той линии, где раньше тянулась улица, – газовая труба. Пятьдесят километров от города, ни одного пролетария на берегу – и газ, комплимент от советской власти. Если я скажу, за сколько он купил тут три гектара, никто не поверит. Я сама не верю, что земля, целый кусок планеты в три гектара, может стоить так дешево.
Сейчас еще глоточек – и меня потянет на исторические справки. Ну, не могу! Я не могу их обойти, мне очень хочется спихнуть всю ответственность за свои глупости на предков.
Давным-давно, точнее, до 1917 года, эта земля принадлежала моему прапрадеду по отцовской линии. Называлось это место хутор Мазейка, но после революции его переименовали… в Парижскую коммуну. Я падаю! Парижская коммуна! Версаль.
До революции здесь, среди полей, была усадьба. Небольшая. Дом с белыми колоннами, два флигеля. Вокруг сад. От крыльца к реке вели дубовые ступени. Есть фотки, фотки есть! Дед любил фотографию, у него был свой салон в городе. А вот с документиками вышел облом. В нашем мерзейшем городе сожгли все архивы. Их жгли аж два раза. Сначала в семнадцатом году, а потом еще разочек, почему-то в шестьдесят седьмом. Но кое-что по старым снимкам можно разглядеть.
На берегу стояла купальня. Какая-то гипсовая ерунда имитировала ландшафтный дизайн. С конюшни доносился навозный запах. Розовые кусты, посаженные покойной хозяйкой, захеревали. Дворники тырили из погреба яблочное вино. С пасеки прилетали пчелы и временами покусывали. В общем, ничего особенного – типичная помещичья усадьба небогатых мелкопоместных дворян.
С этой усадьбой вышла неприятная история. Летом в семнадцатом году сюда приехала погостить одна молоденькая симпатичная племянница. Симпатичная, при фамилии, но бесприданница, моя красивая и очень стервозная прабабка. Она была из той же мафии, что и прадед. Они там все запутались в своих наследственных притязаниях, как-то не очень честно делили фамильные деньжонки. И прабабку уело. Красивая девочка, а денег нет. Она приехала в гости поклониться тетиной могилке – и осталась на все каникулы.
В усадьбе гостил барчук. И бабулька молодец – и черный рояль, и белый камин, и речку, и мостик использовала по назначению. А, между прочим, прадед был очень даже ничего. Есть фотки! Немножко инфантилен, на мой взгляд, но порода все та же, с монгольскими скулами, с крепкой костью и с неприятным холодом во взгляде. Но лоб, что особенно важно, высокий.
Папенька его был против. Про честь, про имя говорил, но сделать ничего не мог – девушка была беременна. Все ее, конечно, обвинили в коварстве, а она просто была беременна.