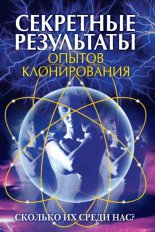Воды любви (сборник) Лорченков Владимир
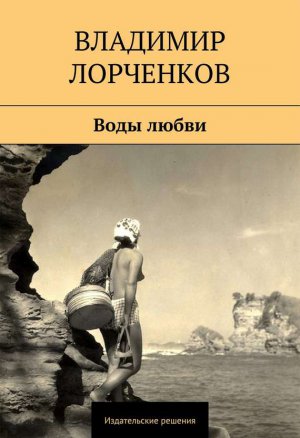
– Ну, то есть прости, малыш, – быстро поправилась она.
– Мне, между прочими, уже тридцать, – сказал я.
– Малыш, в зачет идут годы, когда ты осознаешь себя, как личность, – сказала она.
– А годы написания статей про кетчуп… будь их хоть сто, не в зачет, – сказала она.
– Тогда мне шесть, – сдался я.
– Ты согласен помочь маме, – сказала она.
– Да я все, что угодно, сделаю, – сказал я.
– Мне же шесть, и мне нужна мать, – сказал я.
– Тогда тащи сакэ, камикадзе, – сказала она.
* * *
На следующее утро я ушел, оставив Динь-Динь лежать на кровати.
Комбинезон валялся на полу, скомканный. Волосы феи растрепались, руки были раскиданы в стороны, а сама она сопела лицом в одеяло. Я аккуратно подвинул ее голову так, чтобы фея не задохнулась, погладил спину, ягодицы. Глянул вниз. Весь был измочален, словно через мясорубку прокрутили. На головке краснели следы укуса. Фея оказалась страстной, страстнее некуда. Я сначала думал, что разорву ее, но она напомнила про особенное искривление пространство. И, ей Богу, все получилось и получилось, как нельзя лучше. Деталей я не помнил – в углу валялось три пустые бутылки из-под коньяка и две винные. Голова трещала страшно, но я наслаждался. Ведь это была настоящая боль. И если пошмыгивал, то только из-за легкого похмелья. На заднице феи что-то краснело. Я наклонился, прищурился. Это была надпись помадой. На левой ягодице – «Бери», на правой – «Свою шлюху». Спина Динь была покрыта чем-то белым и высохшим. Я почувствовал эрекцию и почувствовал, как болит мой ободранный зубами Динь член. Опустил палец ниже, коснулся между ягодиц. Фея шевельнулась. Сказала, не поднимая головы с подушки.
– Похмельный трах, – сказала она.
– Что может быть слаще, – сказала она.
Я упал в кровать.…
выходя, теперь уже окончательно, я задернул шторы, чтобы фея выспалась. Ключи оставил ей, просто захлопнул дверь. А потом понял, что сглупил, появилась-то она у меня в доме безо всяких ключей. Но это было неважно. Я все равно не собирался возвращаться. В редакции я написал запас. Три статьи: про майонезную заправку – на лето, клещей в парках – на весну, и отдых на Мальдивах – на позднее лето. Глянул в окно, распахнул его и с жадностью вдохнул запах палой листвы и тумана. Был октябрь. Я так и оставил окно распахнутым, и дышал запахом осени весь вечер. Ближе к ночи я дождался редактора – тупого молдаванина, обожавшего носить шляпы, как у ковбоев, – которого заманил просьбой о серьезном разговоре. Задушил его шнуром от печатной машинки «Ятрань». Сначала, правда, пришлось оглушить его этой машинкой. Помню, он недоуменно сучил ногами, когда я обрушил «Ятрань» ему на голову, и все пытался отползти, кривя губы и выговаривая мне:
– Да что ты… мля, да что ты… да на ха ты че мля в…
Как и все молдаване, он ужасно много матерился, считая, что это показывает его высокий уровень владения русским языком. Лицо у него было жабье, так что мне неприятно было в него смотреть. И я прикрыл его шляпой.
Следующими стали двое экспедиторов, которых я подозвал к окну кабинета. Они подошли, и я, – от добра добра не ищут – сбросил им на головы ту самую печатную машинку. Оба рухнули на асфальт. Я выскочил, пронесся по лестнице вниз, втащил оба тела, и добил их, прежде чем они пришли в себя.
Последней стала моя бывшая жена, которую я позвал на серьезное свидание, и которая примчалась в надежде, что я вновь сделаю ее порядочной женщиной. Бедняжка поняла все, едва переступила порог, но я не дал ей закричать, боднул головой в живот, и постарался задушить, не глядя в лицо. Думаю, она умерла с горделивым осознанием того, что я не перенес расставания и решил отомстить. Это, конечно, было не так. У меня не было к ней личных счетов. Просто я никого больше не знал в этом городе. А убивать незнакомого человека, это отдает чем-то безумным.
Набрав необходимый вес, я приступил к разделке. Конечно, о том, чтобы сделать все самому, речи не шло. Но я хотел облегчить работу маме, хотел предоставить в ее распоряжение хотя бы полуфабрикаты. Так что я разделал тела – так, в общих чертах, – и это-то меня и выдало. Кровь подтекла к порогу, и это увидела уборщица, шаркавшая под дверью каждое утро. Но когда полиция подъехала и двери уже ломали, я почти закончил. Замок уже слетал с петель, когда в кабинет из окна ворвалась Динь-Динь – вся помятая, как и полагается после перепоя, – и пискнула:
– За мной, за мной, за мной! – пискнула она.
Я схватил сумки с мясом и ринулся за феей в окно.
Оглянувшись, увидел, как в сорванную дверь залетает ватага лихих пиратов с перекошенными рожами, и первым был – страшила на деревянной ноге и с крюком вместо руки.…
приземлившись на поле, почувствовал легкую боль в стопах. Рядом со мной кружилась солнечным зайчиком Динь-Динь. Пахло специями. Я сказал маме:
– Вот и я, – сказал я.
– Ты принес, – сказала она.
– Ну, конечно, – сказал я.
Достал все из сумок и положил, как она и велела, в большую промышленную мясорубку. Мама накидала туда столько специй, сколько и требовалось, велев нам с Динь-Динь не глядеть. Тайна рецепта! Машина задрожала, и стала выдавливать из себя огромную кровяную колбасу.
Пахло вкусно.
– Теперь заклятье падет, – шепнула мне Динь-Динь.
Где-то вдалеке завыли, словно бы, волки.
– Это вам на свадебный пир, – сказала мама.
Обернулась, и я впервые за много лет увидел ее лицо. Она была уже в роскошном платье из парчи, со стоячим воротничком и на голове ее, почему-то, красовалась жемчужная диадема. Динь-Динь тоже очутилась вдруг в платье, совершенно белом, таком… непорочном.
– Ну-ну, – сказала мама и погрозила фее пальцем.
Так покраснела, а платье чуть потемнело, стало цвета шампанского.
– Так лучше, – сказала мама.
Подошла и взяла нас за руки. Сказала:
– Дети, я благословляю ваш брак.
– Мама, мы приглашаем тебя на свадь… – сказал я.
– Т-с-с-с, – сказала она.
– А вот теперь мама уходит, навсегда, – сказала она.
Велела нам с Динь обнять колбасу. Та затряслась, и стала выпускать облака дыма и пламени.
– Три, два, один, – услышал я механический голос.
Гигантская колбаса вздрогнула, взмыла, и устремилась ввысь, унося нас к Марсу. Маки попадали на землю, и грозовые тучи, собравшиеся было над полем, разошлись. Мы ворвались в круг света и растворились в нем.
Лев и агнец
Женщина была в юбке ниже колена, и, кажется, колготках.
Присмотрелся – и правда, колготки, простые, хлопчатобумажные, какие носили девчонки в 80—хх
Сумка у нее была похожа на ту, которые таскали почтальоны во времена его детства. Конечно, когда они, почтальоны, еще что-то таскали. Сейчас они бросают в почтовый ящик бумажку, где написано. «Господин такой-то, соблаговолите в назначенное время прийти в почтовое отделение по адресу…». Все портится, все тухнет. Мир, он как испорченный холодильник. Колбаса покрывается тонким слоем липкой слизи, овощи цветут плесенью, только молоко не киснет. А почему? Потому что, мать вашу, в него кладут какую-то химию, отчего молоко не киснет по полгода. А вот во времена его детства в молоке было только молоко, поэтому без холодильника оно выдерживало всего два дня. Потом кисло. И матери делали из скисшего молока детям блинчики, на растительном масле – настоящем, пахнущем подсолнечником. А не на говне из рапса, которое ничем, кроме говна и рапса, не пахнет! И не растворимые сухие завтраки, от которых у мальцов нынче запор, и бледные – словно нескисшее молоко, – лица. Вдобавок, испортились и холодильники. В современном холодильнике то, настоящее еще молоко, не продержалось бы и часа. Все, все испортилось, прогнило и тухнет. Мир стал большой свалкой.
…Мужчина был одет в рубашку с коротким рукавом, брюки со стрелкой – писатель чуть было не подумал «с тщательно выглаженной стрелкой», но потом понял, что это лишнее, и если человек надевает брюки, то берет на себя труд выгладить стрелку, – и светлые туфли в мелких дырочках. Летний вариант. Теперь таких почти не носят. Или наглухо закрытое говно с острым носком, – словно маленький Мук из старых добрых советских мультфильмов, которые раньше крутили по телевизору до появления голливудского говна, – или невероятного цвета кроссовки. Кроссовки! С каких это пор мы носим обувь до бега, скажите на милость? Почему никто не ходит в этом сраном городе в брезентовых сапогах? Снегоступах? На лыжах? Тогда почему – кроссовки?
Мужчина поправил галстук, улыбнулся мягко, но решительно, и сказал писателю, открывшему дверь:
– Не могли бы Вы уделить нам минутку внимания, – сказал он.
Именно так и сказал, на Вы с большой буквы.
– Зависит от того, чем именно вы хотите занять мою минутку, – сказал писатель.
– Минутку моего внимания, – сказал он.
Присмотрелся в темный подъезд. Кажется, иеговисты. Так и есть. В руках – брошюры. «Как и почему церковь предает верующих». «Когда агнец будет пастись рядом со львом». «Отчего дети непочтительны к нам». «Какие предсказания Библии сбылись». «настанет ли Судный день». Покачал было головой. Сверху, в слепящий квадрат окна залетали стремительно очередями, – словно хотели спрятаться в темном прохладном подъезде, – пушинки от тополя. Гребанные тополя. Их тут засадили еще пятьдесят лет назад, они, само собой, выросли, и отравляют каждый июль своим пухом. Вот так просто – дышать нечем. Нынешние идиоты в мэрии собираются тополя рубить, да ведь воздух-то нужно очищать. Вот раньше…
– Так можно зайти? – сказал мужчина.
Их оказалось трое. Еще одна женщина стояла за парой, держала сумку с печатной продукцией. Тоже не старая. Не продукция, женщина. Лет по тридцать-тридцать пять. Им всем. Ну, может, мужик постарше. Мне тоже тридцать пять, подумал писатель. Втянул воздух ото рта носом – незаметно, как ему казалось, – чтобы понять, сильно ли пахнет. Да нет, не очень. Мастика никогда не пахнет, сколько ни пей, все одно, пахнет больницей, карболкой, да язык деревенеет. К тому же, он у себя дома, и это они напросились.
– Ну, входите, – сказал писатель, пропуская неохотно.
Прошли все трое, женщины сумели разуться, не наклоняясь, – а он уже примеривался посмотреть, нынче ведь такая редкостью женщина в приличной длины юбке, которая струится по бедрам, и это так заводит, – и он проводил их в большую комнату. Перевернул портреты на стенах. Нечего им смотреть.
– У вас дети, – сказала старшая, с черными волосами.
Нет, даже не тридцать пять. Это из-за того, что они, сектанты несчастные, не красятся. А так как нынче красятся с пеленок, то женщина без косметики выглядит старше. Хотя, на самом деле, моложе. Красится ли дочь, подумал он, морщась. Тринадцать, нет, четырнадцать. Наверняка, подумал писатель. Расстроился, и решил пить, не стесняясь. По той же причине решил не переодевать халат, большой и махровый, да, но все же халат. Пять минут, и они уйдут. Можно будет сразу раздеться и бродить так по квартире, пока ванная не наберется. Он часто – нет, даже так, он Постоянно, – купался. Просто потому, что, как верно заметил алкоголик Буковски, когда пьешь, дома-то и заняться особо нечем. Он вернулся с кухни с бутылкой мастики – сначала думал плеснуть в стакан, а потом понял, что все равно придется еще не раз вставать, – и плюхнулся в кресло. Посмотрел на чашки с минералкой, которые предложил гостям. Поднял стакан, словно у них в чашках тоже было спиртное. Сказал:
– Аж двое детей, – сказал он.
– Но они со мной не живут, – сказал он.
– Мать забрала, – сказал он.
– Так что валяйте, – сказал он.
– Зачтите мне что-то из «дети непочтительны», «когда восстановятся семьи» и «отчего рушатся браки», – сказал он.
– Хотя, мать вашу, я и без вас могу об этом столько порассказать, – сказал он.
– Можно сказать, я самый большой специалист насчет причин распада брака и всякого такого, – сказал он.
– А можно… – сказала женщина с черными волосами.
– Конечно, и брошюры можно, – сказал он.
– Да нет, я имею в виду, можно и нам, – сказала она.
– По капелюшечке? – сказала она.
– Это как, – сказал он.
Поймал себя на том, что все время пытается натянуть халат на ноги, хотя он и так прикрывал колени. Но это было движение сродни тому, которым стираешь пьяную ухмылку с лица. Ее, может, и нет, а ты все равно стираешь. Потому что пьяный. Так что он оставил в покое халат и ноги, и уставился вопросительно на троицу.
– Ну, – сказал мужчина.
– Мы вовсе не сектанты какие, как про нас все думают, – сказал он.
– Мы и выпить чуть-чуть можем… в меру, все в меру, – сказал он смущенно под одобрительными взглядами своих женщин.
– И потанцевать… – сказал он.
– Просто мы напоминаем людям, что они забыли радость, – сказал он.
– Радость общения, радость простой пищи, радость стаканчика, но не больше! Вина, – сказал он.
– Излишества, вот враг, вот что лишило нас вкуса к жизни, – сказал он.
Улыбнулся.
Протянул свою чашку.
* * *
После того, как они распили бутылку, пришлось лезть в шкаф за ракией. Это еще оставалось после поездки в Болгарию, куда он отправился, чтобы полежать недельку-другую на пляже, отдохнуть, успокоиться, обдумать все, как следует. Конечно, все это оказалось полной чушью. Он просто жрал спиртное всю эту неделю в номере, и слушал «Битлз» на ноут-буке, и думал, как бы это взбесило его жену. Та была очень красивой, одевалась всегда соответственно времени, и старше мужа – бывшего мужа – на пару лет. Но шла в ногу со временем, слушала то Adele то Lana del Ray – смотря кто входил в моду – и ненавидела эту его любовь к прошлому. Прошлому? Да он просто скучал по детству. По безмятежной, беспримесной радости бытия. А до моря он доползал лишь, чтобы упасть в воду и слегка протрезветь перед завтраком. Завтрак, это святое. Он дает силы пить весь день. Весь Божий день, как правильно говорят эти ребята. Они, кстати, оказались славными.
– Вот ты думаешь, – жаловалась Блондинка, у которой оказались не только светлые волосы, но и вполне себе человеческое имя, только он его не запомнил, хотя и просил уже повторить раз пять, – нам приятно?
– Смотрят, как на уродов, и то издали, а вблизи в лицо вообще не смотрят, избегают касаться, как прокаженных каких-то, – говорила она.
– Все думают, что их сагитируют, загипнотизируют, и заставят платить десятину церкви, – говорила она.
– А у нас никаких финансовых взносов, мы просто ходим и напоминаем людям о том, – говорила она.
– О чем же, – спросил писатель, открывая ракию.
– О том, что жить можно в радости, – сказала она.
– Ой, нет, ну ладно, совсем чуть-чуть, – сказала она.
Писатель плеснул ей. И Брюнетку. И спутнику их, который оказался вполне себе компанейским мужиком, и даже не грузил своим Богом. Потому что, как он объяснил, их сек… организация стоит на твердой позиции: Бог един, но он у каждого разный, так что и не стоит пытаться разубедить человека в чем-либо.
– Радость от жизни, – сказал он, подняв стаканчик.
– Вот и все, что мы хотим напомнить людям, – сказал он.
– Живите в радости, ведь мир не создан для скорби и страданий, – сказал он, как будто обращался к кому-то на улице.
– Людям просто везде мерещится двойное дно, – сказал он.
– Подвох, ловушка, капкан, – сказал он.
– А мы просто хотим напомнить им о смысле жизни, – сказал он.
– Мы рождены быть счастливы, – сказал он.
– Но настоящую радость дает умеренность, – сказал он.
– Ребенок, обожравшийся тортами, не понимает, что такое радость вкуса, – сказал он.
– Ему с каждым разом надо все больше крема, все больше жира, все больше сахара, – сказал он.
– А ведь простой леденец может быть настоящим праздником, – сказал он.
– Не будем про детей, – сказал писатель.
Брюнетка – ну, на то она и старше, – понимающе положила свою руку на его. Он вдруг понял, что у нее тонкие, длинные пальцы, и ногти она не грызет. И это в Молдавии. Поразительно! Проповедник сказал:
– Мы такие же люди, как вы, – сказал он.
– Думаете, нас начальство за такое по голове погладит? – сказал он, просто и надежно улыбаясь.
Девушки покачали головами. Нет, нет, не погладит! Брюнетка закинула ногу на ногу – как умудрилась в такой юбке, – и улыбнулась.
Писатель сказал ей:
– Скажите, а вам не жарко вот так… – сказал он.
– В смысле, – сказала она.
– Ну, колготки, в такую жару, – сказал он.
– Конечно, очень, – смущенно сказала Брюнетка.
– Но мы стараемся выглядеть так, чтобы мужчины вновь вспомнили, – сказала она.
– Вспомнили о том, что женщина может выглядеть привлекательно, и не будучи раздетой на улице, – сказала она.
– Чтобы у него, извините за прямоту, эрекция возникала не только от просмотра порно, – сказала она.
– А просто от вида красивой женщины, – сказала она.
– Ну, да, ребенок и торт, – кивнул писатель понимающе.
– Ребенок и торт, – сказала она.
– Но так жарко, что… – сказала она.
– Ой, да что вы, ванная в вашем распоряжении, – сказал писатель.
Брюнетка и Блондинка, щебеча, ушли в ванную, снимать колготки. Вернулись, как были. Просто ноги от стопы и чуть выше были уже голые. Сели, одернули юбки. Писатель разлил. Почувствовал, что у него встал.
– Какие классные наклейки у вас в ванной, – сказала Блондинка.
– Ну, на зеркале, – сказала она, потому что писатель непонимающе хмурился.
– Аа-а-а, это Микки и собака Дональд, – сказал он.
– Круто, такие в 87—м году были модными! – сказал проповедник.
– Ага, а молоко в бутылках помнишь? – сказал писатель.
– Что за вопрос! А как играли в фантики от жвачек?! – сказал тот.
– Слушай, а на сообщество «Ностальгия_ру» ты подписан?! – сказал писатель.
– Что за вопрос! – он так видимо, решил начинать всякий ответ. – А «Двадцать причин, по которым вы родились в СССР» ты читал?!
– Что за вопрос! – сказал писатель.
Выпили. Брюнетка смотрела на них с нежностью. Блондинка тоже, но не с той степенью нежности. Ах, как смотрела на него одна девчонка за три года до выпускного… Да что эти сопляки нынче понимают в чувствах?!
Проповедник поднял тост.
– За радость, – сказал он.
– За радость, – сказал писатель.
Выпил. Сказал:
– Надеюсь, дамы не будут возражать, если я отлучусь, – сказал он.
Пошел в ванную, решив, все-таки, переодеться во что-то более приличное. Понял, насколько пьян, раз этого захотел. Протер зеркало, увидел за собой Брюнетку. Та прижалась сзади, обняла, положила голову на спину.
– Вот, все просто, как в Библии, – сказала она.
– Ты мужчина, а я женщина, – сказала она.
– Ты здесь, и я здесь, – сказала она.
– Ты рад? – сказала она.
– Я рад, – сказал он.
* * *
Блондинку они имели вдвоем – писатель сзади, проповедник спереди, – а Брюнетка прижималась сзади к мужчинам, терлась об них животом, бедрами, грудями. Те, кстати, оказались огромными. Даже странно, как ей удалось скрыть за этой старой кофтой, подумал писатель. Наверное, замоталась. Он не знал, ведь она разделась за его спиной. Груди он увидел еще в ванной: там, поприжимавшись, Брюнетка встала на колени, и залезла все-таки к нему под халат. Он все порывался то закрыть дверь, то вернуться в комнату, но женщина говорила – ш-ш-ш-ш, – и вновь принималась за дело. Почему, он понял, когда они вернулись – он так и не смог кончить из-за алкоголя – и увидели, что в комнате проповедник, приспустив штаны, обхаживает Блондинку. Ожесточенно толкал ее, та визжала, время от времени затихая. Тогда мужик кричал:
– Рада, рада, ты рада?! – кричал он.
– О. я рада, еще как, – кричала она в ответ.
Ну, как тут не присоединишься, думал писатель виновато, обрабатывая Блондинку. Брюнетка подлезла снизу, стала поливать горячими слюнями место соединения. Подсыхая, слюнки дарили радость: становилось прохладно, как будто в мяту окунулся. Уу-у-у. От радости писатель едва не взвыл. Только, глянув на перевернутые портреты на стене, успокоился. Но нет, причин чувствовать себя предателем у него не было. Жена сама ушла. Постаравшись не смотреть на стену, писатель ускорился. Блондинка стала подлетать, и завыла. Как она умудрялась делать это, когда была занята и спереди, понять было трудно. Наверное, вдаваться в такие технические детали ему и не следовало. Следовало еще приналечь. Он и приналег. Почувствовал, как Брюнетка прижалась сзади, обняла, прикусила слегка ухо. Задрожал, кончая. Брюнетка вырвала его из Блондинки – та заорала негодующе, – и всадила себе в глотку. Брала все, до последнего. Ну и руки, подумал он. Какие сильные руки. Хорошо, что я сегодня пил, подумал он. Такие штуки всегда случаются, если пьешь, подумал он. Блондинка заныла.
– Отшлепайте меня, ну пожалуйста, – сказала она.
– Только если тебе в радость, – сказал писатель.
Брюнетка и проповедник радостно закивали, словно старого знакомого встретили.
– Да, я очень, очень люблю, – ныла Блондинка.
Он пошел в коридор за ремнем, вернулся, а эти уже тут как тут: стоят, держат девчонку за руки, выворачивают, а та лежит на диване задницей вверх. Задница прямо напрашивалась. Он стал стегать. От каждого удара Блондинка дергалась, взвизгивала. Но сучке нравилось. Он стал стегать еще сильнее.
– И немножечко побить… – скулила она.
– Придушить одной рукой, пощечин другой, – пыхтела в подушку она.
Писатель сделал. Почувствовал, что снова встает. Откуда-то сбоку приползла Брюнетка.
– Побей, побей и меня, – прошептала она.
Он, не оглядываясь, ударил назад локтем.
* * *
Светало рано.
Пели птицы, окно было серым, и ему, почему-то, представилось, что сейчас 22 июня 1941 года, и где-то в паре километров от города уже грохочут танки врага. Спать и дальше с таким ощущением было попросту невозможно. Так что он поднялся.
Протанцевал – чтобы не терять равновесие, приходилось делать удивительные па, – к кухне. Долго пил воду из крана, встав раком – как заключенный колонии «Белый лебедь», подумал он, – и понимая, что следует сейчас же, немедленно, оторваться. Пойти в комнату, проверить шкафы. Хотя все понятно и так, да. Но не пить он не мог. Вода была не железистая, как раньше, а отдавала хлором. Все не так, все другое. Все испортилось, подумал он – и я, наверное, тоже.
В шкафах все было на месте.
Кошелек лежал на телевизоре, и ни одна банкнота оттуда не пропала. Ноутбук в шкафу лежал, не раскрытый – как последние полтора года, что он собирался открыть его каждое утро, чтобы начать, наконец, писать. Все было на месте. Только, почему-то, не было на стене портретов. Но если это единственное, что они украли, не беда, подумал он. Пошел чистить зубы в ванную.
Там споткнулся об тело Блондинки. Она лежала с его ремнем – старым офицерским ремнем отца, который прослужил 50 лет, и остался как новенький, а что из нынешнего говна хотя бы год носится, – намотанным на шею. Такой широкий. Как шарфик. Пряжка вдавилась в шею. Даже когда он снял ремень, – размотал, придерживая голову девчонки на коленях, – большой, набухший синяк все равно торчал на шее пряжкой. В ванной плохо пахло, он не сразу понял, почему. Под носом у девчонки запеклась кровь, а кровь всегда воняет. Он переступил голое тело, и его стошнило в ванную.
Прямо на Брюнетку.
Та лежала с раскинутыми по краям ванной ногами, и прямо ей между ног лилась вода из крана, как будто женщина захотела спокойно, обстоятельно подрочить. Да, можно и так. Он знал разные методы. Для мужчин, для женщин. Когда остаешься один, процедуру можно продумать до мелочей. Вода стекала на лобок, а оттуда в слив, только тогда он услышал шум от этого. Горло Брюнетки было на вид, как изнанка кусков мяса, которые выкладывают на цементные прилавки Центрального рынка. С красной бахромой и черными точками там, где нож сосуды не перерезал, а порвал. Значит, резали тупым, подумал он.
Нож лежал в раковине, конечно, взятый с его кухни.
Он смотрел то в ванную, то на пол. Закрыл кран. Наверное, долларов на сто натекло, теперь ведь счетчики, на все счетчики, а вот раньше можно было пускать горячую с утра до утра толстенной струей, и платили копейки. Вышел, не выключая свет – в ванную без света он зайти не сможет, знал он, – в коридор. Остатки надежды развеялись, когда заметил босые ноги. Они торчали из-под груды одежды, вылетевшей из шкафа. Потащил тело за ноги, и почти вытащил, но дальше не стал – краем глаза заметил, что у парня была разбита голова.
В комнате он набрал номер, и, слушая пока еще гудки, всхлипнул.
– Послушай, послушай, – заплакал он.
– Я попал в беду, в очень большую бе…
Быстро нажал красную кнопку, гудки прекратились. Они же записывают, они же теперь все записывают. Это раньше можно было позвонить из телефон-автомата и… Теперь таких даже и нет. Сраные мобильники, и распечатки. Распечатки по первому требованию. Бросил мобильный телефон на диван, сел в кресло. Пошатываясь, встал, на кухне открыл шкаф. Вернулся в комнату с бутылкой «Джека Дэниэлса». Хорошо, что запасы были, и были большими. Он свинтил крышку и пил, прикладываясь чуть-чуть. Не торопясь, но и не отказывая себе – ведь на кухне было еще три бутылки. Только после того, как они кончатся, надо будет что-то решать, знал он.…
Он пил, поглядывая в сторону ванной, где горел свет, и свет становился тем ярче, а в комнате тем темнее, чем меньше виски оставалось в бутылке. Тогда он понял, что улыбается торжествующей улыбкой победителя. Когда совсем стемнело, из тьмы в комнату вышли лев и агнец. Они встали в светящийся проем двери, и начали слизывать стекавшую на пол кровь.
Аттракцион «Гений»
Гид вспотел и задыхался.
– Группа из Южной Кореи, сюда! – сказал гид.
– Ориентируйтесь по флажку, – сказал он.
– Взгляните пожалуйста на мемориальную доску, – сказал гид.
– В этой простой кишиневской школе учился с 1990 по 1993 годы сам знаменитый писатель Лоринков, – сказал он.
– Группа из Северной Кореи, пожалуйста, не притирайтесь к нам, – сказал гид.
– Вы оплатили только экскурсию, без гида, – сказал он.
– Пошли на ха, макаки, быстро! – сказал он группе из Северной Кореи.
– Мужичок, мужичок, – сказал гиду мужичок в узких грязных джинсах и бывшей оранжевой майке.
– Мужичок, дай «пятерку» на пиво, – сказал он.
– Яньзцибугьдабагу! – сказал гид машинально.
– Че? – сказал мужичок.
– Пошел мудила, чтоб я тебя здесь больше не видел, блядь, – сказал гид.
– Вот что я сказал тебе по-корейски, – сказал он по-русски.
– А сейчас повторяю по-русски, – сказал он.
– Охрана! – сказал он.
– Лады-лады, – сказал мужичок
Отошел и тихо смешался с толпой под рассеянными взглядами охраны, прочесывавшей двор. Гид покачал головой и продолжил собирать группу у мемориальной доски с профилем писателя Лоринкова. Выполненная в мраморе, доска ослепительно сияла белизной на фоне серой стены старой кишиневской школы. Двор здания, покрытый потрескавшимся асфальтом, сквозь который пробивалась, – словно ученики школы сквозь наркотический и алкогольный дурман к знаниям, – всякая разная трава. Мужичок сорвал пучок травы, и стал продавать ее группе из Греции как священную траву с могилы самого писателя Лоринкова. Охрана нервничала, и ничего не могла поделать, во дворе собралось слишком много народу. Тысячи полторы человек, кучкуясь, переходили от крыльца школы ко двору, а оттуда на задворки, все шумели, толкались, гомонили… Везде висели указатели на английском, французском, японском, арабском и еще многих других языках. Общего на них было только одно.
– Lorinkov, – в сто тысячу первый раз прочитал гид фамилию человека, по местам жизни которого проводил экскурсии, и энергично заговорил:
– Дамы и господа, мы с вами находимся во дворе школы номер 55, в которой учился сам известный всем вам Лоринков, – сказал он.
– Прямо тут? – спросил пожилой турист с фотоаппаратом.
– Прямее не бывает! – заверил гид.
– Глядя отсюда направо, вы увидите угол, из-за которого выходили на занятия физкультурой десятиклассницы, – сказал гид.