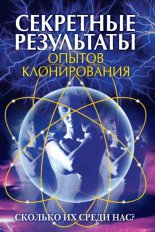Воды любви (сборник) Лорченков Владимир
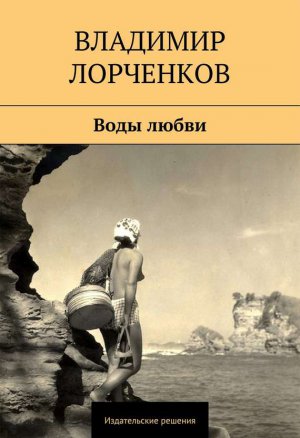
– Как вас зовут, незнакомец? – спросила дама.
– Ромуальд, – сказал Ванькя, стеснявшийся простонародного имени.
– Я вижу, что мы думаем одинаково… – сказал дама.
– Мы с вами эмоционально обнажены, – сказала она и Ванькя прикрыл ширинку.
– Хотите почитаю вам свои рассказы? – сказала она.
Полезла в сумочку. Вытащила книжку с яркой обложкой. Начала читать.
* * *
…в поезде, грустно пересчитывавшем шпалы на рельсах транссибирской магистрали, Ванькя пил крепкий чай и курил папиросы. Глядя в стекла ночами, провожая взглядом фонарики станций, уносившихся в небытие, Ванькя знал, что он никогда не будет другим. Изменился и постарел в Москве Ванькя, голова его поседела, как большой полярный филин, паутинкой трещинок по чашке разбежалась седина во волосам Ванькя…
Перекрасить волосы пришлось, чтобы Ибрагим Дудаевич не нашел.
Ведь Ванькя бежал из Москвы прямо с заседания жж-писателей, прихватив лишь позолоченные часы, да чемодан с деньгами, да вазу с кокаином, да паркет, из дома братки Санькя. Все это было заботливо сложено в чемодан.
В другом чемодане лежала Марта, которую Ванькя похитил прямо с вечеринки жж-писателей.
Хотя шли уже пятые сутки побега, она еще ничего не заметила, ведь Ванькя бросил ей в чемодан ай-фон, три сборника ее рассказов, и фонарик.
Но когда-нибудь возлюбленная очнется и поймет, что случилось, знал Ванькя.
Что же, знал Ванькя, стерпится, слюбится, как убедительно показал в фильме «Свяжи меня» один испанский режиссер-гомосек. Конечно Ванькя не умел еще похищать женщин и хлестать их, привязав к батарее, и заставлять работать на даче, и готовить есть, и собирать урожай, и связывать им на ночь руки и заклеивать рот скотчем, чтобы не вызвали подмогу…
Ну что же, ему многому еще предстоит научиться, знал Ванькя, высовывая лицо из тамбура и щурясь из-за ветра.
Ему ещедолго ехать и щуриться.
Земля
– Слазь с телеги…. бывший, – сказали матросы.
– Ироды, – сказал Адмирал.
– Людей если и убивать… так хоть на земле… – сказал он.
– По-человечески… – сказал он.
– Слазь, слазь… – сказал самый звероватый матрос.
– Не человек ты… враг…. классовый, – сказал он.
Был он в брюках-клеш, кожаной куртке, с револьвером «Маузер» на боку, и ленты пулеметные к нему вокруг торса полуобнаженного обмотал. На голове с чубом непокорным красовалась бескозырка революционная. С надписью – «Патилетка в 3 года». И подпись – товарищ Ленин.
– Дайте хоть перекреститься, ироды, – сказал Адмирал.
– Крестись, ежеля хочешь, – сказал старший среди матросов.
Ухмыльнулся нагло, грудь волосатую почесал. Поймал в волосне вошь самую жирную. Щелкнул на ногте, от табака пожелтевшем. Сказал:
– Так и тебя, Адмирал… – сказал он.
– Ничего, за мой придет вся Россия, – сказал Адмирал.
– Нет больше твоей России, – сказал матрос.
– Наша Россия есть, – сказал он.
– А ежели желаешь на свою полюбоваться, то просим вниз, – сказал он.
Махнул рукой в сторону пирса. Там людей, стоящих в ряд, с завязанными руками, да камнями на шее, в воду у пирса сбрасывали. Горели огни революционного Мурманска. Еще кафе и рестораны горели, библиотеки и квартиры обывателей. Чтобы, значит, очищаем от старого мира, как завещал товарищ Ленин, которого буржуи заразили сифилисом через пулю эсерки Каплан. И за которого надо мстить.
– Отомстим за товарища Ленина! – крикнул кто-то из матросов, с набеленным носом.
–… – ничего не ответил презрительно Адмирал, перекрестился.
Встaл прямо, брезгливо губы поджав. На матросню, руки ему опять ремнями вязавшую, не смотрел. Профилем своим гордым перед матросней повернулся. Нехотя, но залюбовались паскудники Адмиралом. Хорош, хорош… Эх, да с евойной статью, да в красные бы да генералы… Но белый он, белый. Да и не генерал никакой, а Адмирал.
– Желаете передать что семье, товарищ бывший Адмирал? – главный по матросам его спрашивает.
– Передайте моей супруге Анне Семеновне в Париж, что все мое имущество завещено мною ей, – сказал он.
– И другой моей супруге… Катерине Михайловне Боярской… – сказал он.
– Что я люблю ее, и прошу простить меня за все обиды, ей нанесенные, – сказал он.
– Какой вы… любвеобильный… – сказал главный матрос.
Покурили… Пошли прямо по льду от берега вгбуль Баренцева моря. Метров на сто отошли, разыскали прорубь. Поставили перед ней Адмирала. Подняли винтовки. Прицелились. Завыл злой, северный ветер. Серое Заполярье смотрело хмуро. На небе, пролитым напитком «Тархун», плескалось злополучное северное сияние. Адмирал погдялел на него, вздохнул без страха.
– Хотите, Адмирал, – сказал вдруг старший матрос.
– Я прочитаю вам свои стихи, – сказал он.
Начал читать, не дождавшись ответа:
товарищи матросы солдаты и крестьянская беднота
слышите звук революционных пулеметов? тра-та-та
это раздувается пожар мировой революции
разливается по миру итогом ночной поллюции
мы зальем весь мир малафьей классово-обостренной
революция будет звучать так: пыщ-тыдыщ пыщ-тыдыщ
мы прорвем противоречий классовных гнойник словно прыщ
мы залечим вождя товарища Ленина шанкр сифилитический
чтобы и дальше разрабатывал планы на будущее мозг его аналитический
чтоб и дальше вождь мог с броневика своего речь произность
а по праздникам на елке песню про зайку-пролетария выводить
мы реки повернем вспять и горы сроем
мы всех врагов буржуазных партии уроем
но это все в будущем, а пока
не будет у нас лет семьдесят
простого хлеба и молока
– Ну, как? – спросил он.
– Говно-с ваши стихи, – честно ответил Адмирал.
– Пали!!! – заверещал матрос-поэт.
– По врагу революционной России! – зазвенел голосом старший матрос.
– По Адмиралу! – крикнул он.
– Пали!!! – крикнул он.
Грохнули винтовки. Помело снег по льду, бросило горсть в лицо Адмиралу. Тот стоял, не падал. Старший матрос подошел к нему. Сказал:
– В прорубь классового врага! – сказал он.
Обхватил сзади Адмирала, потащил к проруби. Адмирал вдруг потерял всяческое достоинство, стал вырываться.
– Эй, эй… что такое? – закричал.
– Господин Изимбеков, по сценарию такого нет! – кричал он.
– Мы же… сериал…! – кричал он.
– Про Колчака мля, – кричал он.
– Да что ж ты делаешь, ирод! – кричал он.
– Караул, группа, съемочная! – кричал.
– Да что ж ты тво… – крикнул он напоследок,
Ушел головой под лед. Матрос, глубоко дыша, оглянулся. Уставив пустые, накокаиненные глаза, в команду свою, и в тех, кто с камерами, мирофонами да осветительными приборами сзади шли, сказал:
– Вот так мля… со всеми… – сказал он.
Сел на снег. Зарыдал. Ахнула помощница режиссера, уронив стаканчик с кофе на лед. Крикнула:
– Изимбеков… сука! – крикнула она.
– Наркоман гребанный! – крикнула.
– Ты же нашего… да ты же «звезду» российского кино… – крикнула она.
– Самого Костю Хабенского… – кричала она.
– Да ты утопил! – кричала она.
– По-настоящему!!! – крикнула она.
Бросила группа к проруби. Да поздно. Непроницаемо чернела вода Баренцева моря…
…Адмирал не сразу поэтому заметил рыбу, которая к нему подплыла. Все-таки на глубине ста метров очень темно, да и погодные условия в Заполярье… Рыба светилась зеленоватым.
– C’est a, мон адмираль, – сказала она.
– Мы тут все на глубине светимся, – сказала она.
– Захочешь жить, не так раскорячишься, – сказала она.
Вздохнула. Поплавала вокруг, задевая хвостом щеку Адмирала.
– А сейчас, – сказала рыба.
– Я почитаю вам свои стихи, – сказала она.
ты морячка я судак
ты рыбачка я ишак
ты в воде а я на суше
ты никак и я никак…
– Нет, – сказала она, подумав.
– Я, впрочем, другое хотела почитать, а это с корабля навеяло, – сказала она.
– Водные экскурсии к достопримечательностям Крыма, – сказала она голосом экскурсовода, проводящего морские экскурсии к достопримечательностям Крыма.
– Скажем, лучше вот это… – сказала она.
Закрыла глаза, стала декламировать:
- Мамалыга лыга лыга
- Мама лыга лыга мама
- Мамалыга мамалыга лыга лыга
- мама мама
- лыга мама мама лыга
- лыга лыгамама лыга
- лыга мама
- мама лыга
- лыгы ма
- ма лыга
- лыга
- лыгалыга мамалыга
- мамалыга мамалыга
- ла
- малыга…
Откашлялась. Спросила:
– Ну как вам? – сказала она.
– Это мне наживкой навеяло, – сказала она.
– Мужики постоянно на мамалыгу пытаются поймать, – сказала она.
– На подсосе… – сказала он.
– Неплохие стихи, – сказал Адмирал.
– По крайней мере, только мне читали другие и гораздо хуже, – сказал он.
Помолчали.
– Скажите, а вы правда киноактер Хабенский? – спросила рыба.
– Ну… да… в смысле да, был, – ответил Адмирал.
– Слушайте, этот ваш мусор в «Улице разбитых фонарей», – сказала рыба.
– Казанова мля… – сказала она.
– Ну полный улет, – сказала она.
– Вы уж простите за мат… – сказала она.
– Дичаю, – сказала она.
– Гм… – сказал Адмирал.
– Не моги бы вы развязать мне руки? – спросил Адмирал..
– Конечно, – сказала рыба.
Пристроилась сзади, принялась обсасывать веревку жесткими губами. Когда Адмирал освободился, то сказал:
– Благодарю, – сказал он.
– А сейчас не могли бы Вы показать где верх, а где низ… – сказал он.
– А вы уверены, что не хотите остаться, – сказала рыба.
– Ну… – сказал Адмирал.
– Все дело в том, что я…. – сказал он.
– В общем я Вас обманул, – сказал он.
– Я не актер Хабенский, я Адмирал, – сказал он.
– Тот самый? – сказала рыба, помолчав.
– Тот самый, – сказал Адмирал.
Встал, отряхнул штаны. Достал из-за спины треуголку. Сказал цеременно:
– Адмирал Трех Морей дон Христофор Колмб, – сказал он.
– Очень приятно, – сказала рыба.
Полетала еще немного вокруг Адмирала, а потом сложила крылья и бросилась в воду. Адмирал вздохнул. Никогда, никогда он не видал летающих рыб. Путешествие обещало быть заманчивым. С бочки на мачте крикнули.
– Земля, земля!!!
…перед кораблями, грациозно покачиваясь, всплыла неторопливая туша Кубы.
Папахи на бровях
– А теперь, – сказал Иван Васильевич Чапаев.
– Я почитаю вам свои стихи, – сказал он.
Встал, надвинул папаху на лоб так, чтоб сросшихся, как бабочка, бровей коснулась, и, – поглядывая с пригорка на Днестр, – откашлялся. Ребята, – вся бригада чапаевская, – в ногах у командира легендарного сидевшие, слушали внимательно. Кто травинку задумчиво кусал, кто – руки за голову закинув, – в небо глядел. Анна Леопольдовна, медсестра отряда, чистила меланхолично пулемет «Максим» бельгийской сборки, да натирала лошадиную упряжь. Баба, она и есть баба, подумал Иван Васильевич – вот – вот белые погоней дойдут и порубают нас тут всех, а ей лишь бы пол помыть да манду протереть. На то она и баба, подумал. В лицо ветер ударил привольный – с правого берега Бессарабии. Поднял бурку комдива, отчего тот стал похож на диковинную птицу с черными крылами, бьющими вразнобой. Отряд молчал. Комдив сказал:
- в тот день, когда на крыше дома взорвались огни
- диковинным и жарким фейерверком
- мы были с Вами, Анна, не одни
- и пусть я щерился на вас берсерком
- пускай валил Вас с ног одним ударом
- кряхтя, потея, применяя жим,
- французский
- увы, мы с Вами больше не лежим
- в том закутке, где накидали сена
- для лошадей моих бойцы. они унылы.
- голодны, потасканы и звезды
- не отражаются в глазах
- увы и ах
- наш айсберг потерпел крушенье
- нашедши в атлантических пустынных областях
- Титаник свой под флагом белым запустенья
- и знаете, сейчас, на палубе залитой
- в мгновение все всепоглощающей волной
- я Вам хочу сказать лишь – силуэты стерты,
- мы – забыты
- так дай присунуть
- с тобой, в тебе и под тобой
- мы поплывем неведомой медузой:
- телесный цвет, конечностей четыре, две спины…
- дорогу нам уступят ламантины
- и бронированный лангуст укажет путь миграции —
- туда, где все дельфины,
- киты и котики бросают мяч
- блестящими носами. о, как они игривы.
- вери вери мач
- туда, где плещутся белесыми телами
- нарвалы, кашалоты и киты
- и ты, и ты, и ты, тытытытытыты
- и твои ляжки, белые, как у коровы
- конечно, я о стеллеровой, ты
- богиня антлантического региона. сама
- подскажешь что и как, куда войти
- и где прибиться
- волной приливной, закачавшись у камней
- и сладостным оргазмом мамифьеров —
- так кличут млекопитающих французы, —
- взорвемся, словно два фонтана из кита
- о, две твоих груди. ну, что за красота.
- ну, а еще пещеры
- страсти, глубокий грот, где воздуха осталось для меня
- немножко, о совсем чуть-чуть
- буквально децл…
…Иван Васильевич отошел на свое место. Сел. Снял с головы папаху, не чувствуя ветра – так горело лицо. Смущенно не поднимал глаз от костра. Сказал:
– Ну как, робя? – сказал он.
– Недурно, – сказал Фурманов.
– Недурно? – сказал Чапай, сатанея.
– Тебя интеллигентишка, мне прислали жилы вынимать? – сказал он.
– Ты как товарищ скажи! – рубанул он.
– Хорошо али как? – сказал он.
Товарищ Фурманов пожевал травинку – жрать было нечего, за последние пять дней погони все зерно подъели, а местные давно в лесах попрятались, – и сказал.
– Хорошо, Чапай, – сказал он.
– Хорошо, товарищ, – сказал он.
Чапай кивнул, глянул на Анну Леопольдовну. Та, молча, собрала «Максим», блестевший в свете звезд, и поставила на пригорке. Вернулась в круг, задом крутя. Бойцы, хоть от голода и ослабли, смотрели на Анну Леопольдовну с товарищеским интересом. Блестел глазенками молдаванчик, отрядом на правом берегу подобранный. Сирота лет двенадцати, – из пролетариев, должно быть, – сидел на пепелище, да плакал. Взяли с собой его красноармейцы, из солидарности. Ну, а еще как консерву, если со жратвой совсем прижмет. Звали мальца Анатол, а фамилия его была Плугару. Ну, или наоборот. Чапай глянул с пригорка. Вышла Луна, осветила долину. Всадников пока не было видно. Но белые рядом, знал Чапай. Вот бы Гриша Котовский объявился, подумал Чапай…
– Вот бы Гриша… – сказал кто-то задумчиво.
Никто не поддержал. Отряд отступал вот уже несколько месяцев, после того, как армия товарища Буденного потерпела неудачу в буржуазной Польше. Чапай решил ошеломить врага неожиданным отступлением и ушел не на восток, а на юг, в Молдавию. Но в Бессарабии попал в засаду, бойцов потеряли половину… чудес не ждал никто. Тем более, все были коммунисты и материалисты, о чем дали клятву, вступая в партию во время одного из привалов. Почему-то, вспомнил красноармеец Сухов, им при этом пришлось целовать Анну Леопольдовну между ног. Повернулся набок, мотню раздувшуюся со стыдом прикрывая. Вспомнил…
Медсестра сидела на пне в лесу, через который отряд продирался с севера, и, раздвинув широко ноги, смотрела на бойцов с ласковой улыбкой. Тоже была ночь, но из-за яркой Луны – в Молдавии Луна светит страшно, и не уйти от нее никуда, – все было видно до волосочка. Тряпка скрученная, – Анна Леопольдовна таких из портянок нарезала и себе в жопу совала, и звала это по-французски, «стринги», – рядом валялась. Бойцы подходили по очереди к ней, становились на колени, и повторяли за Чапаем клятву коммуниста.
– Торжественно клянусь, – говорили они.
– Перед лицом своих товарищей, говорили они.
Только, почему-то, смотрели не в лицо товарищам, а прямиком туда – в чернеющую посреди белесых ляжек волосню, – после чего говорили:
– И да покарает меня партия за измену, – говорили они.
Затем Чапай клал на плечо бойцу шашку, и говорил:
– Да пребудет с тобой идеал Октября, – говорил он.
– Целуй, – говорил он.
Боец целовал шашку, а потом и Анну Леопольдовну прямо в срам. Вынув из промежья медсестры голову с мокрым лицом, ошалевший красноармеец получал от Анны Леопольдовны земляничку. Клала медсестра ягодку прямо новобращенному коммунисту в рот, и говорила:
– Ешь и пей, – говорила она.
– Ягода это и еда и питье, – говорила она.
– Символ диалектического материализма, – говорила она.
Бойцы жевали ягодки, переглядывались. Начдиву никто перечить не пытался. Его в бою пикой по голове паны шарахнули и скор был на расправу Чапай. Так, бывшего комиссара отряда, Янкеля Бабеля, который всю дорогу записывал историю легендарной дивизии, Чапай страшной смерти предал. А все картошка. Было у Чапая три картошки последние, – он ими заместо стратегической карты пользовался – так Янкель их скушал. Сырыми. Тайком. Может, и не поняли бы, кто, да на перевале у Реута комиссара стравило из-за воды сырой. И отряд, чернея глазищами на впалых лицах, глядел, как кружит в водах неглубокой речушки картофельная кожура…
– Вот значит как, – сказал Чапай, лицом белея.
– Ты, комиссар, за дело коммунизма борешься, – сказал он.
– Я… я не… – забормотал Янкель.
– Я художник! – заорал он.
– Мне все можно! – орал он, когда ребята его вязали.
Прикончить гадину вызвался лихой разведчик, Яшка Френкель.
– Я товарищи, – сказал он.
– Сам гниду кончу, за то, что он все трудовое еврейство… – сказал он.
– Опорочил в ваших глазах, – сказал он.
– Валяй, Яша, – сказал Чапай.
– И не ссы за трудовое еврейство, мы все понимаем, – сказал он.
Вынул из сумки Яша голову от щуки фаршированной, которую в Польше у семьи еврейских землевладельцев отобрали – они были не из трудового еврейства, так что Яша их убил, а дочку ихнюю трахнул да убил, – и натер ей ноги Бабелю.
…тот, сука, полз за отрядом пять верст, оставляя кровавый след, пока не отстал, всех их проклиная. Бойцы ежились, а Яша только смеялся. Белые были совсем близко, но комиссар разоблаченный добрую службу и сослужил. Отряд преследования нашел Бабеля еще живым и долго мучил – а первые крики несчастного отряд еще на правом берегу услышал. Лица менялись. Одна Анна Леопольдовна была спокойна, да только время от времени «стринги» из портянок в жопе поправляла. Косились на ее жопу бойцы, косились лошади. Но волю рукам да копытам никто не давал – все знали, что Анну Леопольдовну имеет Чапай. И что медсестра была его наложница, которую он нашел на остатках разгромленного трудящимися Зимнего дворца. Она полюбила мужественного большевика и отреклась ради него от своей аристократической фамилии: тем более, их всех вырезали. И колесила по стране за Чапаем, обучая его глаголам и спряжениям французского языка.
…Прошла Анна Леопольдовна в круг, села рядом с Чапаем и сказала:
– Хорошо, Чапай, хорошо, – сказала она.
– Прям Серебрянный век напомнил, – сказала она.
– Это как? – сказал Чапай.
– Да не парься, все равно они все умерли, – сказала она.
– Может, кто еще хочет? – сказала она.
Товарищ Фурманов откашлялся, и принял свое слово в политзанятии.
– Значит, немножко… про нас, и тяжкий бой который мы ве… – сказал он, смущаясь.
– Жги, комиссар, – улыбнулся Чапай.
Комиссар сказал:
- полыхает красным огнем зарница
- вдалеке румынская видна граница
- за ней паны богачи и кулаки – жлобы
- трудового народа не слушают жа-ло-бы
- там они сладко пьют, вкусно едят и ебу… любят женщин доступных
- в отличие от комсомолок как пик Коммунизма неприступных
- там они ананасы и рябчиков на кострах жарят
- раздувая огни мирового мля на ха пожара
- а мы идем пятый месяц голодные злые худые как тени
- о нас напишет в газете полка товарищ комкорр барятеньев
- может быть ляжем костьми и умрем за народ
- а, все равно помирать, в рот да и в в рот
- так что скажу – Анна Леопольдовна, я от вас без ума!
- Перевел дух. Продолжил:
- ах Анна Леопольдовна дай мне этот день дай мне эту ночь
- ты не уснешь, а если кто сказал что не стоит, так мля враньке
- я для тебя не богат не знаменит и не комдив
- не зампотыл не пулеметчик и не начдив
- пускай сегодня я никто
- и пусть твердят тебе – он не в ВоенСпецВКТО
- но
- дай мне этот день дай мне эту ночь
- дай мне хоть один шанс и ты поймешь
- я то что надо!
Замолчал. Глядел в глаза Чапаю с вызовом. Тот молчал, смотрел тоже молча, а потом опустил голову, и стал из черенка лопаты самотык всамоделишный для Анны Леопольдовны выстругивать. Сказал:
– Комиссар, скоро все смерть примем, – сказал он.
– Али не слышишь, как земля под копытами белых панов дрожит, – сказал он.
– Подумай, – сказал он.
Фурман, как в отряде комиссара любовно звали те бойцы, с которыми он харился, – топнул ногой, бросил оземь папаху. Крикнул:
– Стою на своем! – крикнул он.
– Раз комунист, делись с товарищем! – крикнул он.
Молчали бойцы. Трещал костер. Стругал Чапай. Смотрела в огонь Анна Леопольдовна. Сказал Чапай, головы не поднимая:
– Ну что же, – сказал.
– Раз крепко подумал, – сказал он.