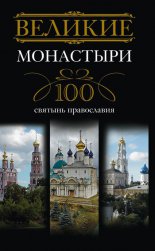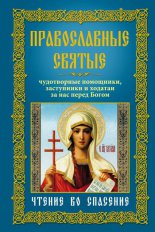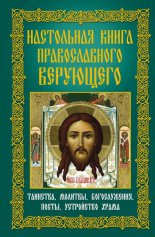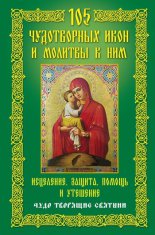Ожерелье императрицы Кузьмин Владимир

– Ирина Афанасьевна, хоть и неловко мне вас просить, но есть у меня к вам просьба.
– Так просите, не стесняйтесь, – ответила маменька.
– Я, пожалуй что, издалека начну, хоть и просьба эта не должна составить вам труда. Человек я не бедный, хотя и богатым себя по большому счету полагать не могу. А возраст мой таков, что пора на этом свете дела в порядок приводить, хоть на тот свет я не тороплюсь ни капли. Прямых наследников у меня нет, но есть пара племянников и племянница. Не скажу, что в восторге от них, но и слишком дурного ни о ком не знаю. Во всяком случае, такого, чтобы наследства их лишать. Так что пусть пользуются всем, что я после себя оставлю, я уж и соответствующие распоряжения по всей форме приготовил. Но есть одна вещица… Да я вам, верно, когда-нибудь да рассказывал историю про то, как моего предка, коего, как и меня, звали Алексеем, нежданно-негаданно сама императрица Екатерина Великая облагодетельствовала? Так с того времени про нас и стало возможным говорить, что люди мы не бедные. Но помимо земель и титула – вот ведь незадача: титул этот был Алексеем Никитиным получен, и на Алексее Никитине наше графство и прервется, так как некому мне его передать, да это неважно, – так вот, был императрицей моему прапрадеду сделан еще один подарок. Бриллиантовое ожерелье, ей самой принадлежавшее и, бывало, ее шейку украшавшее. Сказывали даже, будто это был первый подарок императрицы Елизаветы своей будущей невестке. И ежели про все остальное можно еще было полагать, что досталось оно за военную службу государыне и отечеству да за ратные подвиги, на той службе совершенные, то такой интимный дар очень уж необычен! А первый из графов Никитиных так никому – ни жене, ни детям – об этом не поведал, унес тайну с собой в могилу. Случались с тем ожерельем и позднее разные выкрутасы… Ох, пардон муа, увлекся, этак я вас подробностями и утомить могу!
Мы стали протестовать и даже требовать рассказа об этих подробностях, но граф Никитин пообещал поведать все в другой раз, а сейчас попросил разрешения перейти к сути его просьбы к маменьке.
– Так вот, за какие такие услуги досталось ему это ожерелье, прапрадед мой не рассказывал никогда. Но завещал ценить эту вещь со всем тщанием, передавать только прямым наследникам. А коли их нет? – печально вздохнул Алексей Юрьевич. – Ну не в могилу же мне это ожерелье забирать, право слово?
– Да уж! – воскликнул дедушка. – Ни к чему вам его в могилу забирать. Полагаю, что вы нашли для него более практическое предназначение?
– Долго я над этим самым практическим, по вашим словам, Афанасий Николаевич, назначением думал. Наконец решился вот на что: продать его, а на вырученные деньги приют для сирот обустроить или иное богоугодное дело совершить.
– Что ж, наверное, это правильный выход, – задумчиво шепнула маменька и спросила уже более живо: – Но я никак не могу сообразить, чем могу быть полезной в этом деле?
– Красотой своей! – неожиданно ответил Никитин.
Маменька давно привыкла ко всяким комплиментам, но эта высказанная сугубо деловым тоном похвала заставила ее чуть смутиться, а нас с дедушкой заставила пристально посмотреть на маменьку, словно глядя на нее, можно было понять, как красота способна помочь в сугубо деловом вопросе. Да и Алексей Юрьевич продолжал маменьку рассматривать.
Маменька этим повышенным вниманием вдруг смутилась еще больше, встала с кресла и, прошуршав «русским», сшитым в Париже платьем, из белого набивного ситца с синими цветами на нем, отошла к окну.
Высокая, стройная. Но не как юная девушка, а как взрослая, пусть и очень молодая женщина. Походка невероятно легкая. Приятный овал лица, темно-русые с каштановым отливом волосы уложены в простую, но элегантную прическу. Губы чуть пухлые, но не полные. И серые глаза, способные под голубым небом синеть, и темнеть, когда у маменьки тяжело на душе.
– Ну перестаньте меня разглядывать, пожалуйста, – попросила она. – А вы, Алексей Юрьевич, объясните, как в вашем деле может помочь красота?
– Извольте, Ирина Афанасьевна, объясню, – очень тепло улыбнулся ей граф Никитин. – Красота ваша в моем деле способна помочь тем вниманием, которое она привлекает! И ваша известность тем же важна. Сейчас поясню, что это вовсе не пустые комплименты. В своих скитаниях по заморским краям я понял, что цена у этого ожерелья двойная. Как украшение оно стоит немало. Но и то, что его сама Екатерина Великая носила, цены ему прибавляет страсть сколько. Еще будучи в Швейцарии, я попросил хорошего ювелира его оценить по возможности точно. Так он мне все это и втолковал. И про то, что правильнее всего будет продавать ожерелье с аукциона, разъяснил, и про то подсказал, что перед этим нужно как можно большее внимание к нему привлечь, да какими способами этого добиться.
– Так, так, так! – воскликнул дедушка. – Мы уже начали догадываться, но вы уж выкладывайте свои планы в точности. Очень любопытно услышать.
– Да тут все просто. Все газеты Лондона сейчас пишут об успехе французской труппы, а более того, про вас пишут, Ирина Афанасьевна. Я именно так о вас и узнал, что вы здесь. То есть прочел в газетах непомерные, как мне показалось, восхваления в адрес актрисы, решил сам взглянуть на такое чудо. А вчера побывал в театре, к безмерному своему восторгу признал вас да убедился, что в ваш адрес еще слишком мало хвалебных слов высказано! И не возражайте старику!
Граф произнес эту тираду столь запальчиво, что вынужден был перевести дух.
– Выходит, – продолжил он свою мысль, – что вы сегодня самая знаменитая во всем Лондоне персона! Завтра у вас последний спектакль, после которого завершение гастролей будет отмечаться довольно широко. И уж пишущей братии там будет отираться немерено! Вот я вас и прошу на том рауте в ожерелье от самой Екатерины Великой покрасоваться. А уж остальное все само собой случится. Журналисты не упустят случай узнать подробности – и пойдет молва!
– А вы уж изыщете способ нужные подробности нужным людям в нужном ракурсе преподнести! – подвел итог дедушка. – Узнаю вашу деловую хватку. Володя мне о ней не раз рассказывал в связи с вашими служебными делами.
Граф довольно рассмеялся:
– Ну что, Ирина Афанасьевна? Согласны?
Маменька улыбалась, но с ответом тянула.
– Была у меня мысль, – сказал тогда граф Никитин, – затащить вас с той же целью на бал, что в скором времени сама герцогиня Мальборо устраивает. Но боюсь, что там не такой резонанс будет.
– А еще непонятно, кем на том балу я предстану, – теперь уже в голос рассмеялась мама. – То ли Ирэн де Монсоро, французской актриской, то ли графиней Бестужевой из России. На это внимание переключится – и забудут все об ожерелье!
– Я об этом как-то не подумал! – запротестовал граф Никитин. – Хотя вы правы. Для меня вы в любой своей ипостаси милы и близки, а для местных аристократов… Ох, как бы они вам косточки стали перемывать.
– Это ничего! Я с самого начала не скрывала своего русского происхождения. И хоть представлялась официально Ириной Кузнецовой, но и из своего замужества с графом Бестужевым специально тайны не делала. А уж уход мой со сцены заставит газетчиков проявить прыть, чтобы попользоваться моей персоной для увеличения тиражей в последний раз. Так что докопаются они до всего!
– А и бог с ними! – весело махнул рукой на воображаемых газетчиков Алексей Юрьевич. – Или, если желаете, черт их всех побери! От них всегда пользы меньше, чем вредностей. Но как вы отнеслись к моей просьбе?
– А вы знаете хоть одну женщину, которая смогла отказаться надеть такой раритет? Нужно только о наряде побеспокоиться, чтобы и платье подходящим было.
4
Два года тому назад погиб наш папенька, полковник русской армии. Он часто уезжал, не рассказывая нам, куда и насколько, потому что выполнял секретные задания. Ждать в неведении приходилось порой очень долго. Вот и о его смерти мы узнали очень не скоро. Спасибо и на том, что начальство соизволило нам о том сообщить, не рассказав никаких подробностей. А уж о том, как он погиб, мы с дедушкой узнали и вовсе по чистой случайности, когда познакомились в Транссибирском экспрессе с есаулом Котовым[9].
Дедушка мой, Афанасий Николаевич Кузнецов, некогда начинал делать успешную карьеру на сцене, и ему пророчили большое будущее. Но ради семьи он отказался от сценической карьеры. Маменька талантом ему не уступала, ее также звали в лучшие театры, но так же, как ее отец, она отказалась от сцены ради семьи. И была безмерно счастлива. Но после смерти мужа затосковала так, что стало страшно за нее. Вот дедушка и предложил съездить в Европу, чтобы немного развеяться. Однажды в Париже ее пригласили поучаствовать в любительском спектакле, и то, как она великолепно сыграла свою роль, не осталось незамеченным. Поступило предложение от очень известной труппы, и маменька неожиданно, может быть, не только для нас, но и для самой себя, его приняла.
Поначалу мы с дедом искренне радовались ее успехам и тому, что она начала становиться самой собой, почти такой, какой была раньше, что сцена и успех помогли ей перебороть горе. Но она, несомненно, продолжая любить нас, театру отдавалась почти без остатка. Для нас у нее не оставалось ни сил, ни времени. Мы с дедушкой под благовидным предлогом вернулись в Москву. Но дела наши после смерти отца пошли из рук вон плохо. Теперь уже и дедушка затосковал сверх всякой меры. И когда старинный приятель предложил ему вместе с театральной антрепризой поехать в далекую и неизвестную Сибирь, я сама была только за, лишь бы он отвлекся от всех печалей и бед, на нас обрушившихся.
Правда, дедушка согласился стать не актером, а лишь суфлером. И мы поехали в сибирский город Томск. Мои расчеты оправдались, новые люди и служба в театре, по которому он всю свою жизнь скучал, излечили дедушку от черной тоски так же, как излечили маменьку. Но и обо мне он ни на миг не забывал. Даже когда его уговорили стать актером и когда он блестяще исполнил несколько ролей.
Мы познакомились с Петей, сыном томского градоначальника. Завязались и другие знакомства. Да и наши дела стали потихоньку приходить в порядок. Частью благодаря тем усилиям, что предпринимал дедушка, частью благодаря помощи наших новых томских знакомых.
А тут пришло письмо от мамы. Нет, она писала нам регулярно. Но это было то письмо, которого мы ждали и никак не могли дождаться. Маменька просила нас простить ее за то, что на какое-то время мы отошли для нее на второй план, что все для нее заслонила собой сцена. И еще она написала, что хоть и благодарна театру, что тот помог ей вновь ощутить вкус жизни, но она по окончании сезона непременно оставит сцену, и мы заживем как прежде. А чтобы ждать стало меньше, она попросила нас приехать к ней, едва мы освободимся. С самого начала предполагалось, что мы встретимся в Париже, но вышло так, что труппа, в которой играла маменька, приняла предложение некой очень влиятельной особы (поговаривали даже, что из королевской семьи!) приехать в Лондон. Где мы наконец и встретились около двух недель тому назад.
Труппа давала представления в помещениях королевского театра Друри-Лейн, одного из лучших театров Лондона, с залом почти на две тысячи зрителей!
Само собой, я после того, как мы с дедушкой провели целый сезон в театре, почти не вылезала из-за кулис и здесь. Мне было интересно буквально все! И невольно напрашивались сравнения с нашим томским театром и с нашей труппой.
Зал, конечно, был здесь почти в два раза больше и заметно богаче отделан, но в целом ничем особым не отличался: тот же партер, те же ярусы лож, та же сцена. А за кулисами он, пожалуй, и уступал тому театру, что был в Сибири, не был таким удобным для актеров. У маменьки, конечно, имелась отдельная грим-уборная из двух комнат. Но остальным артистам приходилось тесниться больше, чем нашим томским.
А вот о чем мне приходилось вздыхать, так это о роскошных костюмах и декорациях! Такие нам в Сибири и не снились.
А вот одному моменту я не знала, завидовать или наоборот. Мы в Томске ставили новую пьесу каждую неделю, и репетиции были зачастую самым веселым и увлекательным во всей театральной жизни. Эта же труппа имела в репертуаре все пять или шесть спектаклей, которые играла уже целый сезон, а некоторые и несколько сезонов кряду. В Лондон и вовсе привезены были всего две постановки. Первую неделю играли сочинение господина Шекспира «Напрасные усилия любви», где маменька исполняла главную женскую роль французской принцессы. Я посмотрела все шесть представлений и все шесть раз была в восторге от маменькиной игры. Но вот каково ей было день за днем играть одно и то же, никак не могла представить?
Вторым представлением была оперетка Иоганна Штрауса – сына «Летучая мышь», в ней маменька играла Розалинду. И опять на все представления зал был полон, и я сама смотрела с огромным удовольствием, но каково актерам исполнять это день за днем, не понимала.
Но как бы то ни было, завтра должно было состояться последнее представление и все окончательно завершится. Правда, не совсем понятно чем. То есть мы пока так и не решили, стоит ли сразу же вернуться в Россию или позволить себе посетить какой-нибудь европейский курорт.
5
В этот последний раз я весь спектакль провела за кулисами.
На поклон артистов вызывали никак не меньше двадцати раз, хотя в предыдущие дни публика ограничивалась дюжиной вызовов. Оно и понятно, спектакль был последним, у нас в Томске, к примеру, на завершении сезона тоже не меньше двадцати раз открывали занавес.
Я дождалась маменьку, помогла ей донести до грим-уборной букеты.
– Ох! И устала же я! – воскликнула она, падая в кресло перед зеркалами. Больше всего устала петь и говорить не по-русски.
– А тебе не жалко будет? – спросила я.
– Всего этого? – Маменька неопределенно махнула рукой. – Конечно, мне будет жалко! Но ведь и в России есть театры и зрители! Дашенька, ты бы проследила, чтобы Александр Сергеевич непременно пришел на банкет, а то он застесняется не хуже твоего Пети.
– Ничего, с ними дедушка, он уж непременно их приведет.
Петя однажды высказался в том смысле, что если его отец познакомится с моей маменькой, то он запросто может в нее влюбиться. И тогда мы с ним можем стать родней. Я ответила, что для того, чтобы породниться, не обязательно женить наших родителей. Не знаю, помнил ли Петя тот разговор, но я его припомнила, когда увидела, какими глазами Александр Сергеевич смотрит на маму. И понятно, отчего он так смотрел, таких красивых женщин, как маменька, больше нет на всем свете! Но его восхищение вовсе не превратилось в любовь. А вот подружиться они подружились. И теперь маменька считала своим долгом опекать Александра Сергеевича.
– Ничего неудобного в том нет! Вы мой гость! – говорила она накануне, приглашая на банкет по поводу окончания гастролей и театрального сезона своей труппы. – Я, как прима, могу и сто гостей позвать, а зову только вас с сыном.
– Э-э-э… но ведь и Даша с Афанасием Николаевичем будут.
– А без них никакого банкета и вовсе не было бы. Вы, верно, знаете, что все примы капризны, а уж я умею капризничать, коли захочу, так, что все что угодно испорчу.
– Ни за что не поверю, что вы капризны, – засмеялся томский градоначальник. – Хотя вы и сыграли сию минуту капризницу так, что вашим словам невозможно не поверить.
– Желаете проверки?
– Нет-нет! – Тут он, похоже, в самом деле испугался, что прима начнет капризничать и всем испортит праздник. – Буду всенепременно!
Но маменька ему не слишком поверила, вот и заговорила сейчас о том, чтобы я за его прибытием проследила.
– Это, верно, они и есть, – сказала я, заслышав стук в дверь.
Но ошиблась, это всего лишь принесли несколько корзин цветов. Не успела дверь за служителем, принесшим цветы, закрыться, как на пороге возник граф Алексей Юрьевич Никитин. Тоже с букетом, да еще вслед за ним несли едва ли не самую большую за сегодняшний день корзину с цветами. Хотя мне всякий раз казалось: да куда уж больше?
– Здравствуйте, Ирина Афанасьевна! Сегодня вы были еще более восхитительны, чем обычно! Позволите войти?
– Входите, входите, Алексей Юрьевич. Не держать же мне вас за порогом, как приставучих юных воздыхателей.
– А что, одолевают?
– Ох, одолевают!
– Так мы их живо отвадим! – грозно пообещал граф. – Антоша, ты чего застрял?
– Так в буквальном смысле и застрял, – ответил человек, несущий корзину. – Не проходят ваши цветы через двери. Опа!
Корзину все же удалось втиснуть в дверной проем.
– Это мой секретарь Антон Петрович Мордвинов, – представил спутника граф.
– Позвольте, Ирина Афанасьевна, и мне выразить свой восторг? – спросил секретарь, ставя корзину к ногам маменьки.
– Выражайте! – Маменька сопроводила это разрешение поистине царским наклоном головы.
Антон Петрович сделал шаг назад, выпрямился и вообще принял подобающую для чтения оды или произнесения напыщенной речи позу, широко открыл рот, но тут же отказался от всего этого пафоса.
– Да нет у меня таких слов, чтобы его выразить, – сказал он очень искренне и очень просто. – Мы уж с графом в скитаниях наших много всякого видели. И по ту сторону океанов, и по эту. Полагал, что меня уж ничем не удивить. Однако ж…
– Ты, Антоша, все же обдумай выражение своих чувств, лучше, чтобы они с рифмами получились. Он же у меня стихи сочиняет, и неплохо! А покуда доставай футляр.
Секретарю было далеко за сорок, но отчего-то обращение Антоша по отношению к нему выглядело очень уместным и наиболее подходящим. И не было в нем ни грамма уничижения. Оттого и я сразу же стала называть его про себя этим ласковым именем.
Антоша извлек из-за пазухи внушительный футляр – как только он там помещался так, что ничего не топорщилось в платье? – и передал графу. Алексей Юрьевич футляр раскрыл и протянул маменьке.
– Вот та вещица, о которой у нас уговор с вами был, – сказал он.
– Прекрасная вещица! – восхитилась маменька.
Ожерелье состояло из двух нитей, унизанных небольшими бриллиантами. Между нитями были устроены перемычки, также с бриллиантами. Чем ближе к лицевой стороне ожерелья, тем длиннее были перемычки, зато позади у застежки нити сходились вместе. В самом центре на нижней нити была еще подвеска с тремя бриллиантами крупного размера голубого оттенка. В лучах света все переливалось очень красиво!
– Вы уж примерьте. Страх как хочется взглянуть, как оно на вас смотреться будет. Я его уж давненько не видал в том виде, для какого оно предназначено.
Граф недоговорил, что последний раз видел ожерелье на шее своей покойной жены, но это было и так ясно.
– Даша, застегни, пожалуйста, – попросила маменька. Я исполнила просьбу и сделала шаг в сторону.
– Какой неправильный выбор сделал Алексей Юрьевич! – чуть охрипшим голосом произнес Антоша. – Ваша красота совершенно затмевает блеск камней!
– Эй, друг любезный! – осадил его граф. – Выбор мой самый что ни на есть правильный. На такой красивой женщине и ожерелье кажется еще прекраснее.
Похоже, они могли бы еще посоревноваться в комплиментах, но тут раздался голос дедушки:
– Господа, позвольте пройти!
Я оглянулась. Дверь осталась незапертой, и сейчас там толпилась целая куча народу. Артисты и артистки, кое-кто из публики, все стояли и смотрели, буквально раскрыв рты и даже пребывали в легком оцепенении. Так что дедушке с Александром Сергеевичем и Петей пришлось приложить немалые усилия, расталкивая эту толпу, чтобы суметь войти к нам. Впрочем, это привело лишь к тому, что людей, застывших в оцепенении, еще прибавилось. Они все трое так и окаменели, едва перешагнули порог. Дедушка, впрочем, справился быстро, а вот Александра Сергеевича пришлось усаживать на стул, а то у него ноги стали подкашиваться.
Маменька глянула на всех весело и громко заявила:
– Я вот сейчас еще переоденусь в подходящее платье! То ли еще будет! А пока прошу посторонних покинуть мою комнату.
Дверь послушно затворили. Своих мужчин мы выпроводили в соседнюю комнату, чтобы не мешали нам переодеваться.
6
Вот хотите верьте, хотите нет, но банкет в самом знаменитом королевском театре в самом центре столицы Соединенного Королевства не особо и отличался от наших томских фуршетов, устраиваемых для нашей труппы зрителями из числа обеспеченных людей едва ли не после каждой премьеры. А если припомнить, как нашу труппу угощали по окончании сезона, то и вовсе сравнение окажется не в пользу Лондона.
По справедливости сказать, обстановка была чуть побогаче. В смысле убранства залов, буфетов и фойе. Дамы были разодеты заметно моднее. А так, то же самое. Только драгоценностей на дамах поменьше да сами украшения победнее – в Сибири порой такие рождественские елки встречались, что ослепнуть можно. Да угощение на фоне сибирского размаха было просто-таки скромненьким. Черная икра, осетрина и стерлядь были там, можно сказать, обыденны. А тут они хоть и наличествовали, но такими скромными порциями, что нужно было разглядывать в лупу. Что и затеял делать Петя. То есть буквально извлек из кармана лупу, а когда я спросила зачем, он ответил, что желает пересчитать количество икринок в порции. Не сочтите Петю невоспитанным человеком, он проделал все это не демонстративно, а наедине со мной, чтобы рассмешить. А так вел себя выше всяких похвал и совсем не смущался, умело поддерживал беседу, если с ним заговаривали. А заговаривали с ним и с его отцом многие, потому как весть о присутствии среди публики настоящих сибиряков разнеслась очень быстро. Некоторые из гостей удивлялись, что не могут разглядеть столь неожиданных гостей издалека, словно они должны были бросаться в глаза. Непонятно чем? Медвежьими шубами, может быть? Или некими вовсе дикарскими нарядами? Эх, зря я не привезла с собой в Лондон эвенкийскую одежду! То-то было бы забавно явиться на раут в ней и посмотреть, какой эффект случится.
Нет, я, пожалуй, слишком пристрастно ко всему отнеслась, хоть и сказала чистую правду. В самом деле, было все в меру помпезно, но и в меру весело. Напыщенными выглядели только лакеи и официанты – забери у такого поднос и точно решишь, что перед тобой лорд адмиралтейства! А настоящие лорды выглядели чуть-чуть чопорно, но лишь издалека, а в общении были вполне милыми людьми.
Петя и Александр Сергеевич постоянно были в центре внимания, потому что очень интересно рассказывали о Сибири, уместно шутили и давали толковые отзывы об увиденных спектаклях. Но больше всех внимание привлекала маменька.
Журналистов здесь было огромное множество, их легко было выделить из общей массы, потому что они едва не каждую минуту доставали свои блокноты и что-то в них записывали. По счастью, фотографировать разрешено было лишь двум фотографам, но и те надымили своими вспышками[10] так, что дышать стало трудно. Да и глаза устали от постоянных всполохов магния.
В какой-то момент сразу целая стая журналистов и оба фотографа обступили маменьку, и мне даже стало ее немного жаль, ей, верно, тоже хотелось просто поболтать с кем-нибудь, выпить немного шампанского, а не отвечать на назойливые вопросы. Несколько раз она подносила руку к ожерелью, и я догадалась, что она умело подвела разговор к этому украшению. Я поискала глазами графа Никитина: тот стоял в стороне, наблюдая за этой сценой с чуть грустной улыбкой, но в следующий миг перевел взгляд в другую сторону, и на лице его выразилось крайнее недоумение. Проследив за его взглядом, я выделила среди других фигуру молодого мужчины с характерной испанской внешностью, довольно привлекательной. Ничем прочим он не выделялся, и я решила, что это какой-то знакомый Алексея Юрьевича, которого он просто не ожидал увидеть здесь. Но я вот и сама не ожидала встретить здесь, в Лондоне, ни Петю, ни самого графа Никитина, так что не посчитала это достойным внимания фактом.
Пробыли мы на этом прощальном банкете ровно столько, сколько требовали приличия. То есть довольно долго, потому что маменьке никак не давали остаться одной. Зато ушли «по-английски», то есть не прощаясь. Для своей труппы маменька затевала прощальный ужин через два дня, прощаться с остальными, практически незнакомыми людьми, она сочла необязательным.
В гримерной нас поджидал Антоша. Маменька последний раз полюбовалась на себя и на ожерелье в зеркала, сняла его, и драгоценность, принадлежавшая некогда самой Екатерине Великой, была упакована с великой аккуратностью в футляр, футляр был устроен за пазухой секретаря графа Никитина.
– Не боитесь с такой ценностью ехать ночью? – спросил дедушка.
– Никак нет. Скажу по секрету, что специально на сегодня мы наняли охрану, правда, раструбили об этом секрете на весь белый свет. Так что позвольте мне откланяться, не хочу заставлять слишком долго томиться фотокорреспондентов, поджидающих меня у входа.
Он взял в руки некий ящик, с хитринкой подмигнул нам:
– Это тоже для фотографий, а то ведь футляр слишком мал. А так будет в газетах нечто, что вполне можно разглядеть.
Не знаю, насколько истомились в его ожидании фотографы и журналисты, но нас им пришлось ждать довольно долго. С другой стороны, они бы и до утра стали ждать. На улице маменька наотрез отказалась сниматься одна.
– Господа! – обратилась она ко всем представителям газет сразу. – Переступив порог театра в этот раз, я уже не актриса! Я прежде всего мать и дочь. И не желаю расставаться со своими близкими даже на мгновение. Если желаете, можете снять нас всех вместе, но только один раз.
Мы вернулись в нашу квартиру, которая была сплошь заставлена корзинами и вазами с цветами – это дедушка не забыл распорядиться, чтобы все подаренные в этот вечер цветы привезли сюда заранее.
Попили чай. По-русски! То есть еще и перекусили основательно, а то после английского банкета очень хотелось есть. И легли спать. Утренние газеты взахлеб рассказывали о вчерашнем событии в мире театра. На фотографиях в каждой было несколько портретов маменьки, а во многих и наши снимки. Некоторые, в том числе «Таймс», дали и крупное фото ожерелья. А из дневных газет мы узнали, что убит русский граф Никитин, а ожерелье императрицы Екатерины Великой похищено.
7
Получилось так, что дневные газеты мы прочли сразу после утренних, потому что легли накануне поздно и утром позволили себе понежиться в постели. Вот после позднего завтрака, когда мы перешли в гостиную, дедушка и принялся просматривать газеты. А раз там было много написано про нас самих, то интересно стало всем. Для нас в гостиной оставляли обычно только «The Times» и «Daily Telegraph», нам их показалось мало, и дедушка попросил прислугу купить и принести другие газеты, все подряд. Та купила не только утренние выпуски, но и те из дневных, что уже были в продаже. Не заметить в них аршинных заголовков о смерти русского графа было невозможно.
Мы еще не пришли в себя от такой страшной новости, как пришли Петя и Александр Сергеевич. С газетами в руках.
– Ирина Афанасьевна, Даша, Афанасий Николаевич! Как же так?! Мы, конечно, по-английски с трудом читаем, но это-то! – Александр Сергеевич похлопал рукой по пачке газет на столе, чуть подумал и положил рядом с ними те газеты, что принес сам. – Но это-то, несомненно, поняли верно! И все равно не хочется верить! Все кажется, что мы что-то уразумели неверно, что чего-то мы недопоняли! Вот и пришли к вам…
Тут все заговорили разом, что и сами не желают верить, но все же газеты об этом пишут, и получается, что верить нужно. Наконец, мы угомонились, и Александр Сергеевич попросил нас прочесть и перевести для него подробности.
Как сговорившись, все газеты писали об этом событии чрезвычайно скупо, обещая подробности сообщить вечером. Так что из них нам удалось узнать лишь самую общую картину происшествия.
Сегодня ближе к полудню в своей спальне в особняке, который снимал для проживания граф Алексей Юрьевич Никитин, он был обнаружен мертвым. Смерть наступила от раны, нанесенной ножом с длинным и тонким лезвием. В других газетах говорили, что удар был нанесен стилетом[11].
– А это одно и то же? Или есть разница? – спросил дедушка.
– А разве стилет – это не нож с коротким и широким лезвием? – задумался Александр Сергеевич. – Впрочем, не помню, да и соображаю сейчас с трудом.
Я знала ответ на этот вопрос, но предпочла промолчать.
– Впрочем, я полагаю, что это и не слишком важно. Простите, Даша, мы вас перебили.
Я продолжила читать, заглядывая по очереди в разные газеты и сообщая из прочитанного уже общую картину. Это было нетрудно, потому что, как уже сказано, сообщения были короткими и содержали очень мало подробностей.
Тело было обнаружено секретарем покойного, сопровождавшим его из России в Лондон (в другой газете – «в кругосветном путешествии»). Тот сразу же отправил прислугу за констеблем. Дальше события развивались, как и положено в подобных случаях. А именно: был вызван доктор, установивший факт смерти, и детектив из местного полицейского дивизиона[12], но когда стала известна личность убитого, дело сочли особо важным и телеграфировали в Скотленд-Ярд[13]. Там отреагировали моментально и поручили расследование старшему инспектору Мортону. В ходе осмотра места происшествия было выяснено, что бриллиантовое ожерелье, о котором уже немало написано, похищено.
– Это все! – сказала я чуть смущенно, словно сама чего-то недоговариваю.
– Да! Из всего этого ничего толком не поймешь! – согласился дедушка.
– Может, мы тогда отправимся на место происшествия! – Петя чуть споткнулся на последнем слове, видимо, хотел сказать сначала «на место преступления» или того серьезней – «на место убийства», но отчего-то предпочел сказать иначе. – Может, от Антона Петровича больше узнаем. Да и поддержать его нужно, уж верно, он переживает…
Но отправиться мы никуда не успели. В гостиную вошла прислуга и сообщила, что нас желает видеть старший инспектор Скотленд-Ярда мистер Мортон.
8
Здесь, в Лондоне, я нередко ловила себя на том, что постоянно все сравниваю с Россией. Сначала одна, после вместе с Петей, я сравнивала с Москвой и Петербургом, он – с Томском. Конечно, семимиллионный город произвел на него сильное впечатление, но всегда было что-то, что можно было толковать и в пользу небольшого сибирского города. А раз мы тут оказались вновь связаны с театром, то больше прочего сравнивали труппы. Ту, в которой мы с дедушкой провели сезон в Томске, и ту, в которой играла маменька. И нам очень нравилась эта забава – все сравнивать. Но вот уж никак не ожидала, что доведется познать в сравнении томскую сыскную полицию и лондонский Скотленд-Ярд, наших судебных следователей и детективов-инспекторов!
Особых представлений о том, каким должен быть инспектор из Скотленд-Ярда, у меня не было. Все, что я знала о них, было вычитано из книжек нашего теперь знакомого писателя сэра Артура. Но, в самом деле, не могут же все инспектора быть похожи на инспектора Лестрейда! В общем, не знаю, кого я ожидала увидеть, но старший инспектор Мортон меня удивил. Тем, что заставил вспомнить одновременно и Дмитрия Сергеевича, и следователя Янкеля[14], то есть людей друг на дружку совсем непохожих.
Бритое лицо и русые волосы делали его немного похожим на Дмитрия Сергеевича. А светло-серые, порой казавшиеся бесцветными глаза и постоянно плотно сжатые тонкие губы напоминали Генриха Эрастовича.
А когда он заговорил, смешение двух этих людей проявилось и в его характере. То есть беседу он вел предельно вежливо, даже как бы сочувственно, но притом с изрядной долей высокомерия. Нет, не высокомерия, уж по отношению к нам оно было явно неуместным со стороны простого полицейского, скорее… Но разбираться в таких тонкостях натуры и слушать одновременно было затруднительно, да и не выглядело это хоть чуть важным.
Еще с порога старший инспектор пожелал нам доброго дня, и это обычное приветствие в данных обстоятельствах и из его уст прозвучало слишком уж неуместно. Не спрашивая разрешения, он сел и уже сидя стал уточнять, кто из нас кто. Закончив со знакомством, спросил безразличным тоном:
– Позвольте, леди и джентльмены, выразить вам мои соболезнования в связи с кончиной вашего соотечественника. Вы можете не сомневаться, полиция сделает все от нее зависящее, приложит все усилия для скорейшего раскрытия преступления и поимки преступника.
Сомнений мы не высказали, и он продолжил:
– Могу ли я в свою очередь выразить надежду на вашу всемерную помощь в этом деле?
Вот желание оказать содействие следствию мы высказали дружно и довольно энергично: кто-то просто закивал, кто-то добавил к кивкам несколько междометий, а я сочла необходимым для полного взаимопонимания подтвердить наше согласие помогать следствию и на словах.
– Мне почти нечего добавить к уже известному вам. – Инспектор похлопал ладонью по стопке газет на столе, многие из которых были развернуты вверх заголовками о преступлении. – Суть преступления здесь изложена верно и точно. Тем более что всю информацию для газет изложил лично я, и всем известно, насколько я нетерпим к искажению своих слов, не говоря уже об искажении самих фактов.
Мы вынужденно закивали в ответ на его вопросительный взгляд, мол, несомненно, все именно так и есть на самом деле.
– Убийство, бесспорно, связано с ограблением, – добавил старший инспектор и вновь вопросительным взглядом обвел всех.
Мне захотелось возразить, что в этом вопросе все не столь несомненно, как может показаться с первого взгляда, или потребовать доказательств этим словам, но я сдержалась.
– Следовательно, к нему могли привести предшествовавшие события. В том числе и те, активными участниками которых вы являлись. Это и заставляет меня беспокоить вас просьбой рассказать мне о них во всех подробностях и ничего не утаивая.
И сама просьба, и слова, которыми ее выразили, были вполне уместны, но что-то все равно мне в них не понравилось. Может, оттенок сухого безразличия? Вообще инспектор Мортон был сух настолько, что от одного его вида хотелось попросить чая. Я не утерпела и сказала:
– Мы все клянемся говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды.
Оттенок сарказма уловил только дедушка, недовольно блеснувший в мою сторону глазами.
– Вот и хорошо, – то ли мистер Мортон принял мои слова за чистую монету, то ли решил сделать вид, что принял их как должное, – тогда давайте начнем с того момента, когда вы впервые увидели ожерелье. Попрошу начать вас, мисс Монсоро.
– Раз уж ведется официальное расследование, то полагаю, что обязана сказать об этом сразу: мое настоящее имя графиня Ирина Афанасьевна Бестужева.
Мне просто захотелось зааплодировать маменьке. Ей, судя по всему, тоже не слишком по нраву пришелся полицейский и его манера общения, вот она и сочла необходимым сделать такое неожиданное для него заявление. На лице Джона Мортона впервые отразилось живое чувство, он явно досадовал на себя, что не счел нужным уточнить столь важные подробности до прихода к нам. А еще я успела подумать, что, скорее всего, он знает о нас и об ожерелье со слов Антоши, а значит, тот намеренно не назвал настоящего имени маменьки, чтобы поставить и ему не по нраву пришедшегося инспектора в неловкое положение.
– Прошу простить меня, ваша светлость!
– Это не так уж и важно, мистер Мортон, – благодушно приняла извинение маменька. – Так с чего же мне начать?
Она бросила короткий взгляд в мою сторону, ища поддержки в этом вопросе.
– Может, нам стоит начать с того, как мы впервые услышали об ожерелье? – спросила я, обращаясь больше к полицейскому, чем отвечая на вопрос маменьки.
– Не думаю, что это важно, – ответил он, – да и суть мне известна. Меня больше интересуют события в театре.
– Хорошо, – легко согласилась маменька. – Вчера в Друри-Лейн по окончании спектакля мы с дочерью прошли в мою грим-уборную. Вскоре к нам зашел граф Алексей Юрьевич Никитин в сопровождении своего секретаря Антона Петровича Мордвинова. Секретарь вынул из внутреннего кармана пиджака футляр, вручил его графу, а граф вынул из него ожерелье и передал мне.
– Как вы с ним поступили?
– Граф попросил меня тут же его примерить. По просьбе графа я сразу надела его. И не снимала в течение всего вечера.
– Даже когда маменька переодевалась, – сочла нужным добавить я.
– Да, так и было. По окончании вечера все было проделано в обратном порядке. Я сняла ожерелье, отдала мистеру Мордвинову, тот уложил его в футляр. И почти сразу ушел.
– Могут ли остальные присутствующие здесь подтвердить эти слова?
Мы подтвердили.
– Не заметил ли кто-либо из вас во время банкета, незадолго до него или вскоре после чего-либо показавшегося вам необычным, выходящим за привычные рамки?
Каждый по очереди ответил, что нет, ничего необычного он не видел.
– Тогда у меня к вам вопросов больше нет, и мне не хотелось бы злоупотреблять вашим вниманием.
– Одну секунду! – остановил его дедушка. – Могу ли я задать вам вопрос? У вас есть подозреваемые?
– Пока в таком качестве задержан мистер Мордвинов, – ответил старший инспектор.
Эти слова прозвучали для нас все равно что гром среди ясного неба. Инспектор, как мне показалось, собирался ими и ограничиться, но, видя наше потрясение, счел возможным добавить:
– Давайте станем полагать, что это сделано более для того, чтобы сбить с толку настоящего убийцу. Полагаю, что у меня имеются для этого серьезные аргументы!
И второй раз за наш разговор сквозь маску сухого равнодушия мелькнуло какое-то живое выражение на лице старшего инспектора, а глаза и вовсе блеснули азартно.
– Полагаю, мне нет надобности просить вас соблюдать конфиденциальность?
– А это не слишком жестоко? – спросила маменька.
– Что? – не понял старший инспектор.
– Держать за решеткой невиновного лишь ради того, чтобы преступник потерял бдительность!
– Кто сказал о невиновности мистера Мордвинова? Я лишь сказал, что не подозреваю его в убийстве. Но у меня достаточно оснований подозревать его в соучастии в преступлении. Есть ли еще вопросы?
– Отчего же вы не сообщили газетчикам, что задержан обвиняемый? – быстро спросила я, увидев что мистер Мортон собирается уходить. – Как же тогда настоящий преступник узнает, что ему нет нужды беспокоиться?
– Задержание я произвел уже после того, как все репортеры разбежались. Я принял это решение в ходе последующих следственных действий.
– А где находилось ожерелье в момент совершения преступления? – поинтересовалась я. – Ну, откуда его украли?
– Мисс, вы задаете вопросы, не имеющие никакого значения. Особенно для вас.
После этих слов инспектор попрощался и вышел.
– Каков сухарь! – воскликнул дедушка, едва стихли на лестнице шаги старшего инспектора.
– И высокомерен не по чину! – поддержал его Александр Сергеевич.
– Похоже, слишком высокого мнения о себе, как о полицейском, вот и ведет себя соответственно.
– Да что вы на человека накинулись! – неожиданно для себя заступилась я за мистера Мортона. – Он молодой человек, карьеру сделал быстро, а значит, опыт у него есть. Но такое серьезное дело ему поручено едва ли не впервые. И уж в аристократических кругах вращаться он совершенно непривычен. Оттого и скрывал свое смущение перед нами, старался показать уверенность в себе, да и перестарался!
– Насчет аристократического общества, это вы графа имели в виду? – несколько удивленно спросил Александр Сергеевич.
– Нас я имела в виду! И вас, Александр Сергеевич, тоже. Вы дворянин, чин у вас немалый, да еще все мы прибыли из России! Мы для него иностранцы! Это для нас самих все это обычно, более того, все мы привыкли не слишком на это обращать внимание. А для простого полицейского инспектора, согласитесь, не слишком просто оказаться в таком обществе. Пожалуй, что нам с вами в царских или королевских дворцах легче было бы.
– Неожиданно! – задумчиво произнес Петин папенька. – А вы, Ирина Афанасьевна, как полагаете?
– Я полагаю, что перемывать косточки полицейскому не самое время. Будь мы хоть аристократы, хоть самые простые люди. Хотя верно в данном случае и первое, и второе. Нам бы следовало первым делом озаботиться участью Антона Петровича. Каково ему сейчас в тюрьме! Нужно нанять адвоката и добиться, чтобы его выпустили.
– Вот это верно! – согласился дедушка. – Что-то мы слишком растерянны. Предлагаю прямо сейчас отправиться в адвокатскую контору.
– Что, всем вместе?
– Да нет же. Полагаю, что я и один справлюсь, но если кто пожелает присоединиться, так я не против.
– Я со своим незнанием языка буду лишь обузой, – чуть огорчился Александр Сергеевич. – Но в финансовой части вопроса готов участвовать несомненно.
– Ну, молодежь-то со мной идет?
– Обязательно!
– А ты, Ирина?
– Ох! Мне нужно как-то решить вопрос с прощальным ужином. Не отменить ли его?
– Не думаю, что есть большая нужда. Граф нам старый знакомый, но не родственник. Траур соблюдать нет необходимости. А обижать артистов – последнее дело. Они уж, верно, настроились хорошенько погулять. Хотя разочаровать их придется, полагаю, что от оркестра отказаться будет правильным.
– Ну что ж, надо так и поступить, и я всем этим займусь.
Мама ушла в свои комнаты, Александр Сергеевич пошел на свою квартиру, дедушка отправился переодеваться, и мы с Петей остались одни.
– А зачем вы, Даша, спросили о том, откуда были похищены драгоценности? Вы хотели узнать, где они хранились в доме?
– И это тоже. А отчего спросила, сама точно не скажу. Меня вот вчера рассмешило объяснение Антоши, для чего ему тот ящик нужен.
– А мне странным показалось, что то не было никакого ящика, то он вдруг есть. Зачем понадобилось тащить этакую тяжесть в театр? Он ведь тяжелый, хоть и сравнительно невелик.
– Вот-вот. Вчера все это не казалось важным и даже просто отдельного интереса заслуживающим. А сейчас мне кажется, что все не так и просто, что что-то большее за всем этим стоит.
– Только вот инспектор не пожелал ответить.
– Не пожелал. А больше покуда спросить не у кого. Хорошо бы Антошу выпустили, может, он чего прояснить сумеет.
9