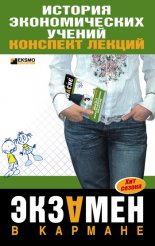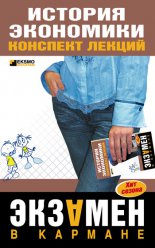Коктейль «Россия» Безелянский Юрий

А вот и немецкая по крови поэтесса Каролина Карловна Яниш, более известная как Каролина Павлова. Она родилась в семье медика, обрусевшего немца (дед получил русское дворянство в 1805 году). Павловой она стала по мужу после неудачной любви к Адаму Мицкевичу («Боялась, словно вещи чумной, / Я этой горести безумной / Коснуться сердцем хоть на миг»).
Свою литературную родину Каролина Павлова ощущала так:
- Нас Байрона живила слава
- И Пушкина известный стих.
Обращаясь к своим «грустным стихам», Каролина Павлова прекрасно сформулировала свое призвание:
- Моя напасть! Мое богатство!
- Мое святое ремесло!
Поэтессе не были чужды и социально-политические мотивы, в этом смысле интересно ее пространное стихотворение «Разговор в Кремле» (1854). В диалоге между Англичанином, Французом и Русским жертвенно-героические мотивы русской истории сопоставляются с блестящими историко-культурными достижениями Запада как равнодостойные. Кстати, многие так считают: у России — героика, у Запада — культура.
Каролина Павлова была вынуждена уехать из России и последние свои годы провела в Германии, там ей тоже пришлось не сладко, но она была мужественной женщиной и говорила, что «страдать и завтра я готова; / Жить бестревожно не пора»:
- Нет, не пора! Хоть тяжко бремя,
- И степь глуха, и труден путь,
- И хочется прилечь на время,
- Угомониться и заснуть.
- Нет! Как бы туча ни гремела,
- Как ни томила бы жара, —
- Еще есть долг, еще есть дело:
- Остановиться не пора!
Кроме Каролины Павловой, еще есть несколько русских поэтов немецкого происхождения, поэтов третьего-четвертого ряда. Это — Эдуард Губер, Михаил Розенгейм, Николай Берг. Губер перевел на русский язык «Фауста» Гёте, но царская цензура нашла произведение вредным и печатание запретила. Сочинения Губера издавались в 1859–1860 годах в трех томах. Михаил Розенгейм печатался в «Сыне отечества», «Русском вестнике», «Библиотеке для чтения», «Русском слове» и других популярных изданиях. Мнил себя пророком, хотя таковым и не был, однако торжественно заявлял:
- Не кроюсь, пусть в меня каменья
- Бросают ближние мои, —
- Иду без злобы и смущенья,
- Во имя правды и любви.
Николай Берг родился в Тамбовской губернии, учился в Москве, а в конце жизни был лектором русского языка и литературы в варшавской Главной школе, преобразованной позднее в университет. В хрестоматию «Русские поэты XIX века» внесено стихотворение Николая Берга «Песня Ярославны»:
- Омочу в реке студеной
- Я бобровый мой рукав,
- И на милом теле рану,
- Нанесенную врагом,
- Омывать я долго стану
- Тем бобровым рукавом…
Был в истории еще один Берг — Федор, поэт и журналист. Работал в «Русском вестнике», редактировал московскую газету «Русский листок» (1898–1899).
Но мало кто знает Бергов, а вот Семена Надсона уж точно знают, по крайней мере любители поэзии. Как не помнить:
- Друг мой, брат мой, усталый
- страдающий брат,
- Кто б ты ни был, не падай душой:
- Пусть неправда и зло полновластно царят
- Над омытой слезами землей;
- Пусть разбит и поруган святой идеал
- И струится невинная кровь —
- Верь, настанет пора — и погибнет Ваал
- И вернется на землю любовь!..
В старые царские времена на вечерах в гимназии, когда читали про «страдающего брата», все кричали от восторга и плакали от жалости. Ныне, конечно, не восторгаются и не плачут. Считают Надсона надрывным лириком, элегиком, а он себя, между прочим, называл «сыном раздумья, тревог и сомнений».
Ну, а чьим сыном он был не в метафизическом, а просто в физическом смысле? Отец из крещеной еврейской семьи. Умер в лечебнице для душевнобольных, когда будущему поэту было всего два года. Матери из дворян, урожденной Мамонтовой, пришлось туго с двумя маленькими детьми. Впрочем, рассказывать про Семена Надсона — довольно грустное занятие. Прожил всего 24 года. Более страдал, чем жил, или, как он говорил сам: «Как мало прожито — как много пережито!» Стихи Надсона высоко ставили Чехов и Салтыков-Щедрин, Мережковский считал себя продолжателем поэтической традиции Надсона. Нравился Надсон и Ленину, к примеру, вот такие строки:
- Дураки, дураки, дураки без числа,
- Всех родов, величин и сортов,
- Точно всех их судьба на заказ создала,
- Взяв казенный подряд дураков.
- Если б был бы я царь, я б построил им дом
- И открыл в нем дурацкий музей,
- Разместивши их всех по чинам, за стеклом,
- В назиданье державе моей.
В работе «Очередные задачи Советской власти» Владимир Ильич безапелляционно утверждал: «Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Наша задача — учиться государственному капитализму у немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов».
Жестким прагматиком был вождь. Жаждал дела, а не слов.
«Нам очень много приходится слушать, мне в особенности по должности, — говорил Ленин на XI съезде РКП(б), — сладенького коммунистического вранья, «комвранья», кажинный день, и тошненько от этого иногда убийственно».
- Больше дела.
- Больше крови!..
Но вернемся к поэтам.
Итак, среди русских поэтов есть евреи, немцы… перечислять можно долго. И даже греки — Николай Щербина и Александр Баласогло. Щербина — грек по материнской линии. Всю жизнь испытывал некое психологическое раздвоение между двумя родинами. Тосковал о том, что ему «не сойти в Пирее с корабля…»
Поэт, в представлении Александра Баласогло, должен «смягчать нравы, образумлять, упрашивать, чтоб полюбили истину… имея в вицу уже не классы или звания, не лица или титулы, а одного человека». Сам Баласогло оставил след в русской истории, издав «Памятник искусств», представлявший собой всеобщую энциклопедию искусств. А еще он входил в кружок петрашевцев.
Нельзя не вспомнить и двух украинцев: Евгения Гребенку и Ивана Котляревского. Именно Гребенка создал одну из самых популярных русских песен, обжигающие
- Очи черные, очи страстные,
- Очи жгучие и прекрасные!
- Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
- Знать, увидел вас я в недобрый час…
Иван Котляревский в 1794 году начал писать свою знаменитую «Энеиду» в стиле традиции старого украинского бурлеска и сатиры. Наша книга подчас выглядит, наверное, серьезно, поэтому разбавим ее лихими строчками из «Энеиды»:
- Харча как три не поденькуешь,
- Мутердце так и засердчит;
- И враз тоскою закишкуешь,
- И в бучете забрюхорчит.
- Зато коль на пол зазубаешь
- И плотно в напих сживотаешь,
- Враз на веселе занутрит,
- И весь свой забуд поголодешь,
- Навеки избудо лиходешь,
- И хмур тебя не очертит.
Улыбнулись? Ну и прекрасно. А были еще Котляревские — Александр, славист, историк литературы, и Нестор, литературовед, публицист, первый директор Пушкинского дома, сын Александра Котляревского. Все они из дворян Полтавской губернии. Но не поэты, а мы вроде говорили о поэтах. Тогда вдогонку — Платон Ободовский — из старинного шляхетства польского. В 1840 году Ободовский был награжден золотой медалью «За успехи в Российской словесности».
Так что представители многих национальностей активно трудились на ниве русской поэзии. А теперь вернемся к прозаикам.
Мастера пера
Не трогаем Салтыкова-Щедрина, Аксаковых, Хомякова, Писемского и других русских писателей без примеси иностранной крови. И все же трудно удержаться, чтобы не привести отрывочек из «Писем к тетеньке» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «Ах, тетенька, тетенька! Как это мы живем! И земли у нас довольно, и под землей неведомо что лежит, и леса у нас, а в лесах звери, и воды, а в водах рыбы — и все-таки нам нечего есть!»
Сатирик убойной силы.
А вот выдержка из письма Ивана Аксакова (1855 год): «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порой жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений добрых малых-мерзавцев, хлебосолов-взяточников… Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзостей, чтобы добиться необходимого законного…»
Суровые слова. Жестокие. Такие же, как и у Александра Сухово-Кобылина: «Богом, правдою и совестью оставленная Россия — куда идешь ты в сопутствии твоих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников…»
Это только часть критических высказываний в адрес России и русских, но даже они, я это чувствую кожей, вызывают у многих раздражение, а то и просто гнев. Гнев, по их мнению, праведный, ибо патриоты видят в своей родине только прекрасное, они считают, что русские — самые лучшие люди в мире, и хвалят страну и восхваляют самих себя безмерно.
В «Словаре сатаны» Амброза Бирса сказано: «В знаменитом словаре доктора Джонсона патриотизм определяется как последнее прибежище негодяев. Со всем должным уважением к высокопросвещенному, но уступающему нам лексикографу, мы берем на себя смелость назвать это прибежище первым».
Но что Бирс! Наш Гоголь в не менее знаменитой «Переписке» отмечал, что в «обыкновенной любови к отечеству» есть опасность «отозваться притворным хвастаньем»: «Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем, довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию!»
Действительно, если переложишь сахару да возьмешь еще мармеладу и добавишь изюма, то во рту станет горько.
Однако продолжим прогулку по залам национальной галереи, протянувшейся от «Белых вод до Черных», «от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая».
Алексей Константинович Толстой, писатель, драматург, поэт. Да, тот самый, который написал стихотворную историю России:
- Послушайте, ребята,
- Что вам расскажет дед.
- Земля наша богата,
- Порядка только нет…
В 1869 году А. К. Толстой написал о себе: «Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный». Бунин в очерке о Толстом отмечает: «Это в его устах значило: Русь Киевская, с Святогором, с Феодосием Печерским. «Собирание» земли, — писал Толстой, — …собирать хорошо, но что собирать? Когда я вспоминаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния!»
В одном из стихотворений Алексей Константинович восклицал:
- Нет, шутишь! Жива наша святая Русь,
- Татарской нам Руси не надо!
Романтик, ничего не скажешь. Да и жизнью своей он подтвердил это, отказавшись от большой карьеры.
«Вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество, начиная с поэзии и до устройства улиц… Я никоща не мог бы быть ни министром, ни директором департамента, ни губернатором, — писал он Анне Миллер. — С раннего детства я чувствовал влечение к художественному и ощущал инстинктивное отвращение к «чиновнизму» и «капрализму»».
Вот и Иван Гончаров очаровал всех русских читателей своим Обломовым, но оттолкнул дельцом Штольцем. Русская лень восторжествовала над немецкой деловитостью.
Итак, Обломов, «…он бы желал, чтоб это (чистота в доме. — Ю. Б.) сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой…»
«Он терялся в приливе житейских забот и все лежал…»
«…в примирительных и успокоительных словах авось, может быть и как-нибудь Обломов нашел целый ковчег надежд и утешений».
«…Что ему делать теперь? Идти вперед или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского… «Быть или не быть?» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять…»
Превосходный писатель Иван Александрович Гончаров, но и на солнце есть пятна: неприятен его антисемитизм.
Письмо Гончарова из Риги к великому князю Константину Романову:
«Жиды здесь, по своему обыкновению, присосались всюду. Это какой-то всемирный цемент, но не скрепляющий, как подобает цементу, а разъедающий основы здания! Они и слесари, и портные, и сапожники, и торгуют чем ни попало, в ущерб, конечно, местной, не только Латышской, но и Немецкой промышленности! Ох, я боюсь, как бы их здесь не побили! Их же развелось много: в одной Риге, на 200 тыс. жителей, их считается до 30 тысяч! Да кроме того, они наползают сюда из Витебска, Динабурга, Полоцка — как гости, на летний сезон».
(21 июня 1884)
Из другого письма тому же адресату:
«Есть еще у нас (да и везде — кажется — во всех литературах) целая фаланга стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным, красивым стихом и пишущих обо всем, о чем угодно, что потребуется, что им закажут. Это — разные Вейнберги, Фруги, Надсоны, Минские, Мережковские и прочие. Они — космополиты… (жиды, может быть, и крещеные, но все-таки по плоти и крови оставшиеся жидами). Откуда им взять этого драгоценного качества — искренности, задушевности? У их отцов и дедов не было отечества, они не могли завещать детям и внукам любви к нему. В религии они раздвоились: оставили далеко за собой одряхлевшее иудейство, а воспринять душою христианство не могли…
Оттого эти поэты пишут стихи обо всем, но пишут равнодушно, хотя часто и с блеском, следовательно, неискренно… Как бы они блестяще ни писали, никогда не удастся им даже подойти близко и подделаться к таким искренним, задушевным поэтам, как, например, Полонский, Майков, Фет, или из новых русских поэтов — граф Кутузов».
(сентябрь 1886)
Получается, что Фет — русский поэт, а Надсон — еврейский? Гончаров сам себе противоречит. Кто хороший поэт, искренний, кто плохой, искусственный — это дело вкуса, не более того. А вот упомянутого Гончаровым поэта Арсения Голенищева-Кутузова приведем строчки:
- Гляди на мир спокойным оком.
- Бесстрастен будь, чтоб никогда
- Уста не осквернить упреком
- И душу казнию стыда!
И еще строки, сильно напоминающие нашего современника, режиссера-депутата Говорухина:
- Так жить нельзя! В разумности притворной,
- С тоской в душе и холодом в крови,
- Без юности, без веры животворной,
- Без жгучих мук и счастия любви,
- Без тихих слез и громкого веселья,
- В томлении немого забытья,
- В унынии разврата и безделья…
- Нет, други, нет — так дольще жить нельзя!..
Когда это было написано? 7 декабря 1884 года.
Сделали перебивочку, а теперь все та же тема. Антисемитизмом грешил не один Гончаров. Иван Аксаков последовательно выступал против евреев, считая, что «от них всякое зло пошло у нас на Руси» (ну прямо бравый генерал Макашов!). В 1867 году в газете «Москва» Иван Аксаков опубликовал статью «Не об эмансипации Евреев следует толковать, а об эмансипации Русских от Евреев». В подобном же духе высказывались Катков, Достоевский, Самарин и другие значительные фигуры.
У Николая Лескова есть работа «Евреи в России: несколько замечаний по еврейскому вопросу». Работа эта не случайная, а заказная. Дело в том, что в 1883 году провела свое первое заседание «Высшая комиссия для пересмотра действующих о евреях в Империи законов», учрежденная императором Александром III после прокатившейся по России волны еврейских погромов. Комиссия за пять лет провела 32 заседания, но так и не смогла прийти к единому мнению. Решено было обратиться к третейскому судье, в качестве которого выбрали уважаемого писателя Николая Семеновича Лескова, известного своим крайне неодобрительным отношением к нигилистам, революционерам и евреям. Очевидно, от Лескова ждали одного мнения, а он выразил на 50 страницах своего заключения совсем другое.
Лесковское резюме звучит так: «Говоря по совести, чистоту которой отрадно соблюсти для жизни и для смерти, мы не видим в нашей картине ничего, способного отклонять просвещенный и справедливый ум от того, чтобы не считать евреев хуже других людей».
Если отбросить лесковскую витиеватость, то суть следующая: оставьте евреев в покое, они такие же люди, как и все остальные, а России вообще стоит относиться к евреям получше, потому как ей от оных польза.
Как замечает исследовательница Наталья Белевцева, «для Лескова евреи имеют самоценность как таковые и для пользы государству (экономической и нравственной). Он не исходит из условия их тотальной христианизации».
Ну что ж, и на том спасибо. А теперь добавим несколько слов о самом Лескове. Основную коллизию жизни писатель видел в вопиющем несоответствии между неограниченными возможностями развития страны, обладающей огромными природными богатствами, и ее нищетой и отсталостью по сравнению с передовыми странами Западной Европы.
В России «что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный», — говорит Лесков устами одного из своих героев.
«У нас на Руси происходят иногда вещи гораздо мудренее всякого вымысла», — он же. Но мне кажется, что Лесков и не предполагал, что в XX веке будут происходить вещи еще мудренее и уже за гранью всякого вымысла. Запредел один, за гранью всякой фантазии.
Но вернемся опять к затронутой теме. В 1890 году религиозный философ и писатель Владимир Соловьев составил «Декларацию против антисемитизма», которую предложил подписать известным деятелям отечественной культуры. Одним из первых подписал ее Лев Николаевич Толстой.
Третий пункт этой Декларации гласил:
«Усиленное возбуждение национальной и расовой вражды, столь противной духу истинного христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести его к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных чувств, при слабости юридического начала в нашей жизни».
И концовка «Декларации»:
«На основании всего этого мы самым решительным образом осуждаем антисемитское движение в печати, перешедшее к нам из Германии, как безнравственное по существу и крайне опасное для будущности России».
Естественно, цензура не позволила напечатать «Декларацию против антисемитизма» в России, она была опубликована в Париже и Вене.
В письме к Файвелю Гецу Лев Толстой писал: «Я жалею о преследованиях, которым подвергаются евреи, считаю их не только несправедливыми и жестокими, но и безумными» (26 мая 1890).
В другом письме: «Для меня равенство всех людей — аксиома, без которой я не мог бы мыслить.
Есть люди более или менее разумные (и потому свободные) и добрые, и чем разумнее и добрее, тем они теснее и органичнее сливаются друг с другом воедино, будь то германцы, англосаксонцы, евреи или славяне, тем они дороже друг другу. И чем они менее разумны и добры, тем более они распадаются и становятся ненавистны друг другу. И потому кажется, что еврею и русскому более нечего делать и ни к чему иному стремиться, как к тому, чтобы быть как можно разумнее и добрее, забывая о своем славянстве и еврействе, что давайте с вами делать» (5 июня 1890).
Кажется, устами великого старца глаголет сама истина.
Говорить о Льве Толстом, о его родословной, о многочисленном клане, пожалуй, не будем: на этот счет существует множество книг и монографий. Сделаем лишь одно исключение. В декабре 1998 года в Россию приехала праправнучка Льва Толстого — Виктория Толстая. Она шведка, родилась в университетском городе Упсале, живет в Стокгольме, увлекается джазом и… не говорит по-русски.
Откуда она взялась? Один из сыновей классика русской и мировой литературы, Лев Львович Толстой, женился на шведке Доре Вестерлунд, которая одарила своего русского мужа десятью детьми. Один из детей — Никита Львович — дед юной шведской джазистки, Мария Никитична — ее мама. В семье трое детей: Николас, Хелена и Виктория, та самая, что приехала к нам.
Юная шведско-русская графиня Виктория Толстая не надувает щеки по поводу своего великого предка. Дело ее жизни — музыка, и за счет ее она собирается сделать себе имя. Так она и сказала московским журналистам. Что ж, вполне графский ответ.
Оставим правправнучку Толстого, самого Толстого, тему антисемитизма, мы к ней еще вернемся не раз (а что делать, если евреи составляют часть, и весьма важную, в русской культуре и истории), а сейчас вновь обратимся к национальным корням некоторых российских писателей.
В 1885 году в Петербурге вышла книга «История новейшей русской литературы. От смерти Белинского до наших дней». Ее написал Семен Венгеров, историк русской литературы и общественной мысли. Каковы его корни? Наполовину немецкие: его мать Паулина — немецкая писательница, автор «Воспоминаний бабушки».
Семен Венгеров большое внимание уделял биографиям писателей, считая, что они отражают жизнь целого общества и могут служить «прекрасным подспорьем для составления картины известного круга людей». Добавим от себя, что национальный аспект тоже имеет немаловажное значение.
Возьмем Павла Катенина, поэта, драматурга, литературного критика. Отец его — русский, мать Дарья, урожденная Пурпур, полугреческого происхождения. Стало быть, чуточку греческой крови. Не отсюда ли радикализм свободолюбивых взглядов Катенина, репутация «большого вольнодумца»? Катенин — страстный оратор и полемист. Считал, что следует «стоять за себя и за правое дело, говорить истину, не заикаясь, смело хвалить хорошее и обличать дурное, не только в книгах, но и в поступках».
По соседству с Катениным в библиографическом словаре примостился Михаил Катков, русский реакционный публицист, имя которого в советские времена было символом монархической реакции. Откуда такой ярлык? Дело в том, что Катков рьяно защищал самодержавие, но ведь так же рьяно поддерживал советскую власть, к примеру, Александр Фадеев. Они оба были ангажированы властью, вот и все. Катков редактировал «Московские ведомости» и «Русский вестник». Боролся против нигилизма. С опаской наблюдал за обновлением общества. «На смену безбородым социалистам идут двенадцатилетние коммунисты. Это нравственная проказа во втором поколении», — писал Катков в «Московских ведомостях» 11 июня 1876 года. Выступал за репрессивные меры против террористов и установление диктаторской власти. Борис Чичерин считал, что деятельность Каткова — «грязный союз наглого журнализма с беззастенчивой властью», а сам Катков — такое же зло для России, как и Чернышевский.
«Государственный человек» Михаил Катков был полукровкой. Мать Варвара Тулаева по происхождению грузинка.
А у Дмитрия Григоровича, автора таких известных произведений, как «Антон Горемыка», «Проселочные дороги», «Гуттаперчевый мальчик», и других, мать — француженка, Сидония де Вармон, говорила только по-французски. Не случайно, наверное, русский «француз» Дмитрий Григорович был избран сопровождать Александра Дюма, когда французский романист в 1858 году совершал путешествие по России.
Еще один Григорович — Виктор Григорович, один из основоположников славянской филологии: отец — украинец, мать — полька.
Григорий Данилевский — чистый украинец, наиболее читаемый его роман «Сожженная Москва».
Владимир Гиляровский — из запорожцев.
Всеволод Гаршин из дворян, происходивших от мурзы Гарши, вышедшего из Золотой Орды при Иване III.
Мать Николая Гарина-Михайловского до замужества носила фамилию Цветинович. Польская? Еврейская?
Некогда знаменитый прозаик Марко Вовчок (она же Мария Вилинская) писала свои произведения на трех языках — на украинском, русском и французском.
Поэт Петр Бутурлин родился во Флоренции, и родным языком был у него итальянский. В Россию он приехал в 15-летнем возрасте. Бутурлин — автор изумительных по тонкости сонетов. Он мечтал привить сонетную форму в русской поэзии. Бутурлина звали «русским парнасцем». Он писал:
- Родился я, мой друг, на родине сонета,
- А не в отечестве таинственных былин, —
- И серебристый звон веселых мандолин
- Мне пел про радости, не про печали света…
Игорь Северянин восторженно воспринимал все, что сделал Бутурлин:
- Петрарка, и Шекспир, и Бутурлин
- (Пусть мне простят, что с гениями рядом
- Поставил имя скромное парадом…)
- Сонет воздвигли на престол вершин.
Кто еще трудился на ниве российской словесности? Вот Яков Грот, языковед, историк литературы, академик Петербургской Академии наук — он внук немецкого пастора и духовного писателя И. X. Грота, переехавшего в Россию в 1760 году. Труд Якова Карловича Грота «Русское правописание» (первое издание вышло в 1885 году) установил нормы русского правописания. Правописание «по Гроту» с небольшими изменениями сохранилось до орфографической реформы 1918 года. В 1891 году Яков Грот возглавил издание академического «Словаря русского языка». Успели дойти только до буквы «Д».
Устали от перечислений? Ну, еще немного. Одно из последних изданий «Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь» (4-й том, 1999). Навскидку из персоналий на букву «О».
Владимир Обручев, публицист, переводчик, к тому же один из организаторов саперных войск в России. Отец русский, мать — полька, урожденная Тимковская.
Владислав Озеров. Все те же польские корни. При крещении ему дали имя Василий, так как имя Владислав отсутствует в русских святцах. Служил в шляхетском кадетском корпусе. Был близок с Гавриилом Державиным. Своей литературной славы Озеров достиг после успеха трагедии «Димитрий Донской» (1806).
Поэт, переводчик Дмитрий Ознобишин, дед по матери — грек, Иоаннис Варвакис.
Николай Олигер, прозаик, драматург. Сын военного аптекаря Фридриха Рейнгольда и Наталии Августы, урожденной Шенберг. То есть чистый немец? В начале XX века вышло три тома «Рассказов» Николая Олиге-ра. Каждый его рассказ — это «кровавая драма», отмечал один критик.
Илья Оршанский. Наум Осипович. Антон Осседовский… Да, мало ли было подобных литераторов, у которых с чистотою русской крови было не все в порядке! Ведь это нисколько не мешало им работать и творить на благо России!
Кто написал слова двух популярнейших русских песен, которые вошли в фольклор, — «Во поле березонька стояла…» и «Вечерком красна девица…»? Николай Мисаилович Ибрагимов, татарин по отцу. Ибрагимов учился в Московском университете. Составил «Славяно-российскую грамматику», но в начале XIX века Российская академия ее отклонила. А вот «Березоньку» отклонить не удалось. Стоит она, сердечная, в поле и тоскует. Может быть, по какому-нибудь молодому патриоту?..
Чехов, Бунин, Куприн
Ну вот наконец добрались и до автора ^Вишневого сада». Пролетает «Чайка». Ворчит «Дядя Ваня». Мечутся «Три сестры» — все в Москву им хочется, в Москву! А что Москва? Это только часть России. Везде «Скверная история», куда ни глянь, людское расслоение — «Толстый и тонкий», а то и просто — «Палата № 6». «Увы! — писал Чехов. — Ужасны не скелеты, а то, что я уже не боюсь этих скелетов». Заметка в записной книжке Антона Павловича. Короче, мир Чехова…
Привести высказывания о Чехове? Боже упаси: их килограммы или даже целые тонны на вес. Только одно. Вот что сказал Роберт Л. Джексон, профессор русской литературы Йельского университета:
«Четыре ключевых слова ведут к Чехову и озаряют для меня морально-философское значение этого писателя в наши дни: понимание ответственности, связь времен. «Не смеяться, не плакать, а понимать», — учил великий философ Спиноза. Чехов тоже не позволял себе смеяться или плакать над жизнью, людьми, судьбою. Он всегда стремился к пониманию и призывал нас искать источники личных и общественных бедствий не в ком-нибудь другом, а в самих себе.
Творчество Чехова, как олицетворенная память, придает нашей жизни чувство единства со всем человечеством, с высшими стремлениями наших предков, с еще не рожденными надеждами тех, кто последует за нами и будет, как путешественники в степи, взирать на вечно удаляющийся горизонт» («Московские новости», 1990, № 6).
С творчеством Антона Павловича ясно, а вот с корнями, с родословной? Дядя писателя Митрофан Егорович рассказывал:
«Несомненно, что наш предок был чех, родом из Богемии, бежавший вследствие религиозных притеснений в Россию. Здесь он, естественно, должен был искать покровительства кого-нибудь из сильных людей, которые его и закрепостили впоследствии, или же, женившись на крепостной, он тем самым закрепостил и прижитых от нее детей, сам, по своей воле или же в силу требований закона».
Однако фамилии Чех в ревизских сказках нет. «Моя фамилия… — писал Антон Павлович А. Эртелю, — ведет начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова, отца того самого Черткова, который издает книжки».
«Во мне течет мужицкая кровь», — часто повторял Чехов. Но вместе с тем Чехов — это эталон русской интеллигентности. Скромный. Постоянно недовольный собой и тем, что он сделал. Писатель Сергиенко вспоминал, как он хотел отвезти Чехова к Толстому, а Антон Павлович яростно отпирался: «Как же я к нему поеду! Он написал «Анну Каренину», а я к нему, видите ли, с визитом. Как можно!»
Ныне таких Чеховых нет — ни по таланту, ни по человеческим качествам.
Чтобы закончить лаконичное представление Чехова, приведу одну реплику из повести «Скучная история»: «…Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов… Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать как хочется, а стало быть, нет и творчества…»
От Чехова легко перейти к Бунину. Мой любимый Бунин! И одна из моих любимых книг — «Жизнь Арсеньева». И непременно цитата оттуда:
«Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно упоения, — так тянет нас к непрестаннному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд! Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной, число людей работающих, здоровых, крепких все возрастало в ней. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как! Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту! Да ни за что, — «карету мне, карету!»».
Иван Алексеевич Бунин — «великий знаток механизма человеческой памяти», как определил Твардовский. В его происхождении тоже были свои «темные аллеи». Род Буниных восходит к какому-то давнему литовцу, перешедшему на ратную службу к именитому русскому князю. Дворянский род Буниных каким-то образом соприкасался и с Василием Жуковским.
Бунин нежно любил Россию, но при этом говорил:
- Грустно видеть, как много страданья
- И тоски и нужды на Руси…
И он же в другом стихотворении признавался:
- Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
- Тысячелетней, рабской нищеты…
Повесть «Деревня» (1910) — начало, по словам Бунина, «целого ряда произведений, резко рисующих русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы».
«Есть два типа в народе, — писал Бунин. — В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа — и дубина, и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто древо обрабатывает».
За обработку «древа» взялись большевики, да так основательно и решительно, что та Россия, которую пестовал в своем сердце Бунин, погибла в «волшебно краткий срок».
«…Что мы вообще знаем! Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всякому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа помещика, и без того с каждым годом все скудевшего? Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босяком, юродом? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок?» — такие вопросы ставил Бунин в «Жизни Арсеньева».
Бунин эмигрировал. Советская власть его долгое время не признавала, потом стала обхаживать на предмет возвращения на родину, но возвращение это так и не состоялось…
К 80-летию Бунина Андре Жид прислал русскому писателю, лауреату Нобелевской премии, письмо: «…Мне казалось почти невероятным видеть из окон вашей виллы в Грассе пейзаж французского юга, а не русскую степь, туман, снег и белые березовые рощи. Ваш внутренний мир брал верх и торжествовал над миром внешним: он-то и становится подлинной реальностью. Вокруг вас я ощущал ту необычайно притягательную силу, которая позволяет братски сближаться человеку с человеком, вопреки границам, общественным различиям и условностям».
Бунин не увидел больше России, а вот Александр Иванович Куприн клюнул на приманку и вернулся. «Я готов был пойти в Москву пешком, по шпалам», — заявил он. Оно и понятно: несладко было Куприну в эмиграции, приходилось вкалывать изо дня в день — «ради насущного хлеба, ради пары штанов, пачки папирос».
Но отвлечемся от судьбы писателя и в русле данной книги коснемся его родовых корней. Отец — безземельный дворянин, письмоводитель в канцелярии мирового посредника, мать — из обедневшего рода татарских князей Куланчаковых. Стало быть, полукровка…
А теперь несколько штрихов к творчеству писателя. Борис Евсеев пишет: «…Там, где есть изображение, а не побулькивание пустеньких идей, — Куприн неподражаем. Даже велик. Велик — как чистый беллетрист-изобразитель, а вовсе не как пророк-мыслитель. Он — Репин прозы. Его славянско-тюркский «хищный глазомер» — не слабей бунинского. А вот слог — доходчивей, теплей, потаенней, стремительней. В этом тайна стремительной доступности — секрет особой любви русского читателя к Куприну…» («Книжное обозрение», 1999, № 26).
Куприн был истинно русским человеком, с пристрастием к вину, склонным к загулам. Ресторан «Вена» в Петербурге — любимейшее пристанище писателя, не случайно про него сочиняли подобные строчки:
- Ах, в «Вене» множество закусок и вина,
- Вторая родина она для Куприна.
И вот после российской славы («Поединок», «Гранатовый браслет», «Суламифь», «Яма» и другие блистательные вещи), после сытости и хмельных пиров — тяжелое эмигрантское похмелье. По воспоминаниям Н. Рощина, Куприна безбожно обкрадывали, перепечатывали, не платя ничего, давали гроши за переводы, писали пошлейшие предисловия к книгам. Куприн нуждался, ходил в рваных башмаках, часто полуголодный…
«Существовать в эмиграции, да еще русской, да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц… Почему-то прелестный Париж (воистину красота неисчерпаемая!) и все, что в нем происходит, кажется мне не настоящим, а чем-то вроде развертывающегося экрана кинематографа».
И Куприн вернулся…
Мне кажется, читателям будет интересно познакомиться с мыслями Куприна не только о судьбе России, но и о тенденции развития всего цивилизованного общества, о последствих научно-технического прогресса. Обо всем этом размышлял Куприн в статье «Ущерб жизни», опубликованной в парижской газете «Утро» в декабре 1922 года. Вот только отрывок из нее:
«Из жизни почти совсем ушла прелесть новых встреч и знакомств. Нет дорожных спутников. Вагонные пассажиры склонны более ненавидеть друг друга. В общении между людьми совсем вывелся рассказ, потому что пропало умение и желание слушать, его заменил анекдот в четыре строчки и специальная, все более растущая литература: для вагона, после обеда и в кровати. Теперь уже немыслима очаровательная простота Мериме, аббата Прево и пушкинской «Капитанской дочки». Литература должна им приятно щекотать нервы или способствовать пищеварению.
Потребность в газете стала так же настоятельной, как потребность в хлебе, кофе и вине, и трудно сказать — в каком отношении находятся между собой власть, приобретенная прессой, с вредом, который она причиняет. Подобно тому, как пуговичный станок опошлил работу, так газета переполнила весь грамотный мир общими, ходячими, штампованными мыслями и выражениями. Прислушайтесь к разговору двух современных культурных людей. Через какие бы этапы ни проходил диалог, вы всегда, на каждом месте можете предугадать не только то, что скажет один и что ответит другой, но и форму и интонацию их реплик.
Нервы у современного человека постепенно и быстро перерождаются, а с ними перерождаются и характеры, что особенно сказывается в повсеместном исчезновении взаимной вежливости, уступчивости, терпения, снисходительности…»
Обрываю цитату, и так все ясно. Близко соприкоснулись мы и с купринским прогнозом: «Человечество погрузится в тихий, послушный, желудочно-половой идиотизм». Этот «желудочно-половой идиотизм» нам лихо демонстрируют сегодня ТВ и пресса.
Но, с другой стороны, идиотизм не идиотизм, а куда денешься от секса, от создания семьи, коли на то человек, считай, запрограммирован? И тут выстраивается любопытный ряд. Оказывается, некоторые наши российские деятели культуры с превеликим удовольствием смотрели на западный огород, если выражаться образно. Как будто не было рядом своих овощей и фруктов. Только не ругайте меня, ради Бога, за вульгаризм. Вот примеры.
Лев Толстой выбирает себе в жены не совсем чистокровную русскую женщину — Софью Андреевну Берс. Илья Репин тоже предпочел в спутницы жизни полуиностранку — Наталью Борисовну Нордман. Вышеупомянутый Александр Куприн был женат на Марии Карловне Иорданской. Потом развелся с ней и женился вторично. И опять непатриотическая оказия — Лиза Гейнрих (Елизавета Морицевна, незаконная дочь писателя Мамина-Сибиряка).
Западник Тимофей Грановский взял в жены женщину по фамилии Мюльгаузен. В данном случае это как-то оправдано: западник есть западник, но почему златокудрый певец российских полей Сергей Есенин, выражаясь современным сленгом, запал на Айседору Дункан? Захотелось прикоснуться к мировой славе танцовщицы? Вопросец…
Но всех русских «переплюнул» Миклухо-Маклай, взял да и женился в Австралии на местной Маргарите. Вот это настоящий мастер!..
А теперь снова припадем к национальным корням.
Вот мелькнуло имя Мамина-Сибиряка. Тайну «Приваловских миллионов» раскрыл сам писатель, а вот каковы генетические тайны его самого? Имя-отчество писателя Дмитрий Наркисович. Предки — из белого духовенства. Но смущает имя Наркис — русское ли оно?..
У Александра Шеллера-Михайлова тайн нет. Он родился в семье обрусевшего эстонца. В 60–80-е годы прошлого столетия Шеллер-Михайлов пользовался популярностью у русского демократического читателя: романы «Господа Обносковы», «Голь», «Алчущие» и т. д. Шеллер-Михайлов считал, что интеллигенция призвана руководить народом.
Мода на Шеллера-Михайлова давно прошла, а вот популярность Леонида Андреева дожила до наших дней.
В воспоминаниях Бориса Зайцева сказано, что Леонид Андреев как-то сразу поразил, вызвал восторг и раздражение… его имя летало по России. Слава сразу открылась ему. Но и сослужила плохую службу: вывела на базар, всячески стала трепать, язвить и отравлять… Следует вспомнить и знаменитый отзыв Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно».
Если бы довелось писать монографию о Леониде Андрееве, то тут есть где развернуться: личность Леонида Андреева весьма яркая и оригинальная. Работал тяжело («Перья мне кажутся неудобными, процесс письма — слишком медленным»). Читать не любил (««Капитанская дочка» надоела: как барышня с Тверского бульвара»). Его жестоко мучил наследственный алкоголизм. Свое отношение к политическим событиям выразил наиболее искренне в рассказе «Так было — так будет», 1906 год. Две реплики из этого рассказа:
«— Нужно убить власть, — сказал один.
— Нужно убить рабов. Власти нет — есть только рабство».
«Жизнь Василия Фивейского», «Жизнь человека», «Царь-голод», «Иуда Искариот и другие» — интереснейшие вещи, вышедшие из-под пера Леонида Андреева. В отличие от Максима Горького он не писал, что «человек — это звучит гордо», напротив, был пессимистом, относился к жизни как к хаотическому и иррациональному потоку бытия, в котором человек обречен на одиночество. Считал, что человек — «сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта… навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии». Эти взгляды Леонида Андреева выражены в рассказе «Проклятие зверя» (1908) и в повести-памфлете «Мои записки» (1908).
Лучшей, на мой взгляд, книгой Леонида Андреева стали изданнные в 1994 году его дневники и письма под заголовком «S.O.S». Обжигающая, страстная книга, в которой писатель воспринял Октябрьскую революцию как гибель России. Главным виновником он считал Ленина, который «без колебаний… подписал бы смертный приговор». Но мы-то с вами знаем, что частицей «бы» вполне можно пренебречь: Ленин таки подписал этот гибельный приговор истории.
Вот только три выдержки из книги:
«…Мучает меня Вадим (сын Леонида Андреева. — Ю. Б.) своим характером. В нем есть чистое золото, но золото это в грязи, в говне, в вонючих наслоениях ила. Грубость и дикое самомнение, баронский тон и жесты, твердая память даже о мнимых правах и частое забывание долга. Откуда это? Много читает, много и я с ним говорю, и как будто нет иных влияний, а вот поди — дует в какую-то щель, просачивается из какой-то всероссийской глубины.
И когда я смотрю на них, я понимаю все: и поражение наше, и большевиков, и гибель России. Ведь это у меня, в моей семье, в самой, так сказать, солонке — а что же у рядовых?..»
(дневник, 3 июня 1918)
«…Из разговоров добрых людей вытекает, что я сейчас — единственный голос России, который может быть всюду слышим. Поверить им — на мне одном лежит задача быть герольдом новой возрождающейся России… Даже в истории они не могут найти ни лица, ни момента, когда один человек и значил бы и мог бы так много. Допустим: я знаю, что других нет. Но здоровье? Но силы? Вот где мой ужас…»
(дневник, 4 марта 1919)
Леониду Андрееву шел только 48-й год, но ему было «трудно жить и дышать». Он собирался в Америку («Мне надо заработать денег — вот что заставляет меня, домоседа, тронуться в путь и, как многих других, искать счастья в Америке»). В письме к Г. Бернштейну 28 июля 1919 года он писал:
«Основная цель моей поездки — это бороться словом с большевиками, сказать о них правду со всей силой и убедительностью, на какие я способен, и пробудить в Америке чувство приязни и сочувствия к той части русского народа, что героически борется за возрождение России. Борьба трудна и мучительна, и сочувствие великого народа ускорит победу и уменьшит страдания тех, кто ежечасно гибнет в мрачной, распутной и кровавой Совдепии. Так как большевизм страшен не для одной России, то разоблачение его имеет значительный интерес и для самой Америки».
В Америку Леонид Андреев не успел поехать: через 15 дней после этого письма, 12 сентября 1919 года, писатель скончался, едва переступив порог своего 48-летия.
Ну, а теперь о национальных корнях. Отец Леонида Андреева — русский, Николай Иванович, землемер, внебрачный сын орловского помещика. Мать Анастасия Николаевна, урожденная Пацковская, — дочь разорившегося польского помещика. Мать очень любила своего первенца Леонида, и он отвечал ей любовью, называя ее «неизменный полувековой друг».
Дети Леонида Андреева, тоже деятели литературы, Вадим и Даниил, стало быть, имели и частицу польской крови.
И в заключение выдержка из письма Леонида Андреева к Ивану Шмелеву, отрывок, явно вписывающийся в круг тем данной книги:
«Люблю Москву, — писал Андреев, — но люблю и Рим, и без Рима мне труднее прожить, чем без Москвы; люблю Орловскую губернию и Волгу, но люблю и шхеры и Норвегию — и все, что есть жизнь. Я и немца-подлеца временами люблю. И в литературе: люблю вас — и Блока, и Сологуба (не всего), и Ваничку Бунина (не всего). Мечта моя: жить во всем. Иной раз до того захочется стать гвардейцем!..» (23 марта 1916).
Мне лично гвардцейцем стать совсем не хочется (но милитар!..), а вот энциклопедистом, эдаким Д’Аламбером или Дидро, жутко хочется быть, ведь и эта книга есть собрание исторических набросков или заметок, но, впрочем, подождем, что скажут критики. А они скажут все!..
Но пока они молчат, мы с вами двинемся далее. Следующая персона, которая нас интересует: Михаил Арцыбашев. Своим романом «Санин» (1907) он прогремел на всю Россию. О «Санине» не будем распространяться; честно говоря, боюсь этих боковых ходов, ибо из-за них книга может выйти из берегов, и «коктейль» прольется на скатерть, а это явно плохой тон.
У Арцыбашева, как и у Леонида Андреева, отец русский, из оскудевшего рода «дворян московских», а вот мать — полька. Польская гордая кровь.
Со знаменитым литературным критиком Юлием Айхенвальдом совсем просто, и гадать не нужно, каких он кровей. Юлий Исаевич Айхенвальд родился в Балте Подольской губернии, в семье раввина. Еврей, но какой замечательный русский! Мало кто из чистокровных патриотов умеет так прекрасно владеть русским языком. Айхенвальд — один из лучших наших стилистов. В энциклопедическом словаре Гранат он писал статьи в разделе «История русской литературы». Непреходящую ценность составляют книги Айхенвальда «Силуэты русских писателей» и «Слова о словах».
Вот как, к примеру, начал Айхенвальд очерк о Николае Помяловском, том самом, у кого «есть сатира и реализм, которые напоминают Гоголя»:
«Помяловский — большая литературная возможность, которая не успела осуществить себя вполне, но проявилась уже все-таки во многом и ценном. Одновременно бурсак и романтик, писатель безобразия и поэт Леночки, изобразитель грубого быта и тонкий психолог, он был жестоко надломлен жизнью, впечатлениями «кладбищенства» и бурсы, и потому на его произведениях осталась печать нецельности…»
Викентий Вересаев. Викентий Викентьевич. Настоящая его фамилия Смидович. У него не мать полька, а отец поляк, — другая комбинация. Отец писателя, Викентий Смидович — сын польского помещика, лишенного, по семейным преданиям, состояния за участие в Польском восстании 1830–1831 годов и умершего в бедности.
Викентий Вересаев начал писать в дореволюционном XIX веке, а закончил в советском XX. Он прожил 78 лет и умер 3 июня 1945 года. Книги Вересаева о Пушкине и его спутниках, о Гоголе, о Достоевском, Толстом очень информативны и интересны.
И последний писатель, завершающий эту главку, — Борис Зайцев. В «Литературной энциклопедии» (1964) о нем сказано: «Для 3. характерно мистич. восприятие жизни, внеклассовый христ. гуманизм…» Далее перечисляются книги Бориса Зайцева 20-х годов и сказано, что они-де выражают «враждебное отношение к революции». Сегодня, слава Богу, подобных оценок не дают.
О корнях. В автобиографии Борис Зайцев писал: «Происхождение нашего рода — татарское; имеется и примесь польской крови. Мать моя, Татьяна Васильевна, — дочь малоросса и великоросски».
Большое формирующее влияние оказала на Бориса Зайцева Италия. «С ней впервые я встретился в 1904 г. — а потом не раз жил там (в 1907–1911) — и на всю жизнь вошла она в меня: природой, искусством, обликом народа, голубым своим ликом. Я ее принял как чистое откровение красоты» (Б. Зайцев. «О себе»).
Через всю жизнь Бориса Зайцева проходит тема Данте. Интерес Зайцева к «высокому» в мировой культуре отмечал Георгий Чулков: «Мне нравилось в Зайцеве то, что он постоянно искал каких-то больших встреч — то с Гёте, то с Данте, то с Италией раннего Возрождения… Сердце у него лирное…»
Почти все произведения эмигрантской поры Бориса Зайцева связаны с памятью о России: по его словам, революция «дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную — давнюю теперь — легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее в глубь времени — Россию «Святой Руси» (сб. «В пути», Париж, 1951).
Достоевский и Розанов
«Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице» («Село Степанчиково и его обитатели»). Это новое лицо — великий Достоевский.
Герман Гессе вообще полагал, что «Достоевский… стоит уже по ту сторону искусства», что, будучи великим художником, он был им все-таки «лишь попутно», ибо он прежде всего — пророк, угадавший исторические судьбы человечества…
Оскар Уайльд говорил, что после Достоевского нам остались только эпитеты.
И третье мнение со стороны Запада — мексиканский писатель Октавио Пас: «Мир Достоевского — это мир мужчин, женщин и детей, одновременно заурядных и необычных. Одних обуревают заботы, других сладострастие, одни бедны и веселы, другие богаты и печальны. Это мир святых и злодеев, идиотов и гениев, благочестивых женщин и терзаемых своими отцами детей-ангелочков. Это мир преступников и добропорядочных граждан, но врата рая открыты всем. Они могут спастись или обречь себя на вечное проклятье…»
После такой небольшой увертюры поговорим о том, из каких национальных недр появился этот гений. В одном из писем к дочери Анна Григорьевна, жена писателя, писала из Италии:
«Вчера пришлось в первый раз в жизни отказаться от собственной фамилии. Часов в 11 утра, когда я еще не была готова, слышу стук в дверь. Спрашиваю, кто? — «Вы пани Достоевская?» — Я, у вас телеграмма? — «Ничуть». — Так что же вам нужно? (Все это по-немецки). — В ответ слышу продолжительную польскую речь. Я отвечаю, что не понимаю по-польски и прошу говорить по-немецки. Незнакомец отвечает по-русски довольно скверным выговором: «Но ведь вы пани Достоевская — значит, полька». — Ничуть, я русская. — «Но ведь Достоевский — польская фамилия?»
— Нет, не польская, а русская. — «Нет, польская». — Говорю вам, русская! Вот был писатель Достоевский, так был он русский, а не поляк… — «Он не родственник вам?» — Нет, — однофамилец!.. — Очевидно, это какой-нибудь полячок, разыскивающий соотчественников, чтобы попросить помощи».
Так Достоевский — русский или поляк? Что он русский писатель, тут сомнений, конечно, нет.
Игорь Волгин написал книгу «Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах» (1991). Первая глава в книге называется «Родословное древо». Из главы вытекает, что сам Достоевский ничего не говорит о своих предках. Его брат Андрей и дочь Любовь повествуют о литовском происхождении предков и ссылаются на Стефана Достоевского, жившего в начале XVII века. Волгин отмечает, что это справедливо скорее в территориальном, нежели в этническом смысле, ибо боярин Данило Иртищ (гипотетический предок Достоевского), по-видимому, ведет свое происхождение от великорусского рода Ртищевых. А корни этого Ртищева идут от Аслан-Челеби-мурзы, выехавшего в конце XIV века из Золотой Орды и крещенного великим князем московским Дмитрием Донским. В начале XVI века боярину Иртищу было пожаловано «вечно и непорушно» село Достоево, отсюда и фамилия Достоевских. Отсюда, из-под Пинска, пошел род Достоевских. Это белорусское Полесье, «огромный, полный тайн край в самом центре Европы».
Игорь Волгин предполагает, что в жилах Федора Михайловича Достоевского смешались три братские крови — русская, украинская, белорусская, а может быть, еще польская и литовская. «Сколь бы тщательно ни вычерчивать генеалогические таблицы, они не проясняют ни тайну личности, ни тайну творчества. Природа предпочитает свою игру. Она простодушно раскладывает пасьянс, верует в удачу, в случай, в слепую и нечаянную тасовку, в лотерею». Таково мнение Игоря Волгина. Я с ним не согласен. Я как раз считаю, что «генеалогические таблицы» влияют на характер и психику человека и даже на его творчество. Где истина? Ее не знает никто.
Мать писателя, Мария Федоровна, урожденная Нечаева, из рода купцов. И таким образом, в великом писателе как бы слились две линии: западнорусская — стародворянская, украинская — духовная и московская — купеческая и интеллигентская. А имя «Феодор» по-гречески означает «дар Божий», хотя родители будущего классика об этом не думали и назвали сына в честь деда — «московского купца 3-й гильдии» Федора Тимофеевича Нечаева.
Сам о себе Достоевский говорил так: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки» (из письма Н. Фонвизиной, январь — февраль 1854).
Рассказывать о личности Достоевского, о его болезнях и припадках? Не буду, об этом есть специальные исследования. Упомяну лишь одну черту Федора Михайловича: «Ничто не было труднее для него, как садиться писать, раскачиваться, — вспоминает Анна Достоевская и добавляет: — Писал чрезвычайно быстро».
Оценивать творчество Достоевского? Тоже не моя задача. Гений есть гений. Федор (Фридрих) Фидлер, немец по происхождению, создал уникальный литературный музей — «Фидлеровский музей русских литераторов» (вырезки из газет и журналов, автографы, записи бесед и высказываний и т. д.). Есть в этом музее, разумеется, и материалы о Достоевском. И вот такая любопытная запись: «Венгеров однажды навестил его и завел речь о Свидригайлове (из «Преступления и наказания»), на что Достоевский удивленно спросил: «А кто это, Свидригайлов?» Оказывается, он часто забывал фамилии своих основных персонажей. Странно, не правда ли?..»
Россия по Достоевскому, его отношение к Западу — вот что нас интересует. Так вот, к Западу русский гений относился отрицательно, Гегеля называл «немецким клопом».
В «Записках из подполья» Достоевский писал:
«…Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское… И что такое смягчает цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и… решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение…»
И — нашел. Весь XX век подтверждает это.
А вот прямо про нынешнюю Россию. В романе «Подросток» Версилов говорит: «Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало…»
И ключевая реплика Подростка: «Моя идея, это — стать Ротшильдом».
В своей поздней публицистике («Дневник писателя») Достоевский выступал против как обуржуазивать, так и против революционного изменения «лика» России. Им он противопоставлял почвенническую программу «русского социализма», уповая на мирное, согласное с национальными традициями преобразование России под эгидой «земского царя», действующего в союзе с основной массой народа и народной интеллигенцией, с чистым сердцем и стремящегося к одной лишь правде.
Голубая мечта. Чистая утопия. За эти взгляды, за эту «достоевщину» писателя критиковали очень многие — от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького. Какой «земской царь»?! Ленин называл Федора Михайловича «архискверным Достоевским». Во времена культа личности Сталина Достоевский был вне русской литературы. Критик Кирпотин называл его «злобным, махровым врагом революции и революционеров-демократов».
А между тем, как справедливо замечает Людмила Сараскина, будущее России было угадано Достоевским с пугающей силой предвидения. Россия стала той самой страной для эксперимента, о котором мечтали Шигалев и Верховенский; и эта «мечта» была реализована их преемниками (Лениным и Сталиным) в масштабах, доступных в XIX веке только воображению Достоевского: «сто миллионов голов».
Угаданные Достоевским «бесы» вышли на историческую сцену России и в 1917 году окончательно победили старую Русь.
«Достоевский, — писал Бердяев, — …открыл какую-то метафизическую истерию русской души, ее исключительную склонность к одержимости и бесованию…»
Рассказывают, что однажды нарком просвещения Луначарский спросил одного недобитого русского интеллигента: какая надпись могла бы быть уместной на памятнике Достоевскому, если бы его поставили большевики? Интеллигент ответил: «Ф. М. Достоевскому от благодарных бесов».
О, Достоевский!.. «Жестокий талант», — сказал о нем Михайловский. Достоевский, по Томасу Манну, — больной гений, ясновидец сатанинских глубин, преступник.
Евгений Сидоров, будучи министром культуры России, в одном из интервью сказал: «…Читаю то, что мне необходимо для подпитки. То, что мне мешает, я инстинктивно откладываю в сторону. Например, я не читаю Достоевского, потому что Достоевский — это истерия, попытка дегармонизироватъ духовную жизнь человека. Он не помогает понять то, что происходит сейчас в России. И не помогает установить мир в собственной душе. Поэтому я откладываю его книги». («Книжное обозрение», 1995, 10 января.)
Как говорится, без комментариев!..
А вот молодой публицист и метафизик Александр Дугин заявляет другое: Достоевский — главный русский писатель, а «Преступление и наказание» — главная книга русской литературы. И обосновывает свою точку зрения следующим образом:
«Дело Родиона Раскольникова — это акт русской Революции, фундаментальный жест русской истории… Вся наша история делится на две части — до убийства Раскольниковым старухи-процентщицы и после убийства. Но, будучи мгновением призрачным, сверхвременным, оно отбрасывает свои сполохи и назад во время. Оно проглядывает в крестьянских бунтах, в ересях, в восстаниях Пугачева, Разина, в церковном расколе, в смуте, во всей стихии, сложной, многоплановой, насыщенной метафизикой Русского Убийства, которая растянулась от глубин славянских первородов до красного террора в ГУЛАГе.
Мы, русские, народ богоносный. Поэтому все наши проявления — высокие и низкие, благовидные и ужасающие — освящены нездешними смыслами, лучами иного Града, омыты трансцендентной влагой. В избытке национальной благодати мешается добро и зло, перетекает друг в друга, и внезапно темное просветляется, а белое становится кромешным адом. Мы так же непознаваемы, как Абсолют. Мы — апофатическая нация. Даже наше Преступление несопоставимо выше ненашей добродетели». («Независимая газета», 1996, 26 июня).
Вот вам и бесовщина в нынешнем ее виде. Апология крови, преступления, топора. Мы особые. Нам все можно. Наши светлые очи «омыты трансцендентной влагой».