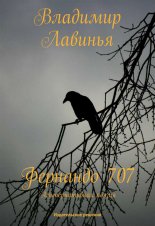В поисках священного. Паломничество по святым землям Джароу Рик

Я знал, что сердце мое и ум обретут свободу лишь тогда, когда я приму все, в том числе и отказ, как волю Господа. Медленно возникало неясное ощущение возникающего Присутствия, способного разрешить все трудности, и которое невозможно достичь посредством усилий. Теперь я видел, что на паломничество меня толкнули желание и амбиции, и теперь весь мой опыт все сильнее и сильнее подталкивал к этому осознанию. Ничего не хотеть, ничего не иметь, быть никем. Что нужно делать, а что не нужно — все эти внутренние колебания могли теперь рассеяться, как туман. Сердце мое трезвело. Истинное понимание было задавлено грузом страстного желания возвеличиться.
Так прошло еще несколько дней. Присутствие Саи Бабы было всеобъемлющим. И с каждым днем сопротивление мое становилось слабее. Теперь не за что было цепляться. Присутствие возникло снова этой ночью. Во сне я ощутил, как чья-то рука коснулась моего лба. Потом что-то порвалось, и я вылетел из своей головы. Я издал безмолвный крик. Ужас охватил меня. Я не понимал, что со мной происходит. Все исчезало. Но, в конечном итоге, мне удалось даже расслабиться в этой нарастающей пустоте: я легко и свободно парил, пока не стал медленно тонуть в своем теле. Я проснулся в холодном поту, услышав слова: «Вне имен и форм».
Но даже в последний день пребывания в ашраме я продолжал ждать. Баба появился и направился к той стороне, где сидел я. На одной линии со мной сидело еще несколько человек, у всех нас были мешочки с вибхути, святым пеплом. Мы держали их в руках и хотели, чтобы Баба благословил их. Он коснулся первого пакета, второго, а затем прошел мимо меня, и продолжал благословлять других. При этом лицо его сохраняло блаженное выражение ясности и невозмутимости. Я проводил взглядом его удаляющуюся фигуру.
Я брел с вещами в сторону выхода и вспоминал, как йог Рамшураткумар журил меня: «Что, ты не веришь в Радхику Раману?» Ты не веришь в самого себя? Я задержался перед окошком, чтобы вернуть ключи, и внезапно наткнулся на сообщение, оставленное Бабой. Оно было написано мелом на доске. Ее собирались повесить снаружи книжной лавки как урок на текущий день.
Не ищи Бога во внешнем мире. Храни твердую веру в то, что ты и есть атман********, и в тебе горит божественная искра. Иди в мир подобно герою, которого не портит успех и не расстраивает поражение. Незачем звать Его извне. Осознай Его как свое внутреннее существо.
Бомбей — возвращение
Рейс до Каира задержали на несколько дней, и я остановился в «Слоновых пещерах», получив прекрасный вид на массивные каменные изваяния Шивы и его множественных лингамов силы. Рельеф некоторых скульптур был разрушен португальцами — они использовали их для пристрелки. Тем не менее величественные фигуры, высеченные прямо в камне, сообщали окружающему пространству колоссальный заряд энергии, а путнику, пожелавшему укрыться здесь, внушали чувство благоговейной уверенности.
На следующий день я сел в автобус до Ганеша Пури, где расположен ашрам Муктананды — там я хотел выразить свое почтение самадхи Бхагавану Нитъянанде, великому авадхуте. В ашраме было много фонтанов и статуй. Среди них была скульптура слона, спасенного богом Вишну. Это изображение знаменитой истории из Пураны, в которой Вишну спускается верхом на птице Гаруде, чтобы спасти слона, которого крокодил пытается затащить в воду. В прошлой жизни слон был верным приверженцем Вишну, и в последнюю минуту, вспомнив об этом, он воззвал к Богу, назвав его имя. Появился Вишну в обличии могущественной кавалерии и отрубил аллигатору голову острым как бритва диском Сударшан.
Я встретил одного выходца с Запада, здесь он стал саньясином, получив посвящение от самого Муктананды. «Как только я увидел Бабу, — сказал он, — я понял, что встретил своего гуру. До этого я странствовал по Индии в течение восьми лет. Если место мне не нравилось, я просто вставал и уходил. Но я знал, что однажды остановлюсь и скажу: вот оно. Он спросил, не был ли я садху, и я сказал „да“. Тогда он спросил, не хочу ли я получить инициацию. Он дал мне саньясу, а я отдал ему свою жизнь».
Мы вместе отправились к самадхи Бхагавану Нитъянанде, самому почитаемому гуру. Говорят, что он родился под деревом и вырос из его ствола. Он был слишком хрупким, и тогда его вскормили мясом птицы, что помогло ему прочно встать на землю.
В храме пели бхаджаны через громкоговоритель. Рядом стояла величественная статуя Нитъянанды с обритой наголо головой и бочкообразным телом, он изображался сидящим в позе лотоса. Сюда приходили паломники и делали подношения в виде денег и венков из цветов. В храме раздавали освященную еду — сладкую теплую халву. Ее подавали на тарелках из листьев. После мы пошли к естественным горячим источникам. Воду из них набирали в три гигантских цистерны: в одной вода была теплой, в другой горячей, а в третьей можно было свариться. Я долго отмокал в этих купальнях, смывая с себя въевшуюся за несколько недель пути пыль.
Магазины уже закрывались. Я в одиночестве шел в сторону ашрама. В конце улицы еще работал универсам. Радио внутри звучало так громко, что оглушало своими шумными трансляциями тихие ночные улицы священного города, в котором электричество было, мягко говоря, неуместным.
...Сначала я не поверил. Этого не могло быть — не здесь, по крайней мере. Песня звучит где-то в другом месте, возможно даже, она всплыла в моей памяти. Но когда я вошел в магазин и прислушался, я узнал ее. Прямо посреди Ганеша Пури, пока деревня спала и веки Великой Матери Индии опустились, пока коровы лежали вдоль дорог, а чайханы и храмы опустили свои занавеси, пока брамины из высшей касты укрывались москитными сетками, пока источники были спокойны, а пыль неподвижно лежала на дорогах, храмы спали в тишине, а рикши, велосипедисты, машины и буйволы лежали без чувств — в этот самый момент радиоволны пронзали эфир, объявляя то ли о неизбежности западного вторжения, то ли о том, что Великая Мать все примет. Я стоял посреди ночной тишины и слушал «Shes Got Bette Davis Eyes».
*Ступенчатая пристань и традиционное место для омовений.
**Слава.
***Буквально — «поле»; поле деятельности; сфера жизни и деятельности.
**** Ответвление кришнаизма.
***** Духовный учитель и практик, Мастер.
****** Место поклонения у воды.
*******Ocimum tenuiflorum; О. sanctum (лат.)
********Место захоронения праха святого и поклонения ему; также состояние слияния с Высшим сознанием.
******** Храм.
******** Луна.
******** Наставники.
******** Бобы, чечевица или горох.
******** Монах, часто странствующий.
********Личное божество-покровитель.
********Царство бога Вишну.
********Атман — «противоположный тьме», сияющий; дух, бессмертная вечная душа.
Глава 4
ЕГИПЕТ И ИЗРАИЛЬ
Я возвращаюсь назад к корням — к источнику, в Африку. Где зародилась жизнь, откуда возникли все нации и культуры. После приземления в Каире во мне возрастало новое ощущение ожидания. Возможно, возникло оно еще на автобусной остановке, когда я, заглядывая кому-то через плечо, прочитал газетный заголовок: «Египет после Садата». Это ожидание было связано с проникновением в мир истории — мир, с которым я, так или иначе, был тесно связан. Индия представлялась мне отсюда панорамным сном, обширные фрагменты которого остались запечатленными в закоулках сознания. Что произойдет с этим сном, с великими мифами и богами прошлого, когда технологии современности окончательно обоснуются на индийской земле?
Однако и мир истории был всего лишь одной из форм мифа, признанной большинством. Что произойдет с его корнями? Останется ли Святая земля святой, или наследие древности окажется стертым с лица Земли? Смутные предчувствия. Я не знал, чего ожидать. Я не понимал, какие чувства испытаю во время этой встречи. Как бы то ни было, культуры эти лежат глубоко в основании нашего уклада. Пирамиды возвышаются на долларовых банкнотах, возрожденные христианские движения поддерживают мессианскую суть Израиля. И существует все это на фоне всевозрастающей угрозы вспышки насилия и разрушений: над Ближним Востоком навис рок самоубийства.
Великие пирамиды
Египет все свои усилия тратил на то, чтобы удержать правительство, которое так и норовило развалиться на части. Повсюду рядом с фотографиями убиенного Анвара Садата были расклеены фотографии нового президента. Солдаты со штыками стояли за мешками с песком, провожая ничего не выражающим взглядом толпы идущих мимо людей. Таков был Каир в эти дни.
Но никто, казалось, этого не замечал: женщины с закрытыми лицами, торговцы одеждой, водители и бродяги — все они жили в каком-то ином измерении, и его не касались новостные выпуски и политические преобразования. Грязные дороги с их нищими обитателями держались на отдалении от Шератонов и Хилтонов. Внимательный взор увидит в Каире два разных Египта.
Другой Египет был полной противоположностью современной своей ипостаси. Память о нем была практически потеряна, и выглядел он почти так же абсурдно, как лазерное шоу на вершине пирамид. Именно этот Египет я искал, и я не был одинок в этом. Прорвавшись через плотные ряды уличных торговцев, пытавшихся всучить мне «восточный парфюм», я сумел найти маленькую комнату. Затем я отправился на улицы старого города и посетил несколько коптских церквей, окруженных городской суетой, шумом и животными. Меня сопровождал молодой немец по имени Андреас — он то и дело вытаскивал меня из церквей обратно на улицу. «Ты должен увидеть Бога среди мусора», — говорил он.
На следующий день я сел в переполненный автобус и отправился в Гизу. За отелями, световыми шоу, заваленными мусором улицами и погонщиками верблюдов, на угловатом горизонте пустыни стали вырисовываться величественные и устрашающие силуэты пирамид. Солнце стояло в зените, и каменные башни отбрасывали на рябой песок длинные тени. Их присутствие мгновенно захватило мой ум.
Я уже видел пирамиды раньше. Однажды у меня был стыковочный рейс в Каире, и вместо того, чтобы ждать всю ночь в отеле, я взял такси и поехал к пирамидам. Ночь я провел в песчаных дюнах. Погонщики верблюдов предлагали за умеренную плату поднять меня на стену. Когда я вежливо отказал им, они предложили мне гашиш. Отказа они не принимали в принципе, и всю ночь вертелись поблизости, наблюдая, как я медитирую, пытаясь пробудить в сознании образы Атлантиды. В общем, для них я был очередным ненормальным иностранцем.
Дома друзья-целители много рассказывали мне о пирамидах. От них я узнал, что необходимо сорвать особые эфирные печати, прежде чем входить в палаты фараона, они же поведали мне об особом значении каждой из стен, обращенных к четырем сторонам света. Я охотно верил во все это, и все же за многочисленными спекуляциями по поводу былой славы оставалось нечто более таинственное, внушающее трепет. И это чувство опять возникло, когда я вновь оказался здесь.
Каменные головоломки посреди пустыни, геометрические тайны неизвестных эпох, пирамиды несокрушимо возвышались над океаном песка. Всю ночь я пролежал на песке, наблюдая мерцания и вспышки, улавливая очертания Атлантиды и отчетливое ощущение воды. Но ворота были заперты. Час еще не настал. Древняя цивилизация была погребена под толщей песка времени.
Я вошел внутрь пирамиды Хеопса и медленной поступью направился по узкому проходу к палате фараона. Здесь явно ощущалось присутствие стражи, охраняющей древнюю тайну, все еще не доступную мне. Я оказался внутри большой пустой комнаты, выложенной массивным серым камнем. В конце палаты, у западной стены, стоял открытый саркофаг. Кроме меня здесь было еще несколько туристов, включая двух молодых людей с широко распахнутыми глазами — они что-то еле слышно напевали и слушали, как звук возвращается к ним многократно усиленным эхом. Дышалось здесь тяжело, воздух был сильно разрежен. Я отошел в дальний угол погруженного во мрак зала, сел на холодный каменный пол и начал медитировать. Энергия этого места моментально настраивала любого.
В ощущении непрерывного присутствия иного сознание мое расширилось. Внимания едва касались проявления внешнего мира. Я, конечно, слышал объявления смотрителей о том, что пирамида закрывается и нужно уходить, о все мое существо было приковано к ее центру, и я оставался в неподвижном спокойствии. Где-то в глубине сознания все же мелькала мысль о том, что в нужный момент я вернусь в обычное состояние и уйду. Но еще глубже залегала уверенность, что я никогда не уйду отсюда.
Я до сих пор точно не знаю, как это случилось. Я неподвижно сидел и слышал, как за спиной чей-то голос сообщал посетителям, что пирамиду вот-вот закроют на ночь. В определенный момент я поднялся и отошел к небольшому углублению в стене, ведущему вверх. Двери уже закрыли, здесь было тихо и спокойно.
Я вернулся в палату фараона и принял исходную позицию. Тишину нарушил резкий, внезапный шум. Я вздрогнул и открыл глаза, но не увидел ровным счетом ничего. Свет погас. Пирамида была закрыта. Стало так темно, что я не видел даже собственного носа. Внезапный страх заставил меня ощупывать тьму перед собой — мне почудилось, что я ослеп, потому что не видел даже своих рук. Света не было. Я начал тереть глаза, и лишь когда возникли естественные световые пятна, страх слепоты начал отступать.
Я понял, что остался здесь на всю ночь. Осторожно откидываясь назад в надежде опереться на стену, я наткнулся на какой-то предмет. Дальнейшее исследование показало, что это мой рюкзак. Я нашел завязки и открыл клапан, достав из него одеяло и какую-то одежду. Похлопав по боковым карманам, я нашел спичный коробок и зажег одну спичку. Подергивающийся свет ее пламени был для меня успокаивающим подтверждением того, что я действительно не ослеп. Я огляделся и узнал палату фараона. У меня осталось всего две спички, и я решил сохранить их, когда первая погасла.
Спертый воздух стеснял дыхание. Я попытался сделать несколько глубоких вдохов. Это не принесло облегчения, и меня вновь охватил страх. В уме с безумной скоростью закрутились мысли. Я все это затеял сознательно и получил то, что хотел. Пути назад не было, и во мне стало нарастать чувство свершившейся роковой ошибки. Страх сковывал тело.
Я прислонился к стене и принял устойчивое положение для медитации. И тогда пришло осознание своего уединения во всей его полноте. Толстые стены не пропускали внутрь ни единого звука. Ни лучика света. Не было видно абсолютно ничего. И дышать становилось все труднее и труднее. Возможно, двери палаты фараона были закрыты так плотно, что сюда не проникал даже воздух. Но я пытался медитировать.
В тотальной тьме и абсолютном одиночестве щупальца страха обретали силу, обвивая мое подсознание и тело. Сначала меня привела в ужас нехватка воздуха, но это было только начало. Страх становился таким сильным, что сдавливал живот, словно туго затянутый ремень. И страх этот был мне знаком, я знал его очень-очень давно. Он был так стар, так тщательно и глубоко зарыт, что я совсем позабыл его. До этого момента.
Сначала меня охватил ужас смерти. По мере его нарастания я все больше убеждался в том, что больше никогда не выйду наружу. Во всяком случае, живым. Скорее всего, умру здесь от удушья. Возможно, некая сущность, издревле обитающая здесь, прикончит меня в этой тьме. Кто об этом узнает? Ведь никто не в курсе, что я здесь. А сколько незаконченных дел осталось в моей жизни? Что будет с моими друзьями, семьей? Пока мысли тонули в этих переживаниях, в глубине моего существа возникал еще более сильный, более животрепещущий страх. Это был идеальный, фундаментальный ужас. Я полностью утратил чувство себя, потерял все внутренние ориентиры — словно был растянут между двумя мирами, и слабое дуновение ветра могло разорвать меня в клочья.
Я долго не сталкивался с этим страхом. Может, лет десять назад во время неудачного наркотического опыта я встречался с ним, но только в этот момент я осознал, что он всегда существовал внутри меня. Я увидел себя пересекающим роковую линию, разделяющую необратимое безумие и полное освобождение. В лабиринте ужаса я наткнулся на воспоминание о двадцатипятилетнем человеке из Вриндавана, которого забрали в психиатрическую лечебницу сразу после того, как он провел ночь в склепе Нити Бандха, находившимся под запретом. Он замыкал длинную вереницу помешательств и смертей, связанных с проникновением в этот склеп. Через несколько дней этот человек умер. Я увидел себя, скрученного и искаженного гримасой безумства, на койке какой-то психиатрической клиники под наблюдением бородатых людей в очках и белых халатах. Я чувствовал, как демоны с кривыми лицами просачиваются сквозь стены, оглашая внутреннее пространство пронзительным животным смехом, раскаты которого накатывались на меня волнами панической дрожи.
Я был в ловушке, взаперти. Но я не имел права потерять над собой контроль. Тогда меня заживо сожрали бы, четвертовали, замучили пытками. Я зажег вторую спичку. Ее огонек убедил меня, что я все еще могу видеть. Оглядывая зловещую палату, я попытался прийти в себя. Оставалась только одна спичка. Вряд ли ее пламени хватило бы, чтобы найти выход отсюда. Я был вынужден принять этот неутешительный факт. Мое паломничество, вся моя жизнь — они привели меня сюда, в это темное замкнутое пространство, наполненное моим глубинным страхом. Он был ядром моей жизни. Я постарался настроиться на глубокую медитацию и не сдаваться.
В состоянии полного одиночества все перевернулось с ног на голову. Я чувствовал, будто давно умер, оставив свое тело со всеми его привязанностями далеко позади, а сам продолжал плыть сквозь тьму пространства. Отдельная жизнь казалась мне не важнее песчинки на пляже, а существование в целом представлялось всего лишь тусклым огоньком. Теперь я оказался перед вратами ада, и отчаянный страх остаться здесь навсегда схватил меня за горло.
Ум судорожно искал, за что бы ему зацепиться, за некое деяние, совершенное в обычной жизни, которое вернуло бы мне уверенное чувство реальности. Я чувствовал, как меня сдавливало удушье. Все мои медитации, все молитвы и даже многократное повторение имени Бога — все это совершенно ничего не значило здесь. Казалось, они причиняли только больший вред. Я судорожно перебирал все свои благие поступки, копался в опыте и выведенных из него уроках, но все это растворялось. Все было только тенью реальности, словно сон. Дыхание мое стало свинцово-тяжелым, каждый глоток воздуха давался через силу. Я продолжал борьбу. Я не собирался терять рассудок, безумие не входило в мои планы. А страх все возрастал, и его господство надо мной стало почти безраздельным. Тело покрылось потом, а в голове зловеще звучало: «Ад, ад, ад, ад, ад!..»
Я чувствовал, что не выживу. И почти опустил руки. В глубине, в самом центре моего существа что-то надломилось — с треском, словно ветвь дерева. Я умирал... Медленно погружался в море вслед за Атлантидой, и не было никого, кто мог бы помочь — не было даже Бога! Ветвь отломилась от дерева. Хватка ослабла, пальцы разомкнулись, и все что осталось — это падение, бесконечное свободное падение...
Внутри поднимались испарения спокойствия и умиротворения. И это чувство отличалось от умиротворенности, окружающей алтарь. Не было оно похоже и на путь любви, которым идут святые паломники. Оно исходило из самого сердца, ароматом этого чувства делишься с другими в течение жизни. Клубы этого чувства поднимались на поверхность из разверзшейся внутри бездонной глубины, и страх постепенно рассеивался. Все это происходило само собой, без моего участия — я был всего лишь сторонним наблюдателем. В этом тумане я думал только об одном: если мне предстоит снова обрести плоть и вернуться во внешний мир, самым важным делом моей жизни станет только эта безусловная любовь.
Страх отступал под натиском этого чувства. Он испарялся, а я обретал чувство гармонии и свободы, плыл в океане абсолютной тишины, в полной темноте. Вместе со смертью пришло освобождение от бремени всей жизни. Я оставался наплаву, плыл по течению в безмолвной тьме. Темнота была настолько всеобъемлющей и абсолютной, что ей не требовалось даже небесного света. Тишина была такой глубокой, что слышен был ее особый, звенящий звук. Сопротивление отступило. Я смиренно тонул — все глубже и глубже.
Я не слишком хорошо помню, было ли там еще что-то. В какой-то момент я ощутил, как мое тело вновь собрали где-то на эфирном уровне, словно до этого его разобрали на атомы, чтобы воссоздать снова. Затем я испытал новое впечатление, словно некий радиосигнал был послан с Земли в глубины космоса. Сигнал этот имел утонченную сексуальную природу. Я испытал его в области гениталий, как будто кто-то обвязал мое эфирное тело веревкой и тянул вниз. Я понял, что тянула меня Земля, и тяга эта была заложена в атомах моего тела. Я уже испытывал это ощущение раньше. Казалось, что под действием неведомой силы я снова перерождаюсь для жизни на Земле, для нового опыта, новых знаний.
Я почувствовал, что постепенно поднимаюсь из глубин этой бездны: холодный камень, разреженный воздух, темнота, рюкзак и полотенце — все это становилось более и более осязаемым. Найдя на ощупь коробок, я зажег последнюю спичку. Тихая, безмятежная палата фараона была на месте. Я уснул на полу.
Но вот послышался звук, а вскоре зажегся и свет. Я не верил сам себе, и понял, что полностью утратил чувство времени. Затем поднялся и долго ходил, пытаясь собрать себя воедино. Уложив вещи в рюкзак, я двинулся по освещенному коридору. Сквозь открытые двери внутрь пирамиды лился яркий свет. День был в разгаре.
Египетский охранник, вошедший для дневного осмотра, посмотрел на меня так, словно я был призраком. Он забормотал: «Полиция, полиция».
«Нет, не надо полиции», — начал я успокаивать его. Но когда я проходил мимо, он снова взглянул на меня: «Деньги, деньги», — проговорил он, протягивая руку. Теперь-то я точно был уверен, что вернулся. Я порылся в карманах и извлек пару скомканных банкнот, всучил ему и вышел на пустынные просторы, залитые утренним солнцем. Воздух был таким чистым и свежим, что обрел для меня совершенно иное качество. Сыпучий песок играл на солнце. Проходя мимо Сфинкса, я подумал о том, что совсем недавно восстал из мертвых, но почувствовал себя слишком утомленным, чтобы размышлять обо всем этом. В тот момент мне хотелось только одного: вернуться в свой маленький номер на одной из улиц Каира и забыться в глубоком сне. Я шел мимо погонщиков верблюдов и многочисленных торговцев, через вытянутый овощной рынок и, наконец, оказался на главной дороге, где и поймал автобус до города.
Вступая на Святую землю
Граница с Эль-Аришем была на замке. Обычно я снимал маленькие одноместные номера, но в этот раз внутренний голос подсказал мне снять комнату побольше: было предчувствие, что кто-то может прийти, чтобы разделить со мной кров. В городе не замечалось никакой напряженности. Я наблюдал за движением пешеходов и опытных путешественников с обветренными лицами верхом на верблюдах. По вечерам на небольших улицах мужчины выкатывали деревянные тележки с чашами, полными ароматного кус-куса. Из мечетей, стоящих на окраине деревни, доносилось пение, а сквозь затянутое облаками вечернее небо пробивался лунный свет. В отеле мужчины в мусульманских одеяниях сидели возле телевизора, потягивая черный чай, и смотрели старые американские фильмы, которые показывали здесь обязательно с титрами на иврите и арабском. Мне было бы интересно узнать, о чем спорят эти люди.
Я спустился в ресторан и заказал двенадцать жирных фалафелей и немного тахини, заплатив всего пятнадцать центов. Кто-то сидел с хукой, или кальяном, кто-то бесцельно бродил по улице. Что вообще было нужно людям? Немного пищи, крыша над головой и верные друзья. Мне это очень нравилось. Чай, скатерки, масло, люди на улицах, арабская музыка, море, воздух — все здесь было на своем месте. Чаепития и поедание фалафелей — этими занятиями исчерпывалась вся местная деятельность.
В столовую вошел человек средних лет, в очках и с ослабленным галстуком, похожий чем-то на Менахема Бегина. Он о чем-то непринужденно поговорил с официантами, а затем подошел ко мне и спросил:
— Вас зовут Рик?
— Иногда, — ответил я. — А вас?
Он назвал свое имя, совершенно непроизносимое, и сообщил, что поселился в один со мной номер. Больше в отеле мест не было. Он следовал из Александрии в Тель-Авив. Мой новый знакомый весь день ехал через пустыню в надежде достичь границы, но машина сломалась прямо на дороге. Потом он долго рассказывал о своем текстильном бизнесе и поломанной американской машине. Оглядев ресторан, он сказал, что многое изменилось после войны, во время которой он служил капитаном в синайской армии. С этого момента я начал называть его для простоты просто «капитан», или «кэп». Внезапно он прервал свой рассказ, взглянул на меня и спросил, откуда я приехал. Я сказал, что еду из Индии.
— Индия! Что такой миловидный еврейский мальчик делал в Индии?
— Да я и сам не знаю, — отвечал я. — Сам пытался выяснить это в течение последних лет десяти.
Мы продолжали говорить — точнее, он продолжал говорить, пока я допивал очередную чашку чая, закусывая остатками тахини с питой. Он спросил, куда и как собираюсь я поехать в Израиль. Я планировал доехать на автобусе до Нетаньи, где жила сестра моего друга. Услышав это, он предложил подвезти меня следующим утром до Тель-Авива.
Рано утром мы были уже на границе. Египетские пограничники орудовали с нашими паспортами так же ловко, как и своими винтовками. Казалось, их мало что действительно волнует, за исключением, пожалуй, пяти фунтов, которые должен заплатить каждый, кто покидает страну.
— Только подумать! — причитал капитан. — У них еще хватает наглости просить денег за то, что ты уезжаешь из их страны!
На израильской стороне все было организовано гораздо сложнее, нужно было заполнить десятки бланков, пройти дюжину контрольно-пропускных пунктов.
— Они опасаются террористов, которые проникают сюда тайно, прямо как ты, — объяснил кэп. — Я с ними поговорю. — Он подошел к женщине в униформе цвета хаки с автоматом наперевес и объяснил, что я не представляю угрозы.
— Он еврей, я за него ручаюсь. Он едет к своей тетке в Нетанью. — Через пять минут мы оформили все бумаги и вскоре уже мчались по автостраде через Синай.
Пустыня была действительно пустынной и совершенно неплодородной. Время от времени на обочине появлялись раскуроченные взрывом ржавые танки, прикрытые пустынным хворостом. Они служили немым напоминанием о том, что люди сделали с этими землями. Тем не менее, в воздухе витало ощущение реальности всей этой истории. Когда мы пересекли границу и оказались-таки на территории Израиля, по моим щекам покатились слезы, а сердце забилось в трепетном волнении. Я чувствовал, что возвращаюсь домой после долгого путешествия, в место, где завершается история.
Всю дорогу кэп говорил без остановки.
— Билет на такую познавательную поездочку ты не получил бы ни за пятьдесят, ни даже за сто долларов! — говорил он. И это было чистой правдой. Бывая здесь прежде, он останавливался в каждом городе, в каждом поселении, мимо которых мы проезжали, и теперь рассказывал их истории. Он много говорил о войне, о внезапном нападении на Израиль во время праздника Йом-Кипур, называя ее «Войной Судного дня», рассказывал о своем участии в ней.
— Я принял участие во всех войнах, начиная с 1948 года, — продолжал он. — Когда я приехал сюда из Израиля, я сохранил свою фамилию. Здесь все меняли свои имена на еврейские, но я был последним и единственным представителем своей семьи. Остальные погибли во время холокоста. Но своим дочерям я дал еврейские имена... Нет, я не верю в Бога... Как можно верить во все это... но... — он сделал паузу, — я верю в Израиль. И кроме как для Бога, не могло быть Израиля. Я тебе вот что скажу, Рик. Каждый отдельно взятый человек, работающий и живущий в Израиле, такой как я, например, — он один стоит десяти ваших бруклинских рабби, которые только и делают, что молятся денно и нощно.
Пока он говорил, мы проехали мимо поселения, окруженного небольшой лесополосой и фермами.
— Смотри! — кэп указал на вспаханные поля. — Мы заставили пустыню цвести! Так чего же они хотят от нас? Арабы — они такие же, как мы, они тоже семиты. Мы можем помочь им. Мы можем построить больницы, обучить их ирригации — мы можем дать им гораздо больше, чем русские. Кстати, помнишь тех ребят в ресторане? Я познакомился с ними в Тель-Авиве. Они рассказывали мне, что хотели бы вернуться сюда. Ты сам видел, им там не найти приличной работы. Мы не имеем ничего против них. Мы и они — один народ, семиты. Поговори с простыми арабами. Они не питают к нам никакой ненависти. Так кто же начинает все эти войны? — он посмотрел на меня пылким взглядом истинно верующего человека. — И знаешь? Так я тебе скажу. Это политики. Ты думаешь, люди хотят увидеть своих детей в крови?
Кэп продолжал болтать.
— Во время войны, пересекая Суэц, мы загнали в пустыню двадцать тысяч египетских солдат. Они были совершенно отрезаны от пищи и питьевой воды. Их конец был всего лишь вопросом времени. Вмешался Киссинджер. Он предложил в этот раз сохранить им жизнь и дать свободу в надежде на то, что они, наконец, успокоятся. Скажи, ты когда-нибудь слышал или видел нечто подобное? Отпустить врага, который только что напал на твои земли! Кто еще, кроме евреев, мог бы отдать земли, завоеванные ценой своей же крови! Мы отпустили их. Мы же нашли там нефть, но отдали все это ради мира.
Мы продолжали ехать через пустыню.
— Какая у тебя фамилия? — спросил капитан. Когда я назвал ее, он стал рассказывать мне о моей родословной, о том, откуда были родом мои предки, чем они занимались. — Видишь ли, эти имена не были настоящими именами членов диаспоры. Они говорили на идише, чтобы никто не понял их. Немцы, поляки... все правители давали евреям имена в соответствии с их профессиями, чтобы обложить их налогом. Сильверман, Фишман, Тэйлор и так далее. А раз уж ты приехал в Израиль, ты найдешь свое настоящее имя.
За время поездки я узнал практически всю историю еврейского народа и множество других правдивых фактов. Кэп высадил меня на автобусной остановке. Он увидел, что я еще не разменял деньги, и дал мне несколько шекелей, которых мне хватило не только на билет, и отказался принять взамен американские доллары. Мы пожали друг другу руки и попрощались.
В Нетанье я рассказал Глории, сестре моего друга, об этой поездке.
— Он наверное все дорогу болтал, как заведенный? — спросила она.
— Так и было, — подтвердил я.
— Ну, приготовься, — предупредила она. — Ты еще не раз услышишь эти истории.
Несколько дней я жил в ее доме, и почти каждый день после обеда ездил в Тель-Авив. Этот город очень сильно напоминал мне бруклинский колледж, с одним существенным отличием. Здесь все ходили с автоматами. Если бы парни в бруклинском колледже хотя бы издалека увидели автомат, они, наверное, упали бы в обморок. А здесь все были военнослужащими.
Глория рассказала, что во время «Войны Судного дня» из синагог выходили мужчины, услышав свои кодовые имена по радио. Во время Йом-Кипура запрещено даже машину водить, но нападение было таким внезапным, что все спешили к месту событий, как умалишенные. Говорят, что в первый день войны в дорожно-транспортных происшествиях погибло больше людей, чем на поле боя. Солдаты торопились на свои позиции.
— Мы потеряли пять тысяч мальчишек, — сказала она. — Ты знаешь, что это значит для страны, которая по размерам не дотягивает даже до штата Делавэр?
Глория показала бомбоубежище в подвале. По закону в каждом доме должно было быть такое укрытие. Вечерами дети приходили из школы и смотрели американские телешоу. На стене в гостиной я заметил фотографию молодого кудрявого блондина. Рядом с ним висели два армейских жетона и автомат.
— Это мой муж, — сказала Глория. — Его убили под Суэцем. Они прислали мне его винтовку.
Старший сын ее уже почти достиг призывного возраста. Все жители были военнообязанными, и складывалось впечатление, что они готовы сражаться до последнего.
В Хайфе я повстречал Мишель, свою давнюю подругу по французской ферме. Сейчас она жила в небольшой общине недалеко от горы Кармил. Когда-то мы были близки, но Мишель решила стать благочестивой и уехала на Святую землю. С тех пор мы испытывали некоторую неловкость в общении. Мы поддерживали контакт, но старались соблюдать дистанцию, чтобы не доводить дело до скандала. Обычно надежным барьером служил Бог.
Эта встреча не была исключением. Меня пригласили в «ашрам», и предложили остаться с «братьями». Ко мне относились хорошо, но выдерживали при этом некоторую дистанцию. Глаза Мишель все еще излучали свет, в ее образе чувствовалась определенная святость. Она уже три года жила здесь и неплохо ориентировалась — она составила для меня целый список мест, которые следует посетить в Иерусалиме. Пару раз мы начинали серьезный разговор, но заканчивался он всегда сплошным расстройством. Иногда я брал ее за руку и молча смотрел в глаза. Все это было слишком опасно для святой. Кто знает, что могло произойти?
Религиозные организации по всему миру поддерживали всевозможные конференции и «диалоги», но каждый раз, когда пытаешься поделиться чем-то вещественным и осязаемым, таким как плоть, сталкиваешься с невозможностью сделать это. Встреча и диалог возможны только при условии хотя бы частичного отказа от своей позиции. Но в Израиле существовало множество группировок, сект и объединений, и каждый запирался в неприступной крепости, выстроенной из своих доктрин. Религиозные конференции ничем не отличались от дипломатических игр за круглым столом по поводу ядерного оружия. В результате создавались структуры, помогающие хоть как-то приспособиться под взаимные требования. Все это напоминало, скорее, неуклюжее представление на сцене с умирающими актерами.
Я решил забыть обо всем этом и получать удовольствие от того, что есть. Дом располагался недалеко от моря. Воздух был чист и свеж. Мне требовался отдых. Я собирался провести здесь несколько дней перед поездкой в Иерусалим и не думал, что меня здесь побеспокоят.
На следующий день Мишель вместе со мной отправилась в Назарет. Мы посетили мессу в базилике Благовещения, и весь оставшийся день провели на мощеных камнем улицах, посетили Колодец Марии и многие другие святыни. Разумеется, каждая секта утверждала, что именно ее святыня была подлинным местом богоявления.
Вернувшись в Хайфу, мы посетили пещеру, в которой, по преданию, пророк Илия укрывался от Ахаба, а потом посмотрели на гробницу Бахая. На следующий день мы отправились в Галилею, где Иисус общался с народом. Мы сидели молча, и в этой тишине не было никаких разногласий. Но вскоре тишину стали нарушать прибывающие один за другим автобусы с американскими евангелистами. Они собрались на горе, пели песни и слушали проповеди о хлебе и рыбах, о грядущем конце времен. Было что-то нестерпимо противоречивое в этой картине, сотканной из идеально белых рубашек, затянутых галстуков и славных песнопений, растворяющихся в воздухе. Возможно, дело было в гипертрофированной вере в воскресение, они как бы говорили Ему: «Привет, как дела? Ты спасся?» Но я быстро осознал, что дело во мне — это моя проблема, и противоречие порождено исключительно моей реакцией. Я повернулся к Мишель. Ей, похоже, тоже было немного не по себе, несмотря на все ее благочестие и почитание христианского самосознания.
На обратном пути мы говорили о людях и местах. Мишель то и дело случайно касалась меня, но быстро отстранялась.
— Иногда, во время молитвы или в церкви возникает такая тишина, что все останавливается, — она выдержала короткую паузу. — Как бы высоко я ни взбиралась, я никогда не оставляю Иисуса.
Мы сидели молча. Автобус проехал мимо горы Фавор и повернул в пустыню.
Знал ли бедный назарянин, во что все это выльется? Идолы Запада, переписанные тексты, политическая истерия...
— Когда доберешься до Иерусалима, — сказала вдруг Мишель, — обязательно прогуляйся под стенами Старого города ночью, когда никого нет. Там можно по-настоящему его почувствовать.
Иерусалим
Мы ехали по пустыне. Полумесяц сиял в идеально синем ночном небе, на котором начали появляться первые звезды. В автобусе мы потягивали горячий чай и смотрели на бескрайние горизонты дюн. На просторах бесплодного песчаного ландшафта возникали время от времени военные сооружения. Когда мы подъезжали к городу, сердце мое забилось от волнения, а в памяти всплыли слова: «О, Иерусалим, Иерусалим — город, в котором убивают пророков и побивают камнями посланцев».
Стены Старого города были хорошо видны даже ночью. Они возвышались над холмами Иудеи, а за ними виднелась величественная мечеть Омара, на месте которой раньше стоял Великий храм Иерусалима. Как бы простой человек описал это зрелище от лица Бога? «Сколь долго еще буду собирать я вместе детей своих, как куропатка собирает свой выводок под крылом своим?» В этот момент я ощутил, что достиг всей полноты своей жизни. Теперь я был дома — в святом городе, под крылом у Бога в граде Господнем, в приюте искупления.
Улицы Старого города были до боли знакомы мне, словно моя душа ходила прежде по ним и даже слышала шаги Мастера. Все это было более чем реально. Все это уже случалось прежде на этой земле, в этом городе. Он ходил по этим улицам, общался с народом. Иерусалим был местом, в котором воедино сливалось все — купола и кресты, полумесяцы и звезды.
Игривый танец Кришны, первобытная ясность сидящего Будды, форма и пустота... Иерусалим проявлял себя иначе. Он был центром мира, в котором Бог явил себя человечеству. Но сейчас этот дом был разорен, забыт. И кто придет сюда от имени Бога теперь?
У Ворот Яффы я пал ниц и целовал землю. Наконец-то я пришел в Иерусалим.
На автобусной остановке мое внимание привлекло объявление о сдаче комнаты в одном хостеле. Я сразу понял, что именно здесь я и остановлюсь. Я пошел по узким улицам в сторону Дамасских ворот. Прямо за воротами ко мне обратилась молодая женщина. На ней были джинсы и синий плащ. Ее лицо, вкупе со взъерошенными волосами, выражало какую-то дикую решимость. Она сообщила, что ею овладел Святой Дух, она была спасена Иисусом Христом, и за это ее выставили из отеля. Поскольку денег у меня было немного, я сказал что-то вроде: «Не беспокойся, Господь не оставит тебя в нужде». Она гневно закричала в ответ: «Не смей поучать меня! Моими устами гласит сам Святой Дух, и он хочет, чтобы ты заплатил!» Она начала проклинать меня за то, что я американец, а потом принялась поносить всех постояльцев своего отеля. Я пошел прочь, испытывая сложный коктейль чувств из вины и смущения. Иисус говорил нам возлюбить ближнего своего, но когда пытаешься следовать этой заповеди, обычно тебя хватает не больше чем на десять минут. Я должен был дать ей что-нибудь или отвести куда-нибудь. Я вернулся на площадь, но ее уже не было.
Мне выделили одну из восьми кроватей, заполняющих практически все пространство погруженной в синий полумрак комнаты хостела «Палм». Женщины и мужчины — все спали, где хотели. Никому до этого не было дела. На щербатых стенах фойе висело послание, написанное крупным шрифтом: «Благословенны приходящие от имени Господа». На подоконнике лежали стопки бесплатных экземпляров Библии Гедеона.
Фойе было также и местом для отдыха. На регистрационной стойке стоял большой магнитофон, из которого вырывались звуки рок-музыки — играли песни группы «The Doors», и слышно их было даже на улице. Рядом сидели какие-то парни, курили и качали головой в такт музыке. Девушка за стойкой в рубашке с бретельками слегка пританцовывала. Остальные бесцельно входили и выходили. В углу стояла небольшая плита, на которой кипятили воду для чая. Здесь были представлены почти все национальности. Некоторые из этих людей устраивались на какую-нибудь работенку в госпиталь или хостел наподобие этого, и были полны решимости остаться здесь навечно. Слава Богу, здесь не было никаких проповедей. Снаружи тебя ждали сотни религиозных пророков и фанатиков, готовых наложить на тебя свои руки. В «Палме» все было спокойно.
Сквозь окно хостела пробивался свет утреннего иерусалимского солнца. На выстроенных в ряд койках спали люди. Я на цыпочках, чтобы никого не разбудить, пробрался в душ. Душевая представляла собой небольшую продолговатую комнатку, выложенную кафелем тусклого желтого цвета, со щербатыми стенами, подпирающими высокий потолок. Полиэтиленовая занавеска, совсем изорванная, неуверенно висела на перекладине, которая, казалось, рухнет в любую минуту. Нащупывая зубную щетку, я решил взглянуть, нет ли трещин на зеркале, висящем на стене, вдруг почему-то вспомнив, что смотреться в разбитое зеркало — дурная примета. Рука моя соскользнула и... слегка задетое зеркало тут же упало на кафельный пол, разлетевшись на тысячи мелких осколков.
Все утро я размышлял о разбитом зеркале. Что бы это могло значить? Если верить приметам, то впереди меня ждали семь лет неудач. И тут же мысли о болезнях, несчастных случаях, смерти, неудачах и тому подобных невзгодах стали чередой проплывать в моем сознании. В конце еврейской свадьбы всегда разбивают стекло в память о темной стороне жизни, о разрушении храма в Иерусалиме, как бы напоминая, что и твое собственное стекло вскоре разобьется.
Днем я отправился к Западной стене, к «Стене Плача», и стоял там в окружении многочисленной толпы, слушая молитвы и душеизлияния. Длиннобородые хасиды и ортодоксы, одетые в черные костюмы и широкополые шляпы, раскачивались взад-вперед перед последним бастионом старого храма, произнося молитвы, звук которых сливался в монотонный стон:
Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал, как вдова; великий между народами, князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников, и не нашел покоя; все, преследовавшие его, настигли его в тесных местах.
Плач Иеремии
Я поднялся по ступеням наверх к тому месту, где раньше стоял Великий Иерусалимский храм, а теперь на его месте стоит мечеть Омара. Говорят, только мусульманин может войти в мечеть. И тогда я стал мусульманином, и вместе с другими паломниками преклонил колени на коврике, совершая молитву. Позже я уединился и любовался оливковыми рощами Иудеи. Скала, сцена жертвоприношения Исаака, разбитое зеркало, сломанная стена, сгоревшие крыши и башни — все это наводило на мысли о предстоящем конце мира, погибающего в очередной религиозной войне. «Ты не последовал моему завету, и каждый, творящий зло, нечестив пред лицом Бога». Сбудутся ли древние пророчества? Прольет ли Бог свой гнев на земли Израиля? Будет ли осуждена земля и все живущие в ней? Образ разбитого стекла прочно засел в моей голове.
Воздух базаров Старого Иерусалима был пропитан густым ароматом чая и дымом. Арабы продавали ткани и сувениры западным туристам, но без особой суеты: они медленно пыхтели трубками своих кальянов, прислонившись к тонким стенкам своих лавок. Кажется, никого здесь не беспокоило, кому сегодня принадлежит этот город. Вдоль выкопанных валунов на Крестном пути шли христианские паломники из Европы. Респектабельные и хорошо одетые, они следовали по четырнадцати остановкам, которые Христос совершил во время своего крестного хода. А я подумал, что мог бы навечно остаться здесь, посвятив себя одному-единственному занятию... чаепитию. Я выбросил из головы осколки разбитого стекла — все до последнего. В конце концов, что такого могло произойти со мной, чего еще не случалось с этим городом? Я сделал еще глоток чая, дополнил его глотком свежего воздуха, в котором угадывались самые разные ноты базарной жизни. В этот момент мне больше ничего не было нужно.
Пока любитель чая осознанно пьет любимый напиток, звезды и созвездия не имеют никакого значения. Зачем нужны все эти знамения, знаки и видения, когда можно просто идти по земле и свидетельствовать неимоверную зрелищность этого мира? Спрятанные за чадрами лица мусульманских женщин, бурная торговля, тряпки, овощи, масла и сыры, купола и склепы, руины тысячелетней давности, одежды, представляющие всевозможные конфессии, хаос и смятение — разве этого не достаточно? Я был готов отбросить все свои ожидания и предвкушения, и поселиться прямо здесь, за чайным столиком в Иерусалиме. В этом свободном потоке свою хватку ослабляли любые знамения, знаки, предсказания и писания. Здесь священным становилось все, абсолютно все.
Цитадель Давида
Высоко, на самой вершине Сиона, стоит цитадель Давида — высокая цилиндрическая башня, с которой весь Иерусалим виден как на ладони. Рядом с башней расположено каменное здание, в котором состоялась Тайная Вечеря. Примерно в пятидесяти футах от этой постройки возвышается длинная каменная стена. Сидя у этой стены, я наблюдал, как мимо проходили какие-то запредельные множества ортодоксальных евреев, одетых в черные одежды, с лицами, скрытыми за широкими полями шляп и длинными бородами. Одного из них я спросил, откуда они все идут, и он ответил, что в этом районе находится иешива диаспоры — талмудическая школа, основанная сразу после войны.
Вскоре молодой человек, которого я остановил, вернулся в компании еще нескольких людей. Они спросили, еврей ли я. Все это было весьма интригующим, я утвердительно кивнул. Но тут же я начал корить себя за согласие. Мне совсем не хотелось погружаться в это. Мне хотелось верить, что я все-таки достиг чистой универсальности восприятия, вышел за пределы всех обусловленных различий. И внутри меня начала расти стена сопротивления. Что это было — проклятие или благословение кармы? Наследственность, обстановка, возможность?.. Я знал, что внутри я не был ни одним из этих созданий. Но в моих жилах текла кровь прошлого, соединяя в своем потоке века.
Я сидел у стены и пытался защитить себя от давления со стороны этих странных людей в особенных одеждах. Один из них подошел и сел рядом со мной.
— Эй, чувствуешь, какая тут энергетика? — От удивления я даже слегка наклонился назад, посмотрев на него так, словно вопрошал: «Да кто ты вообще такой и откуда ты взялся?» А он продолжал спрашивать:
— Откуда ты, парень?
— Из Нью-Йорка, США, — ответил я.
— Где живешь в Нью-Йорке?
— В Бруклине.
— Где именно в Бруклине?
— В Бенсонхерсте.
— А точнее?
— Бэй Парквей.
— Да ну! А я с Бэс Авеню! Ты в какой школе учился?
— В школе Нового Утрехта.
— Утрехт! Я учился в Лафайете. Мы вам каждый год надирали задницу в футбол.
Все это начинало походить на полное безумие, особенно когда выяснилось, что когда-то я дружил с его кузиной, которая жила по соседству, и вообще у нас была куча общих друзей. Я удивленно хлопал глазами, глядя на этого человека в черном плаще и широкополой шляпе, рассказывающего мне о Бенсонхерсте. Я не мог более сдерживаться. Сбросив свои психологические доспехи, я взмахнул руками и спросил его, как ему удалось взобраться сюда, да еще и в таких одеждах.
— Я был на пути в Индию, — начал он. — Лет восемь назад. Я решил проехать через Израиль. Ну, ты понимаешь — Святая земля и все такое. Тогда это было легко. Границы с Ираном и Афганистаном были открыты, можно было легко пройти через них. Я думаю, билет на поезд из Стамбула до Нью-Дели стоил тогда баксов сорок. Однажды я поднимался прямо наверх, в полном одиночестве, — он указал пальцем на вершину, — и тут меня сразил свет. Он буквально убил меня наповал. Стрела света возникла совершенно из ниоткуда и пронзила меня насквозь! Я упал и сломал себе ногу, прямо здесь, — он показал голень правой ноги. — Тогда появились эти ребята из иешивы и отнесли меня к миквэ (резервуар для ритуального омовения и очищения от душевной нечистоты). Почти сразу нога моя излечилась. Ты же понимаешь, что я решил тщательно изучить все это. Тора — это наше наследие. Это самая таинственная книга из всех когда-либо написанных. Тебе тоже следует ознакомиться с ней. В конце концов, у тебя еврейская душа.
— Какая у меня душа? Да откуда тебе знать, кто я есть? — немедленно отреагировал я. Он улыбнулся так снисходительно, словно слышал все это и раньше. Как бы то ни было, мы уже успели проникнуться друг к другу доверием, и вообще — мы выросли в одном районе. Остаток дня мы провели вместе. При рождении его назвали Ричардом Гринфилдом, но сейчас его звали Рубен. В тот день он провел для меня увлекательную экскурсию по Сиону. Мы остановились у комнаты, в которой совершалась Тайная Вечеря, и Рубен рассказал, что однажды Папа Римский предлагал Рабби миллионы долларов за нее. Разумеется, Рабби не согласился.
Мы поднялись на башню, и сверху нам открылась удивительная панорама пустыни.
— Наверно, когда-то давно мы с тобой прошли долгий путь вместе. Мы были в пустыне, когда Моисей получил Тору, — сказал Рубен. Он говорил об этом так уверенно и даже торжественно, что было ясно: некоторые ортодоксальные мистические школы верят в реинкарнацию. Я начал подробно расспрашивать о его философии, о мотивах, побудивших его остаться в Израиле.
— Должен признаться, — продолжил он серьезным тоном, — мне до сих пор с трудом верится, что мне позволили остаться здесь жить и изучать законы мироздания. Если бы хоть что-то пошло не так, я бы вернулся в Америку и занялся своими делами. Но меня, как и тебя, интересовали только самые возвышенные вещи, наше наследие, передаваемое из поколения в поколение от отца нашего Авраама.
Да, я тоже интересовался только «самым возвышенным». Прозвучало это как типичный подхалимаж, но происходящее в принципе поражало меня так сильно, что я попросил его продолжить свой рассказ. Он произнес имена еврейских отцов-основателей на иврите: «Элохай Аврахам, Элохай Ицхак, Элохай Иааков». Земля обетованная получила не только завет, но и миссию стать царством священников, святым народом, чьи потомки количеством своим превзойдут число звезд в ночном небе. Пустынные отшельники, запертые в гетто, ищущие укрытие в Книге и Законе. Сегодня двенадцать колен снова слышат зов дома. Сегодня наступил день пророчества. Скоро снова придет Он, Единственный, чтобы сокрушить идолопоклонников, служащих Ваалу.
— В прошлом, — говорил Рубен, — мне довелось милостью Божией пережить опыт выхода за пределы формы, ощутить единство с самой сутью троицы Любовь-Бог-Существо. Все же нечто продолжало тянуть меня обратно в физический мир, я снова вступал на почву его дуальности. Тогда я думал, что причина кроется в самом моем теле, и я искал способы преодолеть его влияние окончательно и бесповоротно. Я соблюдал многодневные посты, занимался йогой, принимал пищу по рецептам макробиотики. А когда стал учиться, осознал, что все это невозможно, и вообще — противоречит законам мироздания. Я понял, что должен примириться с божественной любовью и принять в качестве цели просветления жизнь в материальном мире. И чем больше я учился, тем больше осознавал неизбежность тотального принятия этого простого вывода. Иначе я просто бы отвергал божественную любовь.
«Учение» употреблялось им в самом широком контексте и означало не только штудирование Торы и раввинских комментариев к ней, но также и понимание жизни, какой ее уготовил Господь своим приверженным чадам. Подобно Аврааму, посмевшему оспорить наказание Господом Содома и Гоморры, каждый ученик мог подвергнуть сомнению любую доктрину, предположить любую возможность, раскрыть самые тонкие нюансы Закона. Только первая заповедь оставалась непоколебимой и бесспорной. «Я твой Господь, и я вывел тебя из земли египетской. Да не будет у тебя никаких других богов кроме Меня». Основанием для всего сущего было как раз принятие этого Вечного.
— Изучение Торы помогло мне примириться с материальным миром, — говорил Рубен. — Традиционные обычаи, халаха, помогают душе реализовать цель творения и продвинуться в своем развитии. Мы едим мясо в шаббат не для удовольствия, но потому, что это мицва, священный долг каждого еврея, почитающего Закон. Мы здесь не для того, чтобы спасти мироздание, как это пытаются сделать, например, индийские аскеты, но для того, чтобы воплотить волю Божию относительно его творения. Это означает полнейшую интеграцию бесформенной любви с настоящим миром и с его двойственной природой, включающей в себя добро и зло. Мы называем это рацох вашав — танец ангелов, происходящий между Создателем и проявленной природой, где они проявляют себя в ипостаси посланников Бога. Это — наивысший экстаз, и возникает он на другом уровне опыта, возникает навсегда».
Некоторое время мы сидели молча, окруженные величием холмов Сиона. Потом Рубен повернулся ко мне и с хитрой улыбкой спросил:
— Ты когда-нибудь задумывался, почему на евреев все бочку катят?
Я ничего не ответил.
— Проведешь здесь немного времени, поймешь, — сказал Рубен.
Когда мы спускались с башни, к Рубену подбежали несколько студентов и начали возбужденно о чем-то рассказывать. Из разговора я понял, что одна женщина в иешиве получила серьезный ожог в результате взрыва плиты. Люди спешили в храм, чтобы помолиться за нее. Рубен схватил меня под руку, и мы вместе поспешили в храм, который располагался в старом классе с деревянной аркой. Закон гласил, что молитва возможна только при соблюдении миниана, то есть присутствовать должно не меньше десяти человек, и кажется, я в этот раз был десятым.
— Просто молись, — убедительно посоветовал мне Рубен, раскачивающийся и произносящий искренние мольбы из молитвослова на иврите. Я практически не знал иврита и стал просто повторять за ним его движения, и спросил, нормально будет, если я просто буду проговаривать «ОМ».
— Делай что хочешь, — сказал Рубен, — но только так, чтобы тебя никто не слышал.
Вскоре храм был переполнен людьми.
Позже, когда атмосфера немного разрядилась, мы вспоминали былые времена. У Рубена, решившего спуститься с небес на землю, теперь были жена и двое детей. Дети были важной мицвой. В настоящее время он был занят написанием книги о лечении. Он изучал Тору, и на страницах священных писаний ему удалось собрать обширный материал о лекарствах, молитвах и отварах. Он предложил мне пожить у него дома, а заодно и посетить несколько уроков в иешиве. Он даже пообещал устроить встречу с рабби:
— Ты еврей. Тебе нужно разобраться в этом. Здесь каждый когда-то скитался по миру, занимаясь чем угодно, но сейчас люди чувствуют, что пришло время возвращаться домой.
В школу входило и выходило множество людей, и Рубен рассказывал удивительные истории о каждом из них.
— Это особое место, — говорил Рубен. — Люди никогда не оказываются здесь случайно.
Он рассказал, что вскоре после войны сюда пришел рабби, вбил в землю столб и объявил это место храмом знаний.
— Да так и есть. Мы отсюда не уйдем. Мы построим здесь настоящую школу священных учений. Сюда многие приезжают. Даже Боб Дилан бывал здесь пару лет назад. Осмотрись тут получше.
Музей холокоста
Я посетил два утренних занятия. Обучение было интенсивным. Литературы оказалось так много, что на ее прочтение ушло бы несколько жизней. Преподавал эту науку молодой человек с ермолкой на голове в полосатом костюме, из-под которого свисали нити цицита — сплетенных косичек, которые надлежит носить всем мужчинам. Цицит служит как бы напоминанием о минимальном количестве мицв, которые необходимо сделать за день. Он говорил о том, что изучение Торы должно стать единственным смыслом жизни. Разумеется, нет ничего страшного в том, чтобы читать другие книги. Но как только к человеку приходит осознание, что еврейская душа может быть спасена только через Тору, отказ от ее изучения становится равносилен совершению духовного самоубийства.
После обеда Рубен показал мне музей холокоста. Ужасы катастрофы были очень натуралистично представлены здесь: груды обожженных костей, истощенные лица, пачки мыла, сделанные из тел мертвых евреев, фотографии Аушвица и Дахау, вырезки из газетных статей, посвященные «Хрустальной ночи» — первой массовой акции прямого насилия по отношению к евреям на территории Германии. Глаза куратора горели яростным огнем. У них с Рубеном была своя точка зрения на этот счет.
Мне показали еще один зал, в нем экспонировались свидетельства недавних вспышек антисемитизма. Здесь были представлены вырезки из газет Американской нацистской партии, статьи о собраниях ку-клукс-клана и некоторых вершителей самосуда из Висконсина — все они проходили военную подготовку и давали клятву вести «священную войну» до победного конца, пока все до единого еврея в Америке не будут убиты. Были здесь и фотографии недавних погромов и осквернений синагог, статьи о «всемирном жидомасонском заговоре», о «евреях на службе у сатаны», и тому подобный бред. Куратор, хорошо одетый, крепко сложенный человек лет тридцати пяти, почему-то был уверен, что я должен проглотить эти безумные антисемитские тирады все до единой. Один из заголовков гласил: «Он может выглядеть, как и ты... Но он не такой... Он — еврей».
Наконец мы вышли из этого зала и сели на скамье в коридоре, напоминавшем темный каземат.
— Ну как? — спросил куратор.
— Что «как»?
— Ну, зависит от тебя. Разве не видишь? Это снова повторяется. Они говорят, что это невозможно, что в современном демократическом обществе не имеет никакого значения, еврей ты или нет. Но что ты скажешь, когда они придут за тобой, чтобы запихать в печь? — он ткнул в меня указательным пальцем. — Даже если в тебе течет всего лишь одна капля еврейской крови, если ты отказываешься от своих еврейских корней, если все твои друзья — образованные высокодуховные христиане, они все равно назовут тебя евреем и заберут. Ты знаешь, почему это случилось? Это случилось потому, что люди, такие же как я и ты, наш народ — они отказались от своего наследия. Можешь сам прочитать об этом. В Библии это подробно описано.
Куратор посмотрел на Рубена, сидевшего в стороне с поникшей головой. В зале была полная тишина. Сейчас мне стоило бы уйти, но я просто не мог сделать этого. Я знал, что в его словах было много правды, но для меня они звучали слишком поздно. Я никогда не смог бы жить старым укладом. Я уже не мог принадлежать ни к какой стране, ни к какому народу, ни к одной идее. Я не цеплялся особо за жизнь, но и не отдавал себя в руки судьбы и смерти. Все оставалось тайной, и таковой оно должно быть для каждого.
— Ты рожден в теле, — отвечал я ему. — У тебя есть имя, призвание, религия и все такое. Можешь нести эту ношу на плечах, можешь подбросить высоко в воздух, но в любом случае, рано или поздно всего этого не станет. Не важно, сжигают ли тебя в печи, сбивают машиной, убивают ножом на улице, или ты становишься жертвой инфаркта, раковой опухоли или ядерного взрыва. Ты все равно умираешь вместе со своими верованиями. Но что остается от тебя после смерти? Юношеский порыв, зрелая ответственность или старческие боли? Есть ли ты вообще?
Все молчали. Над нами повисла мертвая тишина. Я чувствовал, что могу продолжать, раз уж раскрыл свои карты.
— Каждый божий день мы идем вдоль черты неизвестности. Мы идем беспомощные, в полном неведении. Мы приближаемся к черте страха и боимся переступить ее. Мы цепляемся за свои представления обо всем этом. Мы цепляемся, как можем. И мы готовы проливать чужую кровь за свои идеи: Аушвиц, Вьетнам, Камбоджа, Уганда, Эфиопия — какая разница? Все эти идеологии, философии, религии... каждый считает правым только себя.
Куратор раздраженно махнул руками и посмотрел в сторону Рубена безнадежным взглядом, говорящим: «Вот в чем проблема». Я собрался уходить и пожал руку куратору. В этом рукопожатии были выражены страдания и унижения всей расы. В его руке была сосредоточена крепость, твердость и горечь, решимость не допустить этого впредь никогда. Я вспомнил о могилах на Оливковой горе, а затем ощутил собственное несчастье и убожество. Я был напуган. Я боялся, что все мы зашли слишком далеко, что навсегда забыли о прощении, и люди больше не смогут примириться и не переродятся никогда.
Я думал о пастухах в пустыне. Они были частью этой земли. Это чувствовалось в их лицах, в том, как они идут через пески и колючки. Сегодня их выгоняли из дома. Их жизни и семьи страдали во имя какой-то идеи.
На пути в иешиву Рубен молчал. Он сделал все, что мог. Теперь мы остались просто друзьями.
Эйн Карем
Я вернулся в «Палм», в объятия музыки и ароматного чая, к стопке Библий на подоконнике, к разбитому зеркалу. В лобби все еще тусовались люди, а из магнитофона доносились пьяные звуки «The Doors». Я очень не хотел попадать под ее чары, но не удержался. Музыка обладала своей уникальной силой. Наверное, это был своеобразный «бхаджан» западного мира.
В зеленом кресле у стены сидела женщина. На ней были классические джинсы, свитер с коротким рукавом и стоптанные долгими путешествиями ботинки. Ее звали Лаура. Она работала учителем в одной из школ Анн-Арбор, но оставила службу и отправилась в путешествие. Мы вместе вышли на улицу. Магазины были закрыты, уличная жизнь постепенно стихала. Мы направились к Дамасским воротам.
Лаура жила в Иерусалиме уже не первый день и была в курсе всех событий здесь. Впрочем, она ко всему относилась со здоровой долей юмора. «Если хочешь понаблюдать за склокой, — говорила она, — не обязательно искать сирийцев или иорданцев. Достаточно посетить регулярное заседание Кнессета — они так орут друг на друга! Ты не поверишь!»
Мы поднялись по винтовой лестнице на стену. По крепостному валу можно было обойти весь Старый город. Теперь, когда город успокоился, можно было ощутить всю его силу. Старый город, святой город — он был очень настоящим. В нем пересекались события прошлого и будущего, купола и полумесяцы, его живая история была высечена на старых зубчатых стенах.
Лаура была очень логична, последовательна в своих рассуждениях. «Если начнется новая война, у Израиля не останется надежды», — говорила она. Но это ее беспокоило не так сильно. У нее были другие причины оказаться здесь. Она боролась с этим, но это было выше ее сил.
Один мой друг, ставший дзенским монахом, рассказал о своем мастере, который при первой же встрече высказал интересное наблюдение относительно духовного процесса:
«Одни принимают дзен, чтобы найти Бога. Другие практикуют дзен, чтобы избавиться от Бога... Я осознал, что мне никуда не деться от этого, — рассказывал мне друг. — Я пытался сбежать. Я думал, все это не имеет никакого значения, но я не смог уйти от Бога. Позже, разочарованный практикой дзен, я сказал своему мастеру, что ухожу. Он спросил — почему, и я ответил, что мне надоели коаны. Я собирался принять христианство.
— Ах, у христиан тоже есть коаны.
— Тогда я стану евреем.
— Да, но у них тоже есть коаны.
— Тогда я стану мусульманином.
— Но и у мусульман есть свои коаны...
Бежать было некуда. Отовсюду на тебя смотрели коаны — неразрешимые, парадоксальные загадки. Можно было не думать о них, скрываться за ритуалами, но они продолжали преследовать тебя до самого подножия креста. И мы просто ходили вокруг стены и обсуждали текущие события, оставив преследующий нас центр в покое, но в глубине души каждый из нас знал, что мы никогда не сможем сбежать от него.
Я сказал Рубену, что хотел бы ужинать с ним вечером следующего дня. Жена и дети его как раз уехали, и уютная компания была бы как нельзя для него кстати. Однако проснулся я, как всегда, ни свет ни заря, и передо мной открывались просторы долгого дня. Я сел в автобус и отправился в Вифлеем, чтобы посетить церковь Рождества Христова. Всю дорогу от Иудеи до Вифлеема автобус подпрыгивал и раскачивался под ритмы «The Doors».
Церковь построена на том месте, где согласно легенде родился Иисус. Сегодня она принадлежит трем разным конфессиям — греческой ортодоксальной, римской католической и армянской церквям, и у всех них есть отдельный вход. Правда ли, что именно в этом удивительном месте совершилось удивительное рождение? Интересно, тогда в Его доме тоже было три входа, символизировавших рождение еврейского ребенка?
Я нагнул голову, чтобы пройти сквозь низкие двери, сделанные такими специально для защиты от всадников-мародеров, прошел через главный хор и попал в Грот Рождества. Темные стены были покрыты гобеленами. Подергивающееся пламя свечей освещало путь. Место Богоявления было отмечено небольшой звездой, висящей в восточной части священного грота. Я закрыл глаза и попробовал ощутить святость момента.
Я прошел в римско-католическую часть церкви. Там находился алтарь святых великомучеников, а также келья, в которой святой Иероним переводил тексты Священного Писания. Вера и путеводная звезда привели волхвов по дороге Священного Писания к яслям в то самое место, где небеса сошли на землю, сделав ее страной веры. Но горожане, потягивающие густой турецкий кофе снаружи, были куда меньше взволнованы этим фактом. Они были добродушны и миролюбивы, с радостью принимали каждого, кто хотел просто «позависать» здесь. Но было не так-то просто беззаботно тусоваться там, где однажды появился Спаситель мира. Даже если ты и не был святым, тебе стоило по крайней мере попытаться стать им здесь.